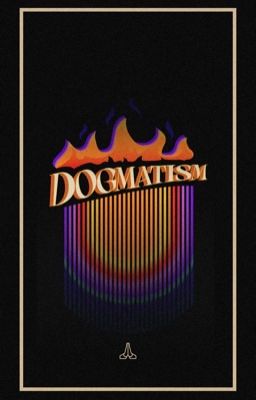6: Чужие ботинки
"Возьми обувь его, пройди его путь.
Попробуй слезы его, почувствуй боли.
Наткнись на каждый камень, о который он споткнулся".
— Далай-лама XIV
В школе еще не было так суматошно — по крайней мере, Чон прежде с таким не сталкивался: с самого утра гудят возбужденные голоса учеников, преподаватели мечутся по коридорам, вытирая старые наморщенные лбы от пота, учеба вся идет как-то наперекосяк, неровно, криво, сорвано, а Бабах дергает на каждой перемене, заставляя разогревать голоса.
Причина одна: Леди Мун.
Но Чон не чувствует совершенно ничего: с воскресной мессы прошла уже неделя, а он все еще будто бы не вышел из той церкви. Отчего-то тяжко и тошно, как будто воздухом никак не надышаться, как будто на легкие набросили колючие цепи, а мысли сомкнули в тиски...
Темное небо за массивными каменными стенами школы давит, всем весом ложась сверху, пока он медленно, шоркая ногами, идет по не освещенному коридору, уставившись под ноги; едва прикасается рукой к ребру, но уже не шипит, не кряхтит и не кукожится: все же удалось избежать внутреннего кровотечения да и без перелома обошлось, так что, жить, вроде как, будет — но он не вполне понимает, радоваться ему или нет... Ладно, он разберется с этим потом.
— Эй, — пихает Чонгук в плечо, обгоняя по пути в раздевалку — звонкий голос одиноко бьется по тишине коридора, — приходи после хора ко мне, — он хитро улыбается, останавливаясь, — я притащил немного вина из города... Сегодня пьем Кровь Христа!
— Но я же... — едва заговаривает парень.
— Скажешь родакам, что выступление растянулось, — он чуть сильнее сжимает его плечо, улыбается, — мы заслужили это! Бабах нас всю неделю на кулак натягивал, так что после выступления... О, Чимин, — парень быстро переключает внимание, не заканчивая мысль, когда видит приближающегося парня, — ты же придешь? Красное сухое, а еще тетушка запихнула крекеров и печенья...!
— Еще не знаю, — белокурый пристраивается к ним в ряд, — не хочу встречаться с Юнги, а он ведь точно припрется...
— Это все из-за той перепалки на репетиции? — Хосоку неловко, и он не смотрит на Пака — смущенно прячет руки в длинные рукава кофты, чуть горбясь, пока они шагают по коридору: кажется, это было уже в прошлой жизни.
— Не только, — холодно отвечает он, — с Юнги очень сложно порой общаться... — Чимин фыркает, — я с ним больше никогда не заговорю, пошел он нахуй.
— Я это слышу уже раз десятый, — Чонгук, закатывая глаза и смеясь, легонько бьет Чимина в грудь, — не пройдет и недели, вы опять вместе будете по углам шушукаться, как голубки, — парень вновь обращается к Хосоку, — они дружат с самого детства, наверняка, из-за ерунды поссорились... скоро и не вспомнят, из-за чего.
— В этот раз все серьезно! — Чимин обдает Чонгука холодным взглядом, переводя затем его на Хосока, — и вообще... отъебись, заебал.
В раздевалке шумно и суетливо: парни, громко переодеваясь, быстро снимают с себя теплые кофты, футболки, натягивая на себя казенные уродливые серые рубашки, застиранные уже, наверное раз на сто; Чон неловко одергивает собственную белую рубашку, в которой пришел — в общем-то, единственную рубашку, которая у него есть, но и она выглядит куда лучше...
Понимает, что придется переодеваться для выступления, застывая, задерживая дыхание.
На секунду он цепенеет — синяк у него на ребрах уж очень разросся и еще совсем не рассосался - мерзкая красно-синяя середина, уродливо расползающаяся сине-фиолетовыми полосами по краям, вливаясь во что-то желтое: такой уж точно не останется незамеченным, а глаз здесь с десяток... Стыдно. Он не может смотреть на себя.
— Че застыл? — Чимин грубо передает ему сложенную выглаженную рубашку, — мы и так уже опаздываем, Бабах нас растянет...
Чон с выдохом расправляет ее — она безнадежна велика и бесформенна...
— Это, конечно, не как в школе Пресвятой Девы Марии, — почти издеваясь, хихикает Чимин, видя скошенное лицо хориста.
— Да нет, я... — пытается оправдаться он и вместе с тем растянуть время: он переоденется после того, как закончат остальные, — нормальные рубашки...
— Уродливые и ущербные, — Чонгук стоит уже обнаженный по пояс, и Чон едва заметно удивляется торчащим ребрам младшего — Боги, он что вообще не ест? Почему он такой худой? — ...но они хотя бы есть, - парень отворачивается к стене.
— Оболтусы, поживее! — громкий голос хормейстера сеет тишину в раздевалке, заставляя парней переодеваться быстрее, — Леди Мун уже в школе, а мы еще даже не репетировали! Быстро, быстро в зал! Чон! — резко гаркает он, впиваясь взглядом в Хосока — тот застывает на месте, — ты почему еще не
переоделся? Требуется специальное приглашение?
— Я...я... — начинает он делать вид, что суетливо расстегивает пуговицы, неумело несуразно притворяясь, опуская взгляд, — да... да...
— Быстрее, ради всех Святых! — он обводит взглядом небольшое темное помещение, — кто уже готов, живо на выход! Чимин, поторапливайся, на разогреве ты совсем не старался! А стоило бы! Ты ведь на хорошем счету у леди Мун! - мужчина тяжко выдыхает, промокая блестящий лоб белым платком, — Скорее в зал, начнем с тебя! — указывает рукой, — Чонгук, ну заправь ты рубашку, стыд-то какой! На выход, на выход! Давайте!
Суетливый топот ног гремит по деревянному скрипучему полу, что вибрирует — Хосок, стараясь быть незаметным, плавно отходит к задней стене раздевалки, медленно расстегивая пуговицы на своей рубашке; не мигает, наблюдая, как в помещении почти не остается людей и облегченно выдыхает, когда дверь закрывается и он, наконец, остается один — Бабах гремит уже где-то в коридоре, голоса хористов стремительно утихают, перемещаясь к школьной часовне, и Чон остается наедине только с собственным учащенным сердцебиением.
Пальцы быстро перепрыгивают от пуговицы к пуговице, снимают рубашку с одного плеча, со второго...
Дверь открывается, а Чон не успевает отвернуться к стене или прикрыться — уже поздно; вызывающий отвращение сине-зеленый синяк, расплывшийся по грудине — первое, что видит вошедший внутрь Мин Юнги; второе — испуганное взволнованное лицо Хосока, чьи брови подскакивают на лбу; третье — то, как он быстро разворачивается к стене, хватает серую рубаху и начинает быстро натягивать ее на себя.
— Я... с велика упал позавчера, — быстро бубнит он, чувствуя, как розовеют щечки — ну почему он зашел так невовремя...?.
— Я так и понял... — Юнги еще какое-то время смотрит на Хосока, хмурясь, почти что не веря ему...
Пианист отворачивается к противоположной стенке, но оглядывается через плечо, одновременно с этим снимая кофту с себя: какой-то Хосок странный... приглядывается — надо же, синяк заполз даже на спину... это же надо было так грохнуться...
— Что это за леди Мун такая, м? — звучит голос парня позади, когда Мин начинает думать, что они обойдутся без слов и даже как-то тяжело вздыхает: бывают дни, когда говорить с другими людьми еще тяжелее, чем всегда — сегодня как раз такой день.
— Почему с нее все пылинки сдувают? — продолжает Хосок, и Мин готовится к тому, чтобы дать какой-нибудь односложный ответ:
— Она занимается благотворительностью... и большую часть этих денег вносит в нашу вонючую шаражку, — натягивает форму на бледное тело, глядя перед собой, — это не особо видно, да? — усмехается, а слова почему-то продолжают ползти из его губ, — ладно, могу преподов понять, но ты заметил, как все остальные из кожи вон лезут, чтобы ей понравиться?
— А? — заканчивая, Хосок поворачивается к Юнги, заправляя безмерную рубашку в брюки, почти что висящие на нем.
— Бывает, что она помогает сиротам, вроде нас... — оступается на слове, — вроде меня... устроиться в жизни, — он застегивает последнюю пуговицу на горле, — устраивает в училища и все такое... дерьмо полное.
— Почему это? — Чон приближается.
— Ненавижу лицемеров. Ненавижу, когда так вылизывают задницу и стелятся, унижаются, — парень фыркает, — всего лишь мерзкие жалобные подачки, чтобы себя успокоить... Обойдусь без них и слезливых взглядов.
— Подачек? — он даже усмехается, — ты не думал, что это может быть... искренняя помощь? Помощь — это не плохо, — дергает плечом, застывая рядом с музыкантом.
Он не поворачивает головы, продолжая глядеть точно перед собой, только недовольно мотает ей из стороны в сторону, недовольно выпячивая губы:
— Уж явно не от этой Леди Мун, — парень на ходу заправляется, быстро перемещаясь затем к двери — Хосок следует за ним.
— Ты свечку держал? — Чон качает головой, — откуда ты знаешь, что она не хочет искренне помочь?
Мин почти смеется, но ничего не говорит в ответ Чону, чтобы не обидеть его детское видение мира: возможно, этот парень и впрямь слишком уж наивный и еще не понимает, что ничего искреннего, на самом деле, нет. Он видит леди Мун насквозь, и ему тошно только от одного ее присутствия в стенах школы; ему тошно, как все носятся с ней, ему тошно, что все придумывают эту невыносимую иллюзию напущенной важности и торжественности от ее приезда; тошно от того, что все начинают верить в придуманную надежду, которую она может дать, тогда как она всего лишь жена какого-то там местного политика, которой просто скучно сидеть дома, вот она и разъезжает по таким школам, притворяясь святой.
Ему тошно от того, что у нее есть такая власть над всеми...
Он точно знает это — по-другому быть не может. Весь мир буквально устроен так — и Юнги не понимает, почему все вокруг него слепые... или притворяются таковыми.
— Если коротко, то я еще не встречал таких людей, которые могли бы искренне помочь, — сдержанно отвечает парень, — все люди - эгоисты, и это непреложная истина, — сухо смеется, — догма, если хочешь. Каждый поступает, исходя из личных побуждений, чтобы, в первую очередь, было хорошо самому себе, только потом другим.
— Но ведь... забота о самом себе не исключает возможности искренних побуждений по отношению к другим? — Чон сопротивляется, — а ставить себя выше других — это тоже нормально, но... — он задумывается, — так все люди корыстны, хочешь сказать? Только так и никак иначе? И так уж нет ни одного человека с добрым, открытым сердцем? — Чон ухмыляется, — мне кажется, ты просто хочешь видеть мир в черных красках...
— Хочу? — вырывается, — он и есть такой.
— Да ну? — Хосок выпрямляет спину, начиная шагать быстрее, переходя на опережение — краем уха он уже слышит, что хор начинает распеваться, и голоса их летают меж невысоких сводов впереди, — тогда подумай, вот над чем, — он останавливается, начиная глядеть на пианиста, — в чем была моя корыстная выгода и польза, когда я дал тебе списать на той контрольной? — зрачки серых глаз собеседника сужаются, — Подставляя самого же себя, рискуя...?
Чон Хосок быстро разворачивается, почти что убегая из коридора в зал, Юнги же остается стоять на месте, не в состоянии удержать собственные мысли, которые вдруг убегают вслед за солистом.
***
Присутствие леди Мун ощущается, стоит зайти в комнату - ее может быть даже не видно, но это чувствуется, как фундаментальная истина, вроде всемирного закона тяготения; в то же время это летает в самом воздухе, в невидимых нитях, переплетающихся где-то в небесах и соединяющихся с помощью всевластных рук всевидящего Творца, ловко управляющегося с судьбами; это понимание проявляется в запахе дорогого парфюма, расползающегося по залу, терпкими нотками оседая в ноздрях и ложась на одежу и волосы; слышится в звонком певческом смехе — она тоже занималась вокалом: Чон слышит нотки дивного сопрано в ее мягком голосе.
И еще — больше всего — это ощущается во взгляде. От него не укрыться за головами других хористов, не спрятаться за их телами и не сделать вид, что ее не заметно. Она — везде. Она во всей этой часовне почти что единственный зритель и слушатель — потому что она попросту затмевает других. Голубые глаза дергают Хосока и пронизывают его насквозь, обнажая; но ее не интересует одежда — леди Мун интересует не она, а то, что спрятано под ней, под кожей, потаено меж костей и мышц, то, что укрыто глубоко в груди: в Библии это называют душой.
Когда Хосок поет, с легкостью лавируя в излюбленном многоголосье, он ощущает, что в какой-то момент он вдруг вылетает из этой небольшой часовни, выстроенной в форме креста; он уже точно покинул пространство нефа, перечеркнутого трансептом, перемахнул через алтарь, бросился прямиком через южную дверь и, не удерживаясь, взлетел до чистого света над головой, до небесной синевы, до искрящегося блеска... но здесь он не один — леди Мун следует за ним по пятам, увязывается, бежит, цепляется своими миниатюрными руками в черных перчатках; ее не обмануть и ей не солгать — Чон чувствует, что она проживает каждый звук и каждый вздох вместе с ним, она вытягивает подбородок, приоткрывает губы, задерживает дыхание — так, как будто ей и правда это важно, так, как будто в этом всем и правда есть... хоть какой-то смысл.
Леди ждет, чтобы он хотя бы раз ошибся или сбился, но голос его тверд и уверен, чист: сегодня ничего не мешает ему петь; молодой человек дышит животом, втягивая воздух без боли, он возвышает Бога, он отрывается от земли, хватая женщину за собой...
Музыка скользит по каменным сводам, ударяется в выцветшие витражные стекла, просачивается меж трещин в стене, находя, наконец, выход наружу, по пути волной опадая на слушателей; Чон слушает себя и других, но взлететь еще выше ему помогает... пианист.
Он отталкивается от клавишных нот, что виртуозно прыгают по аккордам, высвобождаясь из под сухих пальцев музыканта: Юнги тоже смотрит на него неотрывно, но из-за взгляда леди его совсем не видно, он плетется где-то позади, а леди вырывается вперед, почти что глумясь над ним: может, покажешь мне что-то больше, Хосок? Удивишь?
Он не поддается на провокации, не нарушает общий строй, не вырывается вперед, не заставляет свой голос сиять ярче, чем нужно, довольствуется тем, что дает ему музыка сейчас: ему спокойно, светло и Чон сейчас больше на небесах, чем на земле...
Аплодисменты собравшихся силками тянут его вниз, привязывают к земле, словно корабль в пристани, и выбивают из головы все то воздушно-небесное, возвышенное... он опять в холодной темной школьной церкви среди земных смертных с угрюмыми лицами, ему опять нужно что-то делать, с кем-то говорить... он опять должен мириться с тем, что ему не хочется домой.
Леди Мун на него больше не смотрит - как будто никогда и не смотрела... и он отчего-то вновь чувствует себя покинутым и одиноким, непонятым. Может, ему только показалось все это, все то, что сейчас произошло?
Едва переводит взгляд по залу вбок, и на лице проскакивает невидимая улыбка: он видит знакомое лицо девушки, с которой познакомился в прошлое воскресенье... Йонг Мун — младшая дочь этой женщины. Старшая тоже сидит рядом — ее Хосок не знает.
Хористы покидают алтарную часть храма ровным строем, двигаясь к восточным дверям, когда там появляется пастор Дондук — его Хосок уже не слышит, заново переживая мгновения единения с Музыкой: хотя нет, он не был не на возвышении алтаря, он был куда выше; парни под боком о чем-то переговариваются, обсуждают, тихо смеются, но Хосок и сейчас глух — определено точно требуется время, чтобы отойти от такого.
Он снова ищет взглядом леди Мун, но натыкается на другой — игривый, смеющийся, заинтересованный... молодой. Йонг Мун быстро глядит через плечо, глядя на свою мать — она уже стоит в компании пастора и директора школы.
Она улыбается, вставая со скамьи, уверено продвигаясь к нему — Хосок отчего-то останавливается, ожидая ее приближения, лишь на мгновение зачем-то оборачивается; хористы выходят через небольшие двери восточной стены друг за другом, пианист выходит последним — они быстро встречаются взглядами: мимолетными, ничего не значащими, незаметными, почти что случайными... Юнги еще раз быстро смотрит за его плечо и поспешно оборачивается, скрываясь в коридоре школы.
***
— Стой... подожди..!
Юнги ускоряет шаг, не оборачиваясь — сердце стучит так сильно, что самому неловко: он не должен чувствовать это, он должен быть хладнокровным, сдержанным. Ему все равно, абсолютно... Все равно...
— Мин Юнги! — женский голос разрезает сводчатый коридор, в котором почти нет света — впереди шагающие участники хора вдруг, все, как один, оборачиваются на него, затем начиная хихикать и ускорять свой шаг в сторону спален на втором этаже: пианист тяжело выдыхает — вечером от них не оберешься, будут выспрашивать подробности и перемывать косточки...
Юнги останавливается, выдыхая: коридор становится невыносимо пустым и удобным для разговора, от которого теперь точно не убежать.
Ебучая ситуация. Как же хочется курить...
— Почему ты меня избегаешь? Я что-то сделала не так? — Ёнджи останавливается за его спиной, не смея приближаться, — после того как... — она сглатывает, понижая голос, — ...ты даже не смотришь на меня. Не отвечаешь на письма... мы не виделись два месяца, ты даже не поздоровался...
Парень разворачивается и, потирая шею, глядит на нее: зачесанные в тугой пучок каштановые волосы, непослушно выбившаяся прядь, большие глаза, сомкнутые, дрожащие губы... кожа как фарфор — она стала еще бледнее с прошлого раза.
Хотя, когда они виделись в последний раз, волосы ее были растрепанными, щеки горели румянцем, а губы стали розовыми, после того, как...
— Что я сделала не так? — умоляюще девушка задает вопрос, начиная разглаживать подолы своей светлой в цветочек юбки — просто объясни... Я пойму... — шмыгает носом, — ты считаешь, я не должна была так поступать? - дергает плечом, - стыдный для верующей девушки поступок... Это было непристойно? Но я причащалась, пастор все мне объяснил... Отпустил мне это...
— Ёнджи... — голос его скрипит, в горле пересыхает: Боже, будь милостлив, избавь меня от этого...
Он оглядывается вокруг и хватает ее за руку - резко, но не грубо, почти бережно прикасаясь к тонкой холодной коже, отводя в бок — к двери в крохотное подсобное помещение, которое когда-то служило монахам складом. Мин не может даже начать говорить в коридоре - он чувствует себя обнаженным, незащищенным, прослушиваемым со всех сторон... а если кто-то войдет?
Внутри тесно, темно, наставлены ведра и швабры, пахнет мокрыми тряпками... Юнги плотно закрывает дверь, твердо держа ручку, глядит на девушку напротив; она сковывает руки в замок, глядя под ноги:
— Ёнджи... — пытается продолжить Юнги, но совершенно не понимает, что ему сказать — лучше бы она не приезжала, лучше бы тогда он не делал этого, лучше бы вообще ничего этого не было...
— Юнги, мне казалось, что я нравлюсь тебе, — выпаливает быстро девушка, — и все было так хорошо, и я... ты... тебе не понравилось? Скажи мне, я не знаю, что и думать.
Говорить всегда сложно, но сейчас просто немыслимо, он приоткрывает рот, но теряется в мыслях, а внутри все ходит ходуном: он ничего не понимает, и от этого хочется стукнуть себя — все равно, что бесчисленное количество раз пытаться попасть ниткой в ушко крохотной иголки, когда руки трясутся, а зрение все никак не может сфокусироваться...
— Мне понравилось... — только и выдает он, — мне понравилось целоваться...
Голос его пропадает, и он не может договорить фразу:
«Мне понравилось целоваться, но...»
— Мне тоже, — она мгновенно краснеет, убирая прядь за ухо, но все так же не поднимая глаз, — я все думала о том, как это произошло и я... думала о тебе, — девушка поднимает взгляд, — каждый вечер. Юнги, ну скажи уже хоть что-нибудь...
А, может, он не до конца в себе разобрался? Не понял? Перепутал чувства? Или было мало? Может, нужно просто... попробовать еще?
Он молчит — молчит, потому что не хочет ничего говорить, потому что ему нечего сказать, потому что иногда он презирает слова, потому что иногда они бесполезны, не имеют смысла.... Потому что иногда слова не предназначены для того, чтобы быть произнесенными.
Он распрямляет спину, отпуская ручку двери и делая небольшой шаг вперед, почти вплотную приближаясь к Мун, сразу слышит, как тяжело она начинает дышать, как вдруг вздымается ее небольшая грудь.
Он чуть наклоняется вперед, к ней, к Ёнджи, будто бы последние мгновения думая над тем, что собирается сделать — она выглядит еще более напуганной, раскрасневшейся, смущенной, но не отступает назад: попросту некуда... В натяжном ожидании она приподнимает подбородок, но не глаза. Тянется вперед, совсем уж краснея, замирая, прекращая дышать, удерживая сердце в грудной клетке из последних сил...
Юнги притягивает ее ближе и прижимается своими губами к ее губам — небольшим, упругим, сухим; Ёнджи совсем тихо выдыхает, подаваясь ближе, по-хозяйски притягивая его руку к своей талии: он не сопротивляется и делает еще один шаг вперед, начиная прижимать ее к холодной каменной стене.
***
— Я же говорила тебе, что мы еще встретимся, — Йонг останавливается в шаге от Хосока улыбаясь и пряча руки за спиной, — ты очень понравился моей маме, — девушка довольно улыбается, бросая головой в сторону леди Мун, что все так же стоит рядом с пастором, — и мне, — затем одергивает себя, — в смысле.... то, как ты пел! — восторженно раскрывает глаза, — Мы прежде такого никогда не слышали!
— Спасибо, — скромно улыбается молодой человек, быстро кивая.
— Верь мне! — она прикрывает рот рукой, чуть наклоняясь к парню, — не пройдет и месяца, позовет тебя к нам на званный ужин выступать перед всеми этими скучными дядьками, которые у нас чуть ли не каждые выходные, — хихикает, отдаляясь, — и, поверь, там намного скучнее, чем в церкви... ой! — она прикусывает язык, -я не должна была так говорить да? — она оглядывается по сторонам, почесывая затылок и будто бы вспоминая, что находится в церковной школе, — ты ведь, наверное, верующий?
— Все в порядке... — сглатывает, — я...
— А, тогда класс, — быстро оправляется девушка, перебивая, — а то я подумала, что... — смеется, — неважно... значит, ты - нормальный...
— Что ты имеешь в виду? В смысле? — хмурится.
— Эм... ну... ха-ха.... Что с тобой можно поговорить? Что ты не кусаешься? — лицо быстро заплывает румянцем, и она чешет затылок, — здешние не особо хотят со мной дружить, сторонятся... Ну, конечно, они же с Ёнджи лучше дружить будут, чем со мной, — отводит голову в сторону, недовольно скрещивая руки, — ладно, это я так, — снова улыбается, — я тут краем уха услышала, что ты... ты городской, получается? — чуть склоняет голову, — в городе живешь?
— Да, я здесь учусь... по некоторым обстоятельствам, а сам из города, - он мельком рассматривает ее кудряшки, вновь удивляясь большим глазам и розовым губам...
— Так это здорово! — она ухмыляется, — значит, сможем вместе гулять. Ты где живешь? Знаешь район новой школы в третьем квартале..?
— Да, я живу по соседству, — Хосок улыбается, — так мы соседи?
— Сосе-е-е-д! — радостно тянет девушка, опять вдруг одергивая себя, — черт, маменька опять будет ругаться, что я веду себя не так, как подобает леди, — шикает, — черт, нельзя же в таком месте говорить слово «черт»... Я на самом деле не такая беспокойная, наверное, думаешь, что я пришибленная, ха-ха... я просто волнуюсь...
Девушка взволнованно перебирает свои пальцы и слегка горбится — Чону отчего-то смешно; она почти что несуразная и забавная, но ее напористость даже слегка коробит... с другой стороны, мама всегда говорит, что заводить друзей — богоугодно, ведь все должны жить в мире и согласии.
Дружить — это хорошо.
— Почему ты волнуешься? — он склоняет голову, не понимая, не осознавая, что Йонг старательно избегает его взгляда.
— Я раньше не заводила друзей... ну... вот так... — смущенно улыбается, — боюсь сделать что-то не так, вот и все... — она вдруг выпрямляет спину, выдыхая, — ладно, — протягивает руку для рукопожатия, — я была рада встрече! Если забудешь, какой придурошной я сейчас была и дашь мне шанс, то поймешь, что я — классная! Когда ты будешь свободен, чтобы погулять вместе?
***
Чон Хосок впервые оказывается в студенческой комнате: представлял он ее иначе — почему-то ему думалось, что это будет одно большое помещение с выставленными в ряд койками — скорее как в больничной палате, в которую он как-то попал с лихорадкой в детстве; воображение рисовало скучные зеленые стены, скрипучие сетки под изношенными матрасами, выцветшие старые занавески на окнах, а тут...
— Точно... — говорит он себе под нос, осматривая крохотную комнату, где едва ли можно было развернуться вдвоем, — здесь же раньше был монастырь?
— Да, и поэтому комнаты у нас переделаны из келий монахов, которые совершали сюда паломничество, — соглашается Чонгук, падая на кровать и пролезая рукой куда-то за ее изголовье, — мне рассказывали, что ученики раньше жили там, где сейчас находится школьный лазарет, а сейчас вот... Хоромы размером с гроб! Зато слышно храп и пердеж только одного соседа, а не сорока. Все в сборе? — парень оглядывает человек пять, уместившихся на двух кроватях за миниатюрным столом, — можно дверь закрывать? Чон, видишь стул? — парень кивает в сторону старого деревянного стула со спинкой, — запри им дверь...
Хосок хватается за него, оборачивается, затем замечая в полу едва заметные выбоины, размером как раз подходящие под ножки стула — переводит взгляд на ручку, понимая, что все это всего лишь несложный механизм замка: чтобы никто лишний случайно не увидел Кровь Христа на столе...
— Юнги разве не подойдет? — он интересуется, оборачиваясь, задерживая движения: парни пожимают плечами — никто его не видел после его встречи с Ёнджи.
— Наверняка, у него сейчас дела поважнее, — ухмыляется Намджун, протягивая руки к бутылке, которую достает Чонгук, — обжимается, поди, с дочуркой леди Мун.
— А? — Хосок мгновенно оборачивается, — с... кем? — не понимает, — с Йонг что ли? Да нет, бред...-
— Ага, с Йонг, ну, конечно! — смеется Чонгук, — со старшей, с Ёнджи.... А Йонг...
— Интересная она, конечно, — Намджун потирает нос, продолжая за Чонгука, — у нее, кажется, не все дома, — крутит у виска, — а вот Ёнджи зачетная...
— Странно, что она вообще запала на этого придурка, — все с такой же обидой кидает Чимин, подзывая Хосока рукой, — тебе наливать?
— Один глоток, — Хосок устраивает стул в высечках на полу, подставляя его под ручку, чтобы никто не зашел, — не люблю, когда Христа во мне слишком много, - он прочищает горло, - так они... Юнги... встречается с дочкой леди Мун?
Отчего-то эти слова очень странно произносить — еще страннее ощущать то, как язык почти что обжигается, прячась затем в пересохшем горле; сердце на самое мгновение замирает, пропуская всего один удар — очень быстро, даже незаметно, не отчетливо, без видимых изменений: все равно, что взмах крыльев бабочки.
— Вроде как, — Чонгук легко пожимает плечом, раскрывая упаковку с хрустящими крекерами, — но я слышал, что они того...
— Чего — того? — парень по имени Тэхён вытягивает подбородок, впиваясь взглядом в парня напротив.
— Ну... того! — многозначительно отвечает Чонгук, понижая голос, — правда обжимались... типа по-настоящему... ну... помните, когда мы месяца два назад ездили в город на благотворительный вечер? Юнги часа на два куда-то исчез, его потом Доебук в школу привез, — парень откусывает крекер, — он потом недели две как воды в рот набрал и ходил мрачнее тучи. Помните, пастор ему еще наказаний влепил по самое не хочу...?
— Чего... Они это прямо в церкви?... — Тэхён не унимается, прикладываясь к стакану с вином, затем щурясь от слишком горького вкуса не лучшего пойла.
— Ну да... — он размышляет, склоняя голову, — а, может они успели и до ее дома дойти, пока леди Мун и младшая кормили бесплатными обедами бедняков? — он хихикает, принимая стакан из рук Тэ, — уж на диване куда приятнее, чем в темной ризнице. Вот прикол.
— Ну и кто тебе сказал? — недовольно выдыхает Чимин, перекрещивая руки, — Юнги ни за что бы тебе этого не рассказал, а если он даже мне этого не рассказал, значит, все то, что ты сейчас говоришь — брехня полная, — Пак дуется, скрещивая руки, — собираешь, как бабка базарная, слухи, а потом из-за таких, как ты вся школа на ушах стоит, придурок. Поменьше болтай, Чон.
— Ты-то чего взъелся? — Чонгук не понимает, — тебе разве не похуй на него, вы же теперь никогда не помиритесь!
— Я уж сам решу, что с этим делать, твое дело - не пороть чушь!
— Знаешь, как говорят? Не бывает дыму без огня, — Чонгук осушает стакан до дна, — это раз. Два — я видел, как они тогда целовались за углом, в городе, — он кривит лицо, вспоминая, — Три — это факт, что в тот вечер он куда-то запропастился, за что ему потом пастор пизды вставил.
— Все равно — не знаешь, не говори, — стоит на своем Пак, — знаешь сказочку про мальчишку, который кричал «Волк»? Твои слова потом ничего стоить не будут. Да даже если бы и было это правдой, а, может, так и есть, хули ты разносишь это, язык слишком длинный?
Хосоку здесь совсем не хорошо. Ему неприятно тут находиться, но еще больше ему неприятно все это слушать: все это плохие слова, мама всегда говорит ему, что сплетни и слухи — это все от лукавого... нельзя так говорить, нельзя...
Но в какой-то момент, на самое мгновение, он ловит себя на мысли о том, что ему бы... ему бы хотелось, чтобы все это и, правда, было только пустыми словами, сплетнями... Но какая ему разница? И почему вдруг в голове всплывает лицо той, старшей дочки, что сидела рядом с Йонг в зале? Она вспоминается красивой - аккуратные кукольные черты лица, чистый взгляд...
Смотрит на наручные часы — можно задержаться еще на пару минут, но он... не хочет.
— Мне нужно идти, — он ставит едва отпитое вино на край стола, — спасибо, но мне надо торопиться...
— Так мало? Оставайся еще, — Намджун настаивает, — мы же еще совсем ничего о тебе не знаем... Почему ты перевелся к нам из школы Пресвятой Девы Марии и все такое?
— Да ладно, Джун, не старайся, так и скажи, что всего лишь хочешь узнать, если ли у него подружка, и перетерь за это, — хихикает Чимин, а Хосока отчего-то сковывает неловкостью, — отстань от человека — ему есть куда возвращаться... пусть идет.
— Да, я бы на его месте тоже здесь надолго не задерживался, — поддакивает Чонгук, — но ты если что... мы всегда рады. Ты не отстойный, как я в начале думал...
— Ты думал, я отстойный? — он хихикает почти сквозь зубы, делая вид, что не расслышал первую часть предложения.
Но он расслышал его в деталях.
«Да я бы на его месте.»
Да что вы знаете о моем месте..!
Он почти возмущен и почти собирается что-то сказать — по глазам бьет воспоминаниями о сильной отцовской руке, в ушах стоит нечеловеческий крик сестры, на запястье чувствуется хватка матери, умоляющая, чтобы он не перечил Чонгу...
«Да я бы на его месте»
Выдыхает. Он и сам ничего, совершенно ничего не знает об их месте.
— До завтра, — только и отвечает он, убирая стул от двери.
***
В этом небольшом укромном закутке хорошо сидеть как раз в такое время: когда все после занятий уже разбрелись по своим комнатам, а до ужина еще слишком рано; обычно в этот час многие делают домашку или отбывают наказание, натирая полы дочиста, переписывая священные писания, молясь, но многие просто спят.
Здесь спят очень много, даже в будние дни — Юнги видит в этом смысл: во сне они меньше видят реальность. Сновидения — единственное место, куда можно сбежать.
Широкий низкий подоконник на первом уровне лестницы, ведущей от первого этажа к спальням-кельям на втором чуть ли не единственное место во всей школе, где можно укрыться от прочих — по крайней мере, на время: всегда слышно, когда кто-то спускается сверху и всегда видно, когда кто-то внизу. Но сейчас золотой час — его не должны беспокоить.
Он смотрит через мутное окно в сводчатый, изрезанный ссохшимися арками коридор, выводящий в бесцветный осенний клуатр, тонущий в лужах и грязи; с улицы веет холодом приближающейся зимы и влажностью еще царствующей осени, через дырявые оконные арки поддувает колючим посвистывающим ветром. Еще немного, и станет совсем мерзко — для него каждый раз удивительно переживать очередную зиму, которой ни конца ни края не видно...
Поджимает колени и устраивает на них подбородок — он знает, что у Чонгука сейчас пирушка, но выстрелить себе в голову сейчас легче, чем разговаривать с собравшимися там. Курить все еще хочется и еще сильнее, чем прежде, но погода расставляет его приоритеты, и он выбирает остаться сухим.
Шмыгает носом: как все погано.
Абсолютно все, все погано, неправильно, глупо, тошно, а Ёнджи...
Он прячет нос в коленях, ощущая, как все кишки перемешиваются в кашу, волнением поднимаясь выше, к самой глотке; все так размазано, как если бы его чувства рисовал случайным образом слон в цирке — намешанные цвета, неровные линии, отсутствие смысла и сюжета: простолюдины будут хлопать слону, творцы увидят отголоски настоящего искусства и вдохновятся, а ему все больше захочется сдохнуть.
Слышит шаги сверху, но решает не рыпаться с места, надеясь, что его обойдут стороной, не заметят; слишком сложно сейчас поднимать задницу и кошкой бежать в другое место — а ну его к черту, даже если будет при смерти, не сдвинется. Он проходится холодными пальцами по еще горячим, пульсирующим губам, растирая их, сдирая засохшую трескающуюся кожу, будто бы пытаясь содрать то, что там было... Почему все так тянет внутри, струнами натягивает от макушки к пяткам, до каши топчется внизу живота? Голова кружится... он... он...
Почему я просто не могу быть нормальным?
— Юнги? Ты в порядке? — голос из-за плеча не заставляет его поднять голову, но удивляет, и он лишь едва приподнимает лоб, хмурясь:
— Хосок? — слышится сдавленное, — что ты тут делаешь? Я думал, ты уже давно дома...
Удивительно, что это чуть ли не единственный человек, от которого бы ему не хотелось бы сейчас сбежать.
— Я... — парень делает пару шагов вперед, садясь напротив, на низкий подоконник, — у Чонгука было распитие Крови Христовой... не мог не воспользоваться приглашением... — сердце едва ойкает, и он стреляет в него взглядом, — а ты почему не пришел? — интересно, что ответит?
— Не поверю, что в той комнате этот вопрос не был поднят на всеобщее обсуждение, — парень поднимает голову, и Чон видит его выражение лица — пустое, ослабленное, уставшее, — небось провели обвинительный капитул - ставлю на что угодно, Чонгук рассказывал, что я обжимался с Ёнджи в церкви, — отводит голову к окну: пусть думают, что все это так, пусть. В любом случае, это все еще лучше того, что было на самом деле.
— А, Чимин тебя, кстати, защищал, — Хосок слабо улыбается, облокачиваясь на свод позади и запихивая руки в карманы прохудившегося местами пальто, — дай мне время, я придумаю, как вас помирить.
— Помирить с этим идиотом? Нет, спасибо, — упирается, — зачем тебе это вообще?
— Вы нужны друг другу, — склоняет голову, сжимая губы, прослеживая взгляд Юнги и тоже переводя его во внутренний дворик: опять идет дождь, и он скукоживается от скорой встречи с влажным холодом — отец ведь так и не вернул велик... — у вас хорошая дружба — он тебя придурком называет, а ты его идиотом. Идеальное попадание, — усмехается.
— Хосок, — он чуть слышно выдыхает, — не могу понять, ты глупый такой или просто...
Какой? Какой он? Юнги и сам не смог ответить себе в прошлый раз на этот вопрос... слово все никак не приходит на ум, и он неосознанно глядит на хориста перед собой: он тоже поджимает ноги, глядя вдаль, чуть сжимая губы...
Юнги вдруг вспоминает воскресную мессу. Юнги вдруг вспоминает Хосока, который в темноте церкви шепчет о том, что не хочет возвращаться домой. Юнги вдруг вспоминает, как тот в забытье, почти плача отворачивает голову, а потом выбегает из церковного зала и не возвращается.
И еще почему-то он вспоминает ужасный синяк на его груди. И то, как ему было трудно петь в храме Святого Патрика.
— Или...? — через минуту продолжает Хосок, — мне интересно узнать про себя что-то новое, дерзай.
— Просто не понимаю... Чимин же подставил тебя тогда на репетиции, подлянку тебе сделал, хорошенько так поднасрал, а сейчас ты с ним как ни в чем не бывало вино пьешь.
— Думаешь, это делает меня слабым? — он в сомнении пожимает плечами, — ну... умение прощать? Быть отходчивым? Может, и так... Я не знаю, — переплетает свои пальцы, — показывает мою слабохарактерность? Вероятно, — склоняет голову, — но я думаю, это правильно. Иногда мне кажется, что это... это важнее пойти на уступок и отодвинуть себя назад... И сложнее тоже.
— Но для чего? — он щурится, качая головой, — для чего это делать? — выдыхает, посмеиваясь, — правильно... как в Библии сказано?
— Библия для меня — не руководство к применению, Юнги. И я сделал это не потому что мне так Священное Писание сказало, а потому что я сам почувствовал, что так нужно сделать, — он задумывается, — может, ты и прав... может, все люди и правда эгоисты, потому что сделал я это, в первую очередь, чтобы у меня на душе кошки не скребли, потому что так мне спокойнее и лучше. Но в моем прощении не было ничего корыстного. Ни капли. Правильность поступков определяет не Библия, а ты сам... и Уголовный кодекс вместе с судебной системой, — Хосок улыбается, а Юнги, склоняя голову, усмехается: наверное, впервые за долгое время.
— Вряд ли Уголовный кодекс рассматривает моральные и нравственные стороны философского вопроса о прощении, конечно, но я тебя понял, — парень расслабляется, — понял, что ты хочешь донести, но я все равно... не понимаю то, как тебе удалось легко переступить через себя.
— Попробуй и, может, поймешь, — улыбается, — как говорят? Ты не смеешь судить о человеке, пока не пройдешь его тропой в его же ботинках? — Хосок опускает голову, незаметно глядя на часы — вот теперь ему, действительно, пора бы идти, ведь иначе... от отца можно ожидать чего угодно.
Я так сильно не хочу домой.
Юнги, я так сильно не хочу домой...
Хосок сглатывает, опять перемещая взгляд за окно — туч становится лишь больше.
— Значит, следуя твоей логике, я — слабак, — продолжает рассуждать Юнги, — если я не могу помириться с Чимином, потому что считаю, что он повел себя, как кусок говна?
— Слабак? Нет, что ты... Но будешь им, если оставишь все, как есть, — он хихикает, — о, Боже, я звучу как проповедник на исповеди!
— Уж лучше проповедник, чем шлюха. И, о Боже, а как же не упоминать имя Господа всуе? Господь всевышний, что мы творим... — смеется в ответ Мин, видя вдруг, что Хосок начинает подниматься — взгляд того от чего-то становится мрачным и тучным, хоть хорист и улыбается:
— Наши рты, да с мылом бы хорошенько промыть, — он смеется, глядя сквозь пианиста, мыслями перемещаясь куда-то прочь, — мне так учительница в начальной школе говорила... Уж, наверное, ты сам должен давать окраску своим действиям и решать, слабак ты или нет... Все это и, правда, завязано на внутренней морали: сам для себя я могу быть святым, а для тебя я просто слабохарактерный слабак, легко прощающий дурные поступки. Ты для себя самый правый, а для Чимина осел...
— Ты говоришь совсем не так, как верующий, - Юнги удивляется, - обычно в таких вопросах апеллируют Им, - выдыхает, - а, тут, получается, все от человека зависит?
— Чем не новая вера? - он скромно ухмыляется, — только никому не говори, а то меня на костре, как еретика сожгут... Если тебе до сих пор кажется, что примирение — это признак слабости, значит, так оно и есть. Для тебя. Значит, тебе еще нужно время, чтобы понять обратное, потому что иначе никакого смысла от поступков не будет... Вообще никакого смысла. Кажется, я говорю какой-то бред, не слушай меня, я запутался, — он прикрывает лоб рукой, сухо усмехаясь, — долгий день был... Мысли путаются.
— Да нет, не бред, — спешит успокоить, чуть приподнимаясь, — тебе уже нужно идти?
Так быстро? Они же только начали нормально разговаривать... Зачем ему уходить? Возможно, он еще ненадолго может остаться?
— Ага, — сухо кивает, — вопрос на засыпку, который мы с утра обсуждали — нашел ли ты что-то корыстное в моем желании помочь мне на контрольной? — Хосок выжидает пару секунд, опять улыбаясь так и не дожидаясь ответа, от попавшего врасплох пианиста, — так, может, Мин Юнги и правда всего лишь хочет видеть мир в черных красках? М?
Юнги поднимается с подоконника, начиная шагать вместе с Хосоком, направляющимся в сторону выхода:
— Ты же сам только что сказал: не суди о человеке, пока не пройдешь его путь в его же ботинках. Разве нет? — сухо улыбается, изнутри покусывая губу: мир и правда черный — он ничего не придумывает. Разве что время от времени становится чуть светлее.
Прямо как сейчас...
— Ты прав, — соглашается парень, — я вообще ничего о мире не знаю, знаю только что...
Он прерывает себя на полуслове: он чуть было не прокололся. Чуть было вслух не сказал о том, что знает только то, как сильно он не хочет домой.
— ...Знаю, что мне сейчас чертову кучу времени переться пешком по размытым дорогам до дома — а у меня даже зонта нет, — грустно хихикает, заканчивая предложение.
Они на секунду застывают у выхода, и странное молчание повисает меж ними — только дождь барабанит по крышам.
— Ты понравился леди Мун, — зачем-то говорит Юнги: сам не понимает, зачем вообще ляпнул это, для чего... Возможно, потому что не хотелось, чтобы дождь закончил их разговор вместо него.
— Почему это звучит, как одобрение? — не понимает Чон, — ты же против того, чтобы подстилаться под нее...
— Так ведь ты и не подстилался? — выдыхает, — когда ты пел... Неважно, - отводит лицо, уводя взгляд.
— Что? — улыбается, — эй, что? Что ты хотел сказать?
— Неважно, это бред, — отнекивается, и для Чона это остается нераскрытой тайной: Мин совсем не меняется даже лицом.
— Ну правда, что? — еще раз предпринимает попытку Хосок, но Юнги намертво замолкает, — ладно, не я один нравлюсь женской половине семейства Мун, — он тоже не понимает, зачем это говорит, да еще и подмигивает, как будто давая понять, что знает о Ёнджи... Зачем, зачем это?
— Хосок, — Юнги почти недовольно качает головой, но улыбка выдает в нем то, что Чону не стоит опасаться, — ... где твой велик?
— Отец забрал уж неделю назад, — выдает он даже слишком легко, гримасничает, жестикулируя, — воспитывает так... Неважно. Доберусь на своих двух, — он еще раз замолкает — на самую секунду, — ну ладно... до завтра.
Юнги остается стоять в коридоре, наблюдая за тем, как Чон выходит через ворота в открытый, реальный, свободный мир... Сколько бы он всего отдал, чтобы иметь возможность вот так же...
Даже не подозревая о том, как сильно Чон хочет остаться, Юнги разворачивается, начиная шагать к насиженному месту у лестницы... Долго думает, пока улыбка полностью не спадает с его лица, и он опять оборачивается, будто бы выискивая фантомные следы уже невидимого Чон Хосока в коридоре.
Он опять вспоминает воскресную мессу. Хосока в темноте, шепчущего о том, как сильно он не хочет домой. Как он, бледный и встревоженный, выбегает из зала в коридор. То, как трудно ему было петь. Его огромный синяк.
И о том, что он сказал, что упал с велика позавчера.
Тогда как его отец забрал его уже неделю назад.