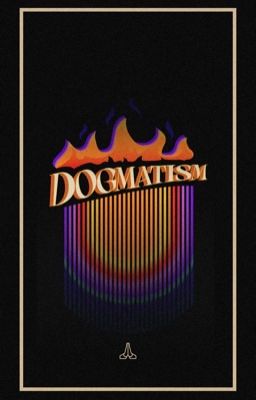5: Воскресная месса
— Согласно второй гипотезе, этимология слова "месса"
восходит к латинскому
missio - "Миссия, послание"
Голоса единым гладким потоком изливаются в стенах Храма Святого Патрика; свет снаружи пытается пробиться сквозь разноцветные витражи высоких стройных окон, но внутри едва ли светло — тени свечей играют на лицах укрытых мраком храма хористов, но лицо Хосока все равно белым пятном выделяется среди прочих, и легкая испарина на лбу почти блестит в тусклом освещении.
Он едва ли дышит, с болью выдыхая через нос, каждый раз невидимо прикусывая свою же губу: боль в теле поет вместе с ним, в особенности ударяя по ребрам и мышцам живота. Он почти задыхается, а конечности едва потрясываются.
Но он не может ошибиться. Он не просто должен спеть идеально — он обязан спеть идеально.
Он чувствует взгляд своего отца на себе все это время: тот сидит на скамье, точно самый прилежный христианин: гладко зачесанные волосы, светлая выглаженная рубашка, застегнутая до последней пуговички, свежее лицо только после бритья — от того монстра почти и не осталось и следа.
Вернее сказать, монстр на самом деле всегда рядом. Просто спрятался. На время. По воскресеньям он обычно прячет свой длинный уродливый нос, изъеденный глубокими язвами и впадинами, в глубокую яму, закрытую трезвой улыбкой, сознательным взглядом и до тошноты и мурашек на коже правильными словами, которые обычно говорит праведный прихожанин в церкви. Зубы скрипят.
Чон подавляет боль, игнорирует ее, сжимает ее в кулак, как и зажимает глаза, вытягивая высокие ноты, поднимаясь вместе с двадцать третьим псалмом Мендельсона выше, куда-то туда, где есть только чистый звук, ведущий к свету и легкости — все это очень далеко, выше, чем основание этой старой церкви в центре города, намертво приколоченной гвоздями святош к земле; в мгновение становится легче, забывается все, кроме музыки, кроме звуков, окружающих его со всем сторон... льющихся у него из сердца и еще откуда-то извне, из того места, к которому у него нет доступа.
Возможно, он слышит чуть больше других, но все равно не может постичь эту природу вдруг появившегося звука.... Он в нем утопает, следует за ним, забывая обо всем.
Многоголосье в момент разделяется на дивизиивременное разделение хоровой партии на два, три и более голосов, и Чон почти теряет сознание, пытаясь не сбить цепное дыханиеспецифическое хоровое дыхание, при котором певцы меняют его не одновременно, а как бы "цепочкой", поддерживая непрерывность дыхания, пытаясь поспевать за ведущими голосами партии. Мягко выдыхает, когда его снова ошпаривает болью по ребрам — там жжет так, словно проходятся по телу толстым грязным канатом, от трения которого кожу греет и там появляются волдыри.
Губы раз за разом произносят одну и ту же строчку, но он не понимает их смысл, понимает только звучание:
Среди жизни мы находимся в смерти
Мгновение цезурыграни между частями музыкального произведения; исполняется в виде короткой, еле заметной паузы, часто сопровождается сменой дыхания. словно бесконечная секунда услады и блаженства, когда он может перевести дыхание и отпустить тяжесть внутри, когда он может... хотя бы попытаться забыть о боли.
Их хормейстер, Бан Хон, делает жест рукой, и голоса вновь звучат в церкви, перезвонами то возносясь выше, то медленно переходя в более низкую тональность, и когда басы перехватывают партию, и Хосок замолкает, ему кажется, что он не сможет выстоять до конца — возможно, ему и не так больно, на самом-то деле...
Но... такой спокойный беспристрастный взгляд отца, его сомкнутые губы, слегка приподнятый подбородок, самодовольное выражение лица; если бы Чон его не знал, мог бы подумать, что он горд своим сыном. Хосок не может выносить этой пытки, и в какое-то мгновение ему хочется плакать.
Плакать просто, потому что он так сильно ненавидит своего отца.
Он снова медленно вдыхает, игнорируя учащенный пульс, и неспешно, плавно следует за солистом Чимином, гармонизируя его; голоса их сплетаются друг с другом, но не в схватке, скорее в кружащемся плавном вальсе — когда нежное сильное сопрано Пака ведет выше, Хосок будто цепляется за него, приземляя, крапинками вставляя бархатность и перчинку, чего всегда не доставало хору их школы.
Голоса вдруг затихают, и когда Чон осознает, что пытка закончена, он почти падает, в последнее мгновение хватаясь за плечо Пака под боком — тот удивляется, когда видит бледного почти лихорадочного Чона рядом:
— Ты чего? — он почти шепчет, пока хористы рядом медленно расходятся, не пытается сдернуть его руку со своего плеча.
— Я... — Хосок выпрямляется, наскоро вытирая лоб, — тут душно, да? Все в порядке.
Чон быстро отскакивает, чувствуя, как кружится голова, и он незаметно отходит к стене у заднего выхода, облокачиваясь о нее, пытаясь приказать сердцу стучать медленнее; неосознанно он прикасается к ноющему ребру, мягко массируя избитое место, почти что хнычет: он такой жалкий.
Ему всегда трудно переносить боль — он не выносит ее ни в каком виде. Бывало даже, что терял сознание, когда на медосмотре брали кровь из вены, и не потому что вид крови его смущал: как объяснили ему медсестры, у некоторых людей просто такая реакция на боль; выдыхает, чуть прикрывая глаза, все еще слыша барабанящий шум в ушах, почти что ощущая, как сознание покидает его, вытягиваясь в одну стройную трубочку, из которой он сыпется точно песок... тошнит, давит.
— Что с тобой? — Чимин вдруг появляется рядом, грубо пихая его в плечо, — неужели ты не врал мне тогда? — парень не понимает.
— Отстань... — слабо произносит Хосок, отпихивая Пака — ему сейчас не нужны свидетели его слабости, — оставь меня одного, все в порядке, я просто... утомился... — он облизывает сухие губы, — я сейчас...
Отчего-то пульсирующий шум исчезает, и голос пастора Дондука появляется, как самый чистый, лишенный изъянов и несовершенств, звук, рассекающий все пространство храма одним стройным лучом; Хосок вдруг поднимает голову, не слыша ничего, кроме низкого баритона пастора, и все его тело начинает покалывать.
Парень смотрит сквозь непонимающего Чимина, который, очевидно, ждет ответа, видит только гладкое лицо Дондука, обращенное к такому же начищенному, выглаженному, прилежному мужчине.... К его отцу. Острыми копьями сознание возвращается к нему обратно, и, стоя в тени, он впивается взглядом в них, продолжая ощущать тошноту и слабость. Он уже больше не слышит ни голоса Дондука, ни тем более отца, но они переговариваются, улыбаясь, пожимая друг другу руки, смиренно и воспитанно обмениваясь вежливостями.
— А, так ты боишься пизды получить? — хихикает Чимин, улавливая взгляд Чона, — твои родители?
— Говорю же, отстань, — грубеет Чон, отодвигаясь от стены, сорвано дыша, — я... мне... мне надо на воздух...
Отец его вдруг громко смеется за его спиной — Чон глушит этот мерзкий звук резким ударом двери, уводящей на улицу.
***
Хочется помыть руки еще раз — он и так сделал это уже раз десять, но Юнги все равно кажется, что они грязные, что к ним прилипло что-то мерзкое, от чего он никак не может отделаться.
Он сидит в третьем ряду, ковыряя ладони короткими шершавыми ногтями, неотрывно глядя перед собой — сегодня школьный хор выступает а капелла, а у взрослых есть свой музыкант: в Мине не было абсолютно никакой надобности, но Доебук настоял на его присутствии.
Ты же любишь бывать в городе, Юнги?
Его тошнит, когда он слегка косится вбок, чуть левее; тот сидит с идеально выпрямленной спиной, волосы с обилием лосьона поблескивают в темноте и, кажется, даже здесь... даже тут он ощущает его мерзкий тошнотворный запах резкого одеколона и дешевого средства для волос, намешанного с церковным ладаном и, прости господи, запахом идеальной чистоты от его одежды, который хочется выдернуть из ноздрей и закопать в могиле на заднем дворе церкви, хочется содрать его с себя вместе с кожей и выполоскать в ледяной воде, пока сам он не покроется обмороженной красной коркой, хочется ножом срезать с себя все те места, которые он...
Юнги сглатывает, резко хватая себя за пальцы, прикусывая губу, направляя взгляд на парней перед собой, вслушивается в слова, пытается себя успокоить, но нож жалости к себе изнутри выбивает в нем кровавые узоры и ворошит желудок. Тут душно, кружится голова.
Пальцы незаметно расцепляются и располагаются на его острых костлявых коленях, вдруг начиная наигрывать слышимую только в его голове мелодию — он наигрывает Мендельсона, будто аккомпанируя хору, и это, наконец, успокаивает; чуть прикрывает глаза, прислушивается, следует за голосами.
Святой Бог, Святой Сильный, Святой Бессмертный, помилуй нас...
Мендельсон написал этот гимн а капелла, но Юнги хочется это исправить — он дорисовывает органные партии в голове, он почти слышит низкое пение инструмента, отскакивающее от стен, укладывающееся под голоса хористов, низким королевским басом подпевая им; Мин зажимает невидимую клавишу, чуть склоняя голову — звук настолько чистый и реальный, что он не может поверить в то, что его слышит только он... пальцы быстро перескакивают, следуя за многоголосьем и их быстрой ниспадающей вниз трелью.
Среди жизни мы находимся в смерти
Он тут же останавливается, четко помня о цезуре, и вдруг открывает глаза — он смотрит на бледное блестящее пятно среди прочих, которое старательно выводит звуки, отшлифовывает их, делает идеальными; когда наступает соло Чимина, Юнги все равно почему-то смотрит на Хосока, с интересом ожидая момента их с Паком гармонии; его невидимый орган вступает в игру с первыми звуками голоса Чона после паузы, и пальцы его следуют не за солистом, а почему-то за... за ним.
Хосок не выглядит здоровым и радостным, но Юнги не задумывается над этим... прикрывает глаза, продолжая старательно строить ноты в своей голове, выстраивая тональность, подходящую Чону, следуя за его темпоритмом, выводя затем звуки чуть выше, ускоряясь, а затем вдруг застывая — пусть теперь будет звучать только его голос, лишенный прочего....
Но ничего больше не происходит и ничего больше не слышится: псалом вдруг закончился, и Юнги лишь через время открывает глаза, с удивлением обнаруживая, что хор уже почти разошелся....
Он выдыхает, с наслаждением переживая это мгновение, похожее на те, когда только просыпаешься: ощущения после псалма сродни ощущениям после сна — мягко, тепло, еще ничего не понятно, и есть целые секунды до того момента, когда мозг напомнит о происходящем в жизни дерьме.
Но он вспоминает все слишком быстро — в тот самый момент, когда мимо него, даже не глядя, проходит пастор Дондук, и Юнги опять сковывает со всех сторон, крепкими пальцами вжимая в скамью; его запах новой волной бросается на молодого человека, и он готов зажать себе нос и навсегда распрощаться с возможностью распознавать запахи. Не в состоянии пошевелиться, он оцепеневает, боковым зрением видя, что тот начинает переговариваться с каким-то мужчиной: возможно, обычный прихожанин, может быть, чей-то родитель...
Он хочет встать и уйти, но уходить некуда. Он хочет отодвинуться и отойти хотя бы к ближайшей стене, но он не может, потому что слишком слаб и безволен — он отдает себя на растерзание собственным страхам, ничуть не сопротивляясь.
— Да... да... — слышит он краем уха голос пастора, тщательно пытаясь выкинуть эти звуки из себя, желая, чтобы они не проникали внутрь — вот бы он был глухим..! Хочется закрыть уши руками.
— Вы понимаете, мне необходимо было позвонить вам, чтобы... — продолжает слушать Юнги, не поднимая головы, — я вижу, что он хороший мальчик, поэтому... Я желаю ему только всего доброго.
— Мы за это вам благодарны, пастор Дондук, — в почтении обращается мужчина, чуть склоняя голову, — можете не сомневаться, мы уже поговорили с ним... больше такого не должно повториться.
— О, я так рад, — слащавый голос Доебука заставляет Юнги скривиться, — я рад, что вы поговорили... надеюсь, что вы поняли, в чем заключалась его проблема и пришли к совместному решению... но... но знаете, вы можете сказать ему, что если он вдруг в чем-то сомневается или если ему нужен совет, двери моего кабинета всегда для него открыты. Или, быть может, стоит начать давать ему... индивидуальные уроки? Как вы смотрите на это?
Как молотком для отбивной Юнги получает удар по внутренностям — его собственное мясо плющится, рвется, в нем появляются дырочки и рыхлости, но одновременно с этим он злится — поднимает голову на Дондука уже со злостью, с блестящими глазами, со сжатыми кулаками, с немым криком непонимания. Вцепиться бы в него, расцарапать бы ему лицо, избить кулаками до крови... он выдыхает, понимая, что пастор даже не обращает внимания на него....больно, почти что опять до крови он кусает губу и срывается со скамьи: он — никто, и он ничего, совершенно ничего не сможет сделать... ни с этим миром, ни даже со своей жизнью.
Быстро и суетливо он спешит к двери из церкви. Нужно подышать воздухом.
***
С утра, когда они ехали в этот храм, моросил дождь, но теперь нет — только тяжелые тучи висят над крестом, что возвышается на верхушке храма, да холодный осенний ветер дует прямо в лицо; Мин быстро шагает за угол церкви, глядя под ноги, выпуская из себя пар. Пачка сигарет в кармане пригревает руку, и он ускоряется, чтобы побыстрее скрыться с лишних глаз — в общем-то, тут и так не многолюдно: только старые могилы вокруг да покосившиеся распятия над ними — где-то, каркая, пролетает черный ворон, а шум редких разваливающихся машин где-то далеко-далеко отсюда.
Он шагает по раздробленному дождями бордюру у стен церкви, подпинывая мелкие камни, пока не оказывается позади храма; тут же, как вкопанный, останавливается — он здесь не один...
— Ой, — неслышно выдает он, почти делая шаг назад.
Чон Хосок сидит на корточках, прислоняясь к грязной мокрой стене, сковывая свои руки, будто в молитве, слегка покачиваясь — теперь он уже не такой бледный... или просто кажется?
— Я помешал? — в нерешительности отступает Мин, но еще не уходит до конца: уж слишком хочется курить, а это место самое подходящее для этого — здесь никогда никого не бывало... до этого момента.
— Помешал ли ты мне сидеть здесь, на заднем дворе храма, глядеть на могилы и проклинать всех святых? — он выдавливает из себя ухмылку, — да нет, не очень, — поднимает голову, — можешь присоединяться. Сейчас я посылаю проклятье Святому Апостолу Марку.
— Пошел ты нахуй, Святой Апостол Марк, — Юнги достает пачку сигарет, приближаясь ближе, — и, Святой Патрик, ты тоже иди нахуй.
Чон едва хихикает:
— Мы будем гореть в аду, — подергивает плечом.
— Разве мы не уже? А, ой, — Юнги садится рядом с Чоном, метко приземляя сигарету меж губ, робко задерживая руку, затем протягивая ее Хосоку, — м?
— Стоит ли мне впервые попробовать закурить в таком святом месте, как церковь, во время воскресной службы, когда меня может увидеть взъевшийся на меня пастор да и еще и родители впридачу? — он мгновение думает, смотря на ровный ряд сигарет, — пожалуй, идеальный момент, — аккуратно берет одну, с интересом глядя на нее.
— Я подкурю... — спокойно начинает Мин, проводя пальцем по колесику зажигалки.
— Ой, подожди, — Хосок почти вырывает сигарету из своих губ, но продолжает держать ее в пальцах, — я не испорчу свой голос? — он обеспокоенно берется за свое горло, внимательно вглядываясь в Мина, которого это почему-то веселит:
— От одного раза ты себе ничего не испортишь, — ухмыляется, — тебе, скорее всего, это вообще не понравится и ты даже не докуришь ее до конца....
— Но мне все равно интересно попробовать, — как бы отмахивается парень, снова прикасаясь губами к сигарете, — да и меня все так достало... все так...
— Хуево?
— Да, точно.
— Дерьмо случается.
— Случается.
Оба выдыхают, смотрят перед собой какое-то время, только кошки скребут на душе, пока Чон, наконец, не пересаживается с затекших ног на задницу, выпрямляя их перед собой; боль от движения отзывается во всем теле и он едва заметно кряхтит, опять прижимая руку к боку — но совсем незаметно, Мин как будто бы не видит этого.
— Ну что? — начинает Юнги после небольшой паузы, снова поднимая зажигалку, — готов лишиться своей сигаретной невинности?
Мин снова слышит в голове повторяющееся Хосоково: "Среди жизни мы находимся в смерти", но решительно не понимает ни смысл фразы, ни ее посыл — чувствует только, где-то там, под грудиной, что-то странное, как будто потаенное: то же самое чувство он испытывал всегда в детстве, когда пытался хотя бы краешком взгляда заглянуть за иконостас в храме - не объяснить словами, только если очень-чень сильно постараться.
Возможно это что-то, что имеет хоть какой-то смысл.
Что-то, помимо музыки, имеющее смысл.
— Давай уже.
Юнги чиркает зажигалку и аккуратно подносит руки к лицу Чона, прикрывает огонь от легкого ветра:
— Сейчас вдыхай в себя воздух, — внимательно наблюдает он за парнем, который неумело держит сигарету в пальцах, — до конца... до самых легких...
Чон делает все, как говорит ему Мин, и вдруг начинает задыхаться в кашле, тут же вынимая сигарету изо рта, жмурясь и щурясь:
— Какая гадость! Воняет как! Горько!
Мин беззвучно смеется, убирает зажигалку, спокойно начиная курить свою — он почему-то на все сто процентов был уверен, что у этого Чона будет именно такая реакция.
— Нет, правда! Фуууу...! В чем вообще смысл....если это так невкусно!
— Смысл не во вкусе, — спокойно отвечает Юнги, затягиваясь, перебираясь взглядом к безмолвным могилам, — а в том, что после сигареты спокойнее.
Он умоляет себя не возвращаться мыслями в церковь, он заставляет себя не вспоминать все то, что было и что... что еще обязательно будет. Не хочет он опять расстраиваться, хочет жить только в эту самую секунду, когда уже все прошло и еще ничего не намечается, хочет сидеть вот так тихо-тихо и долго-долго, чтобы его никто не трогал, и чтобы не нужно было думать о своей дальнейшей жизни.
Юнги хмурится, прижимая губы.
Дальнейшая жизнь. Она всегда пугает его.
Успокаивает то, что у него всегда есть выход.
Выход из...неё.
Краем глаза он улавливает что-то сбоку и невольно поворачивает голову — этот Чон опять пытается пристроиться к дымящейся сигарете и опять неудачно; все его лицо недовольно перекашивается, и теперь он держит ее двумя только пальцами, желая поскорее избавиться, и отчего-то Мина это выводит на смех:
— Боже, просто выброси ее...
— Не упоминай имя Господа всуе, наглый безбожник! — тихо хихикает, придерживая бок одной рукой, — но тут же нет мусорки... — осматривается вокруг.
— И?
— Мусорить нельзя!
— Бляяять, Чон, — Мин смеется, быстро отбирая сигарету, — ты не выживешь у нас в школе, если будешь... таким.
— Каким — таким? М? — он подгибает ноги, а Юнги нечего сказать: он не знает, каким словом можно описать этого новенького...
— И, уж поверь мне, выживу... — снижает голос Хосок, — ваша школа — не самое страшное в моей жизни.
Мин Юнги сглатывает, потому что до него только сейчас доходит, с кем именно разговаривал Дондук в церкви.
Это были родители Хосока.
Он еще раз перематывает в голове все то, что пастор говорил им, и что-то внутри него начинает дрожать, потому что мысли начинают литься на его единым непрекращающимся потоком: в них намешано все то, о чем он боится думать и то, о чем он мечтает, но... но больше прочих слышится одна-единственная мысль — она бесцветная, она колючая, она упрямая, но такая явная, такая громкая, что не слышно ничего более, и тошно от самого себя: а вдруг....
Вдруг, если Хосок начнет ходить к пастору на индивидуальные занятия, то Доебук отъебется от него...? Переключит все свое внимание на Чона и тогда он сможет выдохнуть спокойно?
Какое ему, нахрен, дело до Хосока, если ему самому будет от этого лучше?
— Пиздец, — тихо отвечает он самому себе, выдыхает и начинает подниматься на дрожащих ногах — теперь хочется не просто накуриться, но напиться до беспамятства.
— Что? — Хосок продолжает оставаться на земле, но хмурит брови, не понимая — он сказал что-то не то?
Без слов Юнги выпрямляется, опять тянется к пачке с сигаретами в кармане, которая почти опустела — тонкие пальцы мастерски вызволяют сигарету наружу и протягивают не понимающему Хосоку:
— Возьми, — сухо говорит Мин, выдыхая, — еще пригодится, — почти истошно смеется отводя взгляд, — и ты поймешь, о чем я.
Чон Хосок молча берет сигарету из рук Мин Юнги, который сразу же отводит взгляд и, быстро кончая глубокой затяжкой, уходит обратно внутрь храма.
***
Отец стоит на коленях, смотрит на священника самыми невинным взглядом, слушает его, покорно склоняет голову, открывает рот, чтобы вкусить плоть Христа... затем его губы окрашиваются едва красным вином, и он поспешно покидает алтарь: в это воскресенье Хосок решает, что причащаться не будет.
Он не держал пост, не молился, не исповедовался — он не достоин быть вознесенным к Богу, нет, не сегодня, не в это воскресение. А еще от него пахнет сигаретами, болит задница от жесткого раздробленного мокрого бордюра, а сердце тянет вниз: уже не только из-за отца.
Отчего-то еще.
Отчего-то еще ему тяжелее, чем обычно, и ответ все никак не закрадывается ему в голову. Изнутри он покусывает свои губы, поднимает взгляд наверх, слышит голос священника, что разливается вокруг, закрывает глаза.
Все не так, все совершенно так, до одури, до абсурда, но боли в кулаках, до крови на губах не так.
Его жизнь не должна быть такой.
Быстро выдыхая и также быстро получая резкий, колючий удар под бок, он опускает голову, открывает глаза и почти что задыхается. Так не должно быть. Солнце как будто бы ушло, скрылось за огромной горой, припрятало все свои лучи и все свое тепло, жадно подбирая его под себя, не желая делиться — Хосоку холодно, плохо, тошно.
Вера должна давать ответы, разве нет? Тогда почему... почему он решительно ничего не понимает? Даже здесь, в церкви, в месте, где всегда все было понятно и легко, когда всегда можно было получить совет от святого отца, когда было радостно просто потому что ты в доме Божием..?
Выдыхает... разве пастор Дондук не говорил о том, что двери его кабинета всегда открыты? Можно ли ему верить?
Головой он опирается о скамью перед сбой, чуть поворачиваясь вбок: сквозь устойчивый запах ладана чувствуется отчетливый запах сигарет — от него, от его пальцев, которые тоже держатся за скамью перед ним; аккуратно Чон смотрит на Юнги, что сидит рядом, через пару человек от него — тот выглядит потерянным, бесчувственным, холодным... в глазах ничего не прочитать и не увидеть, только жалобный взор к священнику у алтаря да сменяющимся людям у него...
Возможно, Хосок даже ждет, когда Юнги заметит его, но тот будто слеп... Шмыгая носом, не мигая, где-то под ребром, он чувствует боль похлеще, чем от ударов отца — как настоятели говорят? Боль душевная?
Он так сильно не хочет домой.
Так сильно, что губы сами собой это шепчут, так сильно, что он повторяет это из раза в раз, пока идет причастие, так сильно, что голос почти вполне слышимо срывается с его губ.
Я так сильно не хочу домой.
У меня нет дома.
Я так сильно не хочу.
Юнги застает его врасплох — замечает в тот самый момент, когда он, почти плача, в очередной раз это повторяет; Хосок не сразу, но видит его удивленный до жути взгляд, блеск от свеч в глазах, перекошенное лицо непонимания, сохмуренные тотчас брови...
— Я так сильно не хочу домой, — почти беззвучно только и повторяет он, затем отворачивая лицо в другую сторону.
Плевать, услышал ли его Юнги или нет, плевать, что он там себе подумает, плевать вообще на все...
Хосок чувствует себя самым одиноким человеком в мире, снова шмыгает носом, и сердце рвется на куски, а ребра все также невыносимо ноют... может быть, было бы лучше, если бы у него открылось внутреннее кровотечение, и он умер бы тогда, на кухне собственного дома, от удара собственного отца? Было бы легче?
Он находил книжки в библиотеке в прошлой школе, там описывалось это — приятного мало, зато с концами: сначала упадет давление до восьмидесяти, усилится пульсация примерно до ста десяти ударов в минуту, неровное дыхание перерастет в холодный пот и лихорадочное состояние с тремором в руках... посинеет кожа, губы, сознание станет спутанным, пока не перерастет в бред... агония, приводящая к смерти...
Намного легче.
Теряясь в пространстве и собственных странных мыслях, которых никогда не было в таком количестве, он вдруг вскакивает со скамьи, и ноги сами ведут его куда-то прочь из зала — в коридор: он и сам не понимает, что происходит, пока не оказывается в другой комнате, в другом помещении... здесь нет ни запаха ладана, ни запаха сигарет, здесь не слышно высокого голоса священника и он не ощущает присутствия своего отца...
Но убежать все равно хочется. Не важно куда, главное, убежать и никогда не возвращаться домой.
Он так сильно не хочет домой.
Тяжело дыша, он подходит к едва приоткрытому окну, в который раз прижимая руку к ноющему ребру, но теперь приподнимает рубаху, глядит на себя и вдруг теряется и током его бьет по голове: синяк выглядит еще хуже, чем утром — темно-фиолетовые язычки кровоподтеков расходятся по его грудине, перемешиваясь где-то в середине с болезненно зеленым, вляпываясь в почти что трупно-синий, и его вдруг бьет тревогой: вдруг, у него перелом? Тогда что? Теперь отчего-то совершенно не хочется умереть вот так глупо.
Двери за спиной тихо хлопают, и он готов поклясться Всевышнему, что он предложит этому человеку сбежать с ним тут же куда угодно — не совсем важно, с кем, главное, с кем-то.
Почему-то, где-то на задворках сознания, он думает о том пианисте...
Нет, глупо.
Он быстро опускает рубашку вниз, оборачивается, натягивает улыбку, но не успевает сделать что-нибудь с глазами — в них до сих пор стоит тревога и слезы, когда он смотрит на человека перед собой:
-А, — удивленно вырывается у него, — м? Ой.
— Ой, извините, — кротко отвечает девушка, чуть склоняя голову, — я... я... — суматошно отводит взгляд, чуть оборачиваясь вбок, чтобы Чон успел поправиться, — я... я не хотела вам мешать.
— Да нет, — он прочищает горло, заправляя рубашку в брюки, — все в порядке, — я...
— Я... извините еще раз, — вставляет девушка с длинными вьющимися волосами, — я просто хотела... я вас... я вас прежде никогда не видела, — продолжает она, — вы, наверное, только недавно перевелись в школу, откуда этот хор? — хихикает, одергивая себя, — я просто... хотела сказать, что... ваш голос... и то, как вы пели... это было...— она, наконец, оборачивается, и на мгновение Хосок перестает дышать, чуть делая шаг назад.
Он никогда прежде не видел таких больших и чистых глаз, никогда не видел такого милого фарфорового лица и такой милой улыбки; девушка склоняет голову вбок, протягивая руку:
— Меня зовут Йонг... Йонг Мун, — она тихо улыбается, — я всего лишь хотела поблагодарить вас за ваше пение...
— Спасибо, — коротко выдает он, смущаясь, — я... Я — Чон Хосок, — протягивает руку в ответ, — и я правда новенький, — ухмыляется... а вы часто ходите в этот храм, чтобы послушать... послушать хор?
— Не то, чтобы, — девушка дергает плечом, — дело немного в другом, ха-ха, — чуть покусывает нижнюю пухлую губу, — это все, что я хотела сказать... — неловко смотрит на двери, — просто я... хах... ну мы...я должна идти.
— Конечно, — кивает головой.
— До встречи.... До встречи, Чон Хосок, — она опять улыбается, отходя к двери, — еще увидимся!