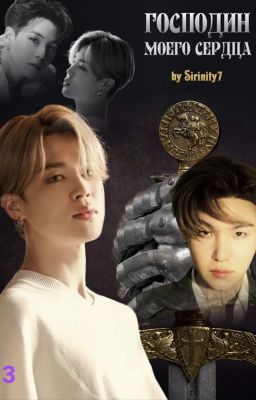Часть 12
========== Глава 12 ==========
Константинополь. 1203г.
Тело горит и пылает от жара широких ладоней и огня поцелуев, а сердце бьётся сладко, разливая негу в крови. Ночь страсти, ночь любви посреди всего этого кошмара, когда ломаются судьбы, рушатся империи, и человеческая жизнь перестаёт иметь ценность. Но что мужчине до судьб чужих, что ему города и земли, когда возлюбленный жмётся так трепетно, а от сладости поцелуя слёзы катятся из уголков нежных глаз.
— Намджун...
Имя мужчины срывается стоном. О, за этот упоительный звук рыцарь отдаст всё — и жизнь, и душу, всего себя вывернет и к его ногам сердце положит.
Он оставил раздираемый на части город, проплыл ночной пролив, чтобы оказаться в объятиях своего ангела, своего божества, упрямо гоня от себя призрак сломленного горем графа Мина, приказывая себе не думать о его потере, но тем более он торопился оказаться рядом с возлюбленным, увидеть его, коснуться, дать успокоение своему сердцу, что с ним всё в порядке. Намджун нырнул к нему под мягкий полог покрывала, разбудил своими поцелуями, своей страстью, сжимая тёплое, сонное тело, что сразу же отозвалось гибкой струной на его ласки. И уже третья любовная схватка между ними за эту ночь, а всё мало. И каждый раз всё ненасытнее страсть, но всё нежнее любовь. Не может Намджун оторваться от губ, от ароматной кожи, и всё целует розовые скулы, трепещущие ресницы, раскрытые губы, пока его возлюбленный отходит от пережитой эйфории.
Чувство, что накрыло мужчину в этот момент не сравнить ни с чем — рядом с ним не просто возлюбленный, не пылкий юноша, и даже не всесильный король, что через несколько дней станет императором, рядом с ним его родной человек, половина его души и сердца, половина его самого, и ближе его не будет никого. И, видимо, Сокджин чувствует то же самое, потому что жмётся особо трепетно, обхватывая покрытое испариной тело мужчины. Сейчас для них весь мир заключён друг в друге, и никого нет на земле кроме них.
Солнце восходит над их новой империей, и для них это утро словно новая жизнь. Больше не нужно гоняться за мечтой — она уже воплощена, не нужно выстраивать цели — они все достигнуты, не нужно приносить больших жертв — последняя была отдана вчера. Теперь только их жизнь, их любовь, только они друг для друга. И всё же... есть то, что омрачает прекрасное сердце Сокджина, и он не может перестать думать об этом. Он счастлив... безумно счастлив, но не думать о судьбе несчастного принца, заточённого в темницу, он не может.
Неуверенный взгляд, судорожный выдох и, чуть подрагивающие пальцы на предплечье мужчины, а Намджун уже всё понимает, и улыбается счастливо, лицом зарываясь в волосы любимого.
— Скажи, любовь моя...
— Я хочу попросить...
— Тебе не нужно ничего просить, просто скажи, и всё будет именно так.
Сокджин чуть отстраняется, не смотрит в глаза и сжимается, не решаясь озвучить то, что беспокоит его, и всё же...
— Всё, что ты делаешь — делаешь ради меня, я это знаю. И на что ты способен, тоже знаю, — Намджун замирает, и в упор смотрит на возлюбленного, ожидая того, что он скажет. — Никогда в жизни я не осмелюсь осуждать тебя, ибо большую часть своей жизни прожил в беспросветной жестокости, и ты прошёл через это же. Но ты любишь меня, и это самое прекрасное, что есть в моей жизни, в целом мире.
— Ты стоишь всего мира!..
— И ты мне его подарил! — пылко шепчет Сокджин. — Но прошу сейчас... единственный раз, исполни мою просьбу. Не убивай принца Алексея. Сохрани ему жизнь... Он так несчастен, и прожил жизнь подобную моей, находясь в заточении у родных людей, был правителем без короны, без дома, без царства. Мне невероятно жаль его. Прошу, пощади его.
Намджун молчит и теперь не смотрит в глаза, но всё также нежно ласкает, ещё не остывшее от страсти, восхитительное тело. Его любимый просит, наверное, первый раз в жизни, а глубокое сомнение, что не нужно выполнять его просьбу скребёт в мозгу.
— Он наследный принц, законный наследник престола. Если оставлю его в живых, кто-то может воспользоваться им также, как и я, — Намджун говорит уверенно, пытаясь убедить любимого в разумности его решения. — Это опасно. Я не могу так рисковать.
— Кто им может воспользоваться? Какая сила может сравниться с твоей? — Сокджин шепчет горячо и смелее, зная, что прав. — Нет в мире никакой другой державы и другой армии, что могла бы быть сильнее твоей. Никакой властитель во всех четырёх сторонах света не одолеет тебя. Спрячь Алексея, заточи в каком-нибудь замке, но дай жить! Мне страшно... оттого, что его смерть ляжет непосильным грузом на мою душу. Совесть гложет меня. Прошу, сделай мне этот подарок — отпусти его.
Понадобилось несколько долгих минут, чтобы Намджун смог принять решение, балансируя на грани сомнения и соблазна. Он смотрит на дивное лицо любимого, гладит шелковистые тёмные пряди, притягивая к своей груди. Нельзя... нельзя оставлять принца в живых, но... его любимый просит о подарке, и он в силах его преподнести.
— Я сохраню ему жизнь, — и рыцарь чувствует облегчённый выдох любимого. — Но до конца своих дней принц не сможет покинуть место своего заточения. Он будет жить достойно своего титула, но как пленник.
— Благодарю тебя, мой родной. Я буду счастлив, если этот несчастный принц обретёт покой души, и его жизнь пройдёт без тревог.
— Обещаю...
— Люблю тебя.
— Живу лишь для тебя... ради тебя дышу, мой прекрасный король.
— А я ради тебя, мой верный рыцарь.
*
Утро вступило в свои права, распрямляя солнечные лучи, выдыхая свежим морским бризом, щебеча тонкими птичьими голосами. Столь долгожданное утро для рыцаря, когда сотворённая его же руками империя встретит свой первый день.
Он оставил своего нежного возлюбленного досматривать сны, опустив его темноволосую макушку на мягкую перину, подарив трепетный поцелуй в чистый лоб, а сам вышел, распрямляя плечи, щуря глаза, в которых мгла ночи не исчезла с рассветом. Перед ним склоняются, словно перед правителем, его слова ждут как приказа, и шаг его — твёрдый и решительный — говорит о силе и власти, коими одарён мужчина.
Щедрый жест от Белого рыцаря — он разрешил похоронить тех, у кого нашлись близкие и родные. Остальных же убитых, с грузом на шее, опустили на дно пролива. Город после дождя был вылизан, избавлен от уродливых остатков прошедших зверств и грабежа. Он должен сиять в день, когда само воплощение красоты и доброты въедет в него, как новый полноправный хозяин.
Белый рыцарь вновь поражает всех размахом — Сокджин будет коронован по подобию древнеримских императоров! На престол его воздвигнет войско, а корону возложит он сам, как полководец и главнокомандующий армии крестоносцев. Сотни лет правители Византии венчались на царствование как наместники бога, являясь тенями православных патриархов. Но их новый император не может быть тенью, ибо он само солнце, и будет сиять на троне подобно богам.
На третий день, в лучах предзакатного солнца, Золотые Ворота были распахнуты настежь, и от каменистого порога до самых Влахерн и дверей Императорского дворца стелился алый шёлк, по которому будет ступать будущий император. Его огромная свита, пышной яркой рекой протекала через все три арки, с вершины которых на них смотрели золочёные статуи львов — каменных стражей Константинополя, мягко соединяясь в одну человеческую реку, и под бурные приветствия толпы направлялась кавалькадой к ступеням.
Великолепный конь «изабелловой»{?}[«Изабелловая масть» — применяют к животным почти белого цвета, в честь королевы Изабеллы.] масти, на котором восседал король Монферратский, с белоснежной гривой и пышным хвостом, выделялся в массе вороных и гнедых скакунов, а сам всадник с сияющими глазами и торопливой улыбкой, был похож на античное божество — ожившую статую Аполлона. Его белый плащ, скроен наподобие палудаментума{?}[Палудаментум — особая разновидность воинского плаща, которую носили как солдаты, так и офицеры Древнего Рима.], и схвачен на правом плече золотой брошью. Белый кожаный панцирь-доспех, с изображёнными на ней золотыми львами, укрывал грудь и спину короля. Кожаные полосы с золотыми пластинами закрывали бёдра юноши, поверх белоснежной длинной рубахи. Золотые армиллы обхватывали предплечья, белые полосы сандалий обвивали голени, а в шелковистых, струящихся до плеч волосах, сиял золотой обруч с жемчугами.
Сокджин взирал на великолепный город, на возвышающиеся арки и дома, с зелёными стрелами кипарисов меж них, на синее небо, где ласково светило солнце, и, казалось, улыбки людей вокруг были такими же сияющими, как эти лучи. Король вызывал восхищение и некий трепет в белых и золотых одеяниях. Его открытое лицо с мягкими чертами и нежным взглядом внушало благолепие.
На Марсовом поле, что теперь именовалось Евдомом, Сокджина ожидали патриарх и солдаты императорского гарнизона. Все знамёна были опущены к земле. Глашатай выступает вперёд, когда все находящиеся на площади — горожане, священнослужители и воины, преклоняют колено, склонив головы.
— Призываем тебя, короля Монферратского, маркграфа Фессалоники, Ким Сокджина, занять престол именем Народа, Сената и Армии!
Все присутствующие слово в слово повторили призыв глашатая, обращаясь к будущему императору.
— Принимаю, — короткий ответ обозначил начало нового правления Латинской империи.
Под крики толпы Сокджин поднимается на трибунал{?}[Трибунал — возвышение, на котором восседали в Древнем Риме важнейшие должностные лица — консулы, преторы.], где восседали высшие лица новой империи, и их военное одеяние на манер древнеримских легионеров было неслучайным. Намджун, весь в золотом одеянии, поднимается навстречу, а вслед за ним и трибуны, что держат в руках императорские регалии. Теперь король должен преклонить колено перед ними, пока патриарх возносит молитву, что громким эхом проносилась над головами собравшихся, улетая ввысь.
Сорок гвардейцев императорской охраны окружают их, громыхая высокими прямоугольными щитами, закрывая ото всех, а новоизбранного правителя облачают в императорские одежды и диадему. На хрупкие плечи накидывают пурпурный плащ, тонкий стан опоясывают шитым золотыми нитями алым кушаком. Вульф протягивает своему господину золотую цепь, что гибкой лентой ложится на грудь. Но когда его возлюбленный возложил ему на голову императорский венец, Сокджин задрожал.
— Намджун... — совсем тихим вздохом слетает с губ, а мужчина не в силах противостоять слабости — проводит нежно ладонью по волосам, накрывая тёплую щёку, к которой так ластится дивный юноша, прикрыв глаза.
Но церемония продолжается, и распахнутые щиты являют взору огромной толпы нового императора. Знамёна поднимаются в воздух разом, а крики приветствий уносятся в небо вместе с сотнями белых голубей.
— Провозглашаем императора Сокджина Августом{?}[Авгу́ст — титул древнеримских императоров], назначенным Богом и находящимся под Божьей защитой. Аминь, — голос глашатая перекрывает крики затихающей толпы.
— Аминь, — в едином вздохе доносится со всех концов Марсового поля, вызывая мурашки по коже и благоговейный трепет.
А дальше — безумие языческих богов — «поднятие на щите»{?}[«Поднятие на щите» — восходит к ритуалу провозглашения императора воинами Древнего Рима, возник на основе обычая древних германцев поднимать на щит новоизбранного вождя.] — древняя церемония, что оставлена в наследие племенами воинственных германцев, чья кровь течёт в жилах Белого рыцаря — его дань поклонения перед своим божеством. Сокджин смело ступает на выставленный перед собой скутум{?}[Ску́тум — ростовой (башенный) щит с центральной ручкой и умбоном.], легко опираясь на сильное плечо возлюбленного, выпрямляясь во весь рост, и ни разу не дрогнул, когда крепкие руки в едином порыве поднимают его на щите. Боевой клич сотен крестоносцев отскакивает от каменных стен площади, на мгновение пугая толпу. Намджун держит щит справа, Вульф — слева, позади двое могучих солдат, и вместе они ещё выше тянут щит, поднимая на плечо, чтобы все узрели нового императора, весь Константинополь! Весь мир!
— Бог всемогущий и решение ваше, храбрейшие соратники, избрали меня императором государства латинов, — голос Сокджина не дрогнул, а пронёсся чистой высокой песней. — Да будет с нами Бог!
Знамёна колышутся в воздухе, но от ветра ли, или силы людских голосов, приветствующих нового правителя, неизвестно. Пики копий сияют, когда пурпур императорского одеяния развевается за его спиной, а диадема сияет в волосах, и невозможно красивый юноша, теперь уже император, чья империя расстилается от Карпат до Кавказского хребта, от Чёрного до Средиземного моря, от Аравийской пустыни до порогов Нила, взирает на ликующую толпу подданных с той же мягкой улыбкой, уверенно стоящий на щите, зная, что его держат самые надёжные руки.
Возбуждённый и радостный народ медленно устремился к Ипподрому, где будут проходить празднества в честь коронации императора. С мраморных портиков хлынул золотой дождь из монет, что разбрасывали схоларии{?}[Схоларии — позднеримское гвардейское подразделение, состоявшее из элитных отрядов солдат.], окуная руки в огромные чаши с солидами{?}[Солид — римская золотая монета Римской империи, затем Византии.]. Народ вновь ликовал, так скоро позабыв зверства учинённые крестоносцами, которых сейчас же и возносили.
Император проезжал под сводами арок, с которых лёгкими пёрышками летели белые и красные лепестки роз, делая этот судьбоносный день ещё более незабываемым, и он снова улыбался самой яркой улыбкой. Но всё же сердцу хотелось, чтобы любимый был рядом, хотелось улыбаться лишь ему. Сокджин замедляет ход коня, останавливаясь и тормозя всю процессию. Он робко смотрит через плечо, от неуверенности закусив губу.
— Мой император?.. — обеспокоенный голос Намджуна совсем рядом, он подъехал близко, склонив голову, смотря в прекрасное лицо, а Сокджин протягивает руку, обхватывая узды коня главнокомандующего, притягивая ещё ближе, рядом к себе.
Намджун смотрит непонимающе, а свита так и замерла с изумлённо распахнутыми глазами — это нарушение иерархии — рядом с императором никто не может находиться, только позади.
— Вот так... рядом со мной, — решительно заявляет юноша, будто боится, что рыцарь не послушается его. — Только рядом со мной.
Улыбка медленно растягивается на бледных губах мужчины, и взгляд его становится тягуче-чёрным, когда он склоняет голову, не отрывая глаз от взволнованного лица императора.
— Как прикажет мой император, — и становится столь близко, что порой колени соприкасались, и пусть вокруг смятение и изумление с тихим ропотом, им нет до этого никакого дела — в силах Белого рыцаря ослепить каждого и вырезать языки всем.
*
Колени под пурпурными одеяниями дрожат, а тонкие руки едва удерживают регалии, но голова откинута величественно назад, хоть золотая корона с непривычки чуть сдавливает виски. Но Сокджин уверенно проходит по алому шёлку, твёрдым шагом направляясь к своему трону, что стоит на мраморном возвышении зала оноподиона{?}[Оноподион — вестибюль дворца, служил для определенного вида церемоний.]. Ещё шаг с гулким стуком по мрамору, ещё один, и император разворачивается к подданным, пока евнухи распрямляют пурпурный плащ.
Едва Сокджин уселся, почувствовав спиной холод и жёсткость резного трона, вся толпа в едином порыве опускается перед ним на колени. «Да помнит Господь Бог в его царство — правление Вашего Величества, всегда, ныне и во веки веков. Аминь!»
— Аминь... — тихо повторил император, но кротко склонённая голова монарха — знак благодарности своим подданным.
Серебряные трубы возвещают об окончании церемоний и начале трёхдневных празднеств, невероятным чистым переливом улетая в сумрачное небо Константинополя. Народу, пережившему недавние зверства захватчиков, были обещаны «хлеба и зрелища», которые они не забудут до конца своих дней.
Намджун сдержал свои обещания — вино и мёд лились рекой, столы ломились от яств, а ночное небо пестрело сотнями фейерверков — город праздновал шумным весельем и танцами. А в Императорском дворце был свой праздник — величественный и неспешный, такой, который под стать великой державе и его богоподобному императору.
Чарки поднимались одна за другой, серебряные и золотые блюда разносились меж столов, и грубые мужские голоса становились всё громче и громче. Десятки пар девичьих глаз, а порой и мужских, сияющих откровенным желанием и восхищением, взирали на прекрасного императора, восседавшего на троне, а за его спиной стоял Белый рыцарь.
Намджун не разделял общего веселья, не выпил ни капли вина, лишь непроницаемым взглядом оглядывал пирующих, затаившись тенью за троном. Но даже так не заметить его было невозможно, ширину его плеч и силу его рук, волевой подбородок и взгляд пронизывающий до костей. Сокджин подзывал его к себе, заставляя наклоняться, и щекотал волосами щёку, опалял дыханием мочку уха, и просто тихо смеялся над ним, дразня раз за разом — что взять со счастливого юноши? Со счастливого, безумно влюблённого юноши?..
В разгар пиршества, когда от вина в крови и хмеля в голове, взгляд пирующих стал размытым, а внимание рассеянным, Намджун сам тихо склонился к нему, зовя с собой. Вульф выкрикивает очередной тост за империю и императора, взрывая мраморный зал сотнями вторивших ему голосов, а после приказывает музыкантам грянуть что есть силы, пока император под почтительные, но шатающиеся поклоны покидает зал.
*
Сокджину не терпится оказаться в объятиях мужчины — этот день оставил неизгладимые эмоции у юноши, и хотелось выплеснуть всё своё счастье поцелуями и признаниями. Он не может отказать себе в удовольствии обхватить руку рыцаря, что тут же сжимают трепетно. От нахлынувшей нежности Сокджин прикрывает глаза, не замечая, куда они идут. И пусть его личный слуга вежливо прячет глаза, делая вид, что не видит ничего, а встречающиеся на пути кланяются как можно ниже, смущаясь такого нежного проявления чувства — всё равно... теперь всё равно.
Тишина и сумрак молельной комнаты, с тонким ароматом ладана и цветков лимона, заставляют Сокджина вскинуть непонимающий взгляд и замереть у порога. Но его мягко тянут к себе сильные руки, и голос мужчины звучит по-особенному проникновенно.
— Иди ко мне...
Его утягивают к небольшому резному алтарю, где красное дерево и золото, меж которых сияли драгоценные камни, окладами ложились вокруг икон. Высокие свечи разбавляют сумрак мягким золотым свечением. Сокджин понимает, что они не одни здесь — у алтаря в углу стоит молодой свящённик, что был с ними во время похода, а у прохода в молельню тенью застыли Вульф и сопровождавший его личный слуга.
— Намджун?.. — голос чуть задрожал, а сердце подступило к горлу от мимолётной и шальной мысли, что же задумал его возлюбленный.
Глаза с томной поволокой выдают юношу и он крепче сжимает руку мужчины.
— Знаю, возможно, не так всё это делается, и ты скорее всего мечтал совсем не о таком. Но... Я так долго ждал этого дня, всеми моими силами приближал его, чтобы я наконец смог сказать тебе эти слова. Не хочу более расставаться с тобой никогда, ни в этом, ни в ином мире. Будь моим, Сокджин! Будь супругом венчанным, желанным мной и любимым... до конца моих дней! Бог мне в свидетели, как я горю этим желанием — я прошу твоей руки... и сердца...
— Оно и так твоё, — теперь Сокджин и не скрывает невероятного волнения, объявшего его. Голос дрожит, как и руки, что тянутся к лицу возлюбленного, а на глазах теперь сияющая пелена слёз. — С самого мгновения, как я тебя увидел... моё сердце выбрало тебя. И я хочу... больше жизни хочу быть твоим супругом.
— Ты делаешь меня счастливейшим из смертных.
— Потому что ты сделал меня таковым, мой любимый.
Они кидаются в объятия друг к другу, хоть в тайной комнате для молитв перед ликом Сына Божьего требуется сдерживать себя в порывах и быть смиренным. Но какое возможно терпение для любви? Какая кротость устоит перед истинным, глубоким чувством, перед страстью? Губы тянутся друг к другу, и руки сжимают крепче, когда Вульф громко прокашливается наигранно, а после позволяет себе смелость, подхватить за локоть Намджуна.
— Поцелуете «невесту» после венчания, — и Сокджин готов поклясться, что впервые в жизни видел настоящую, искреннюю и широкую улыбку давнего друга, а не волчий оскал. Зелёные глаза Кая сияли глубинной радостью и сердце его ликовало за счастье своих самых близких людей. — Нужно подготовиться.
Намджун кивает согласно, отпуская возлюбленного из объятий и кидая короткие фразы священнику, отходит, в то время как слуга склонился перед Сокджином. Их развели в противоположенные от алтаря комнаты, укрыв за нишами.
Сокджин дрожал так, что руки тряслись и не слушались, а слуга понимающе улыбался, помогая ему стягивать роскошные императорские одеяния. Корона осталась лежать поверх пурпурного плаща, расшитый золотом пояс лёг рядом с ними, стягивающий кожаный доспех прислонился к стене, драгоценности одна за другой падали в резную шкатулку. И вот, на подрагивающие плечи юноши мягко ложится простое одеяние из тончайшей шерсти без вышивок и украшений — белое, струящееся, обволакивающее, а под белой тканью сердце грохочет от невозможного ожидания.
Что было потом Сокджин запомнил навсегда. Аромат цветков лимона врезался в память и волновал ещё сильнее. Глаза любимого, сияющие невыразимой любовью влекли к себе. Он помнит мягкость бархата под коленями, когда он опустился перед алтарём рядом со своим возлюбленным, одетым в такие же белые и простые одеяния, пока молитва священника тихо струилась по воздуху, а позади них стояли свидетели их венчания.
Смиренно сложенные ладони пред собой в знак покорности перед волей божьей, и губы вторящие молитве тоже отложились в памяти смутными образами, но когда голос священника задал вопрос о решении их стать супругами, Сокджин заволновался ещё сильнее. Он слышит твёрдое и хриплое «да» Намджуна, слышит своё собственное тихое «да», а сдерживать эмоции всё труднее.
— «Во имя Отца, Сына и Святого Духа...»
— «Аминь».
Венки, из самых нежных и душистых цветов в объятиях зелени листвы опускаются им на головы, а руки соединяются широкой алой лентой.
— «Согласны ли вы хранить верность друг другу, любить и оберегать, в болезни и здравии, до конца своей жизни, пока смерть не разлучит вас?»
Пока смерть не разлучит? Возможно ли такое для них? В одну из ночей они обещали вечность друг другу... навсегда. Так важно ли быть верным и любить лишь до смерти, если и после они не изменят, не разлюбят, не покинут родной души? Но снова обоюдное согласие слетает с губ.
— Перед Господом и свидетелями, стоящими здесь, я даю обет любить и беречь тебя все годы, что пошлёт нам Господь. Беру тебя, Сокджина, в свои супруги и обещаю быть преданным и не оставлять до самой смерти. Во имя Отца, Сына и Святого Духа.
Простое кольцо из червонного серебра с гравировкой имени супруга обхватывает безымянный палец юноши, и столь символично, что оно без камней и алмазов, даже не из золота, неприметное, но являющееся символом их союза.
— Я беру тебя, Намджун, в мужья, чтобы всегда быть вместе в радости и горе, в бедности и богатстве, в болезни и здравии, пока смерть не разлучит нас. Во имя Отца, Сына и Святого Духа.
Столь же символичное серебряное кольцо надевается на безымянный палец рыцаря дрожащей рукой Сокджина, хоть улыбка играет на его губах от счастья.
— «Властью данной мне богом... — Сокджин готов упасть в обморок, и рука неосознанно обхватывает руку мужчины, что тут же переплетается с его, — ...объявляю вас супругами. Во имя Отца и Сына...»
Они смотрят друг на друга, понимая, что их сердца сейчас стучат абсолютно одинаково, и, кажется, замирают в одно мгновение, когда слышат последние слова священника. Позади слышится тихий всхлип прислужника, что прослезился от столь трогательного момента, и странный хрип Вульфа, сдерживающегося от громкого вскрика радости. Но всё же их заглушает сердцебиение — одно на двоих.
Теперь они супруги перед Богом и людьми, и глаза теперь смотрят друг на друга по-другому, всё также с любовью, также с нежностью и затаённой страстью, но с осознанием, что ближе и роднее нет души.
— Вот теперь можете поцеловать «невесту», — всё же кряхтит Вульф, чуть постукивая себя по груди от не прокашлянного смеха радости. Он ожидал пылкого поцелуя, сжигающего свое страстностью, но явно был удивлён целомудренному лёгкому прикосновению в лоб с самым трепетным объятием.
*
Намджун занёс его на руках в новые покои словно в новый дом, сжимая крепко, притянув его темноволосую макушку к своему плечу. Императорское ложе было столь высоким и большим, что к нему нужно было подниматься на ступенях, покрытых мягкими коврами. Огромные золочённые столбы подпирали рамы балдахина, с которых свисали тяжёлые парчовые ткани, красные как кровь, а перина — пышная и белоснежная, как лебяжье перо. Сокджин утопает в ней, утягивая своего мужа за собой, целует его руку, щекой прижимаясь к кольцу на пальце.
— Знаю, что брак наш тайный, и мы не можем выказывать супружеской любви на людях, но я так невероятно счастлив, что страшно... страшно оттого, насколько мне хорошо рядом с тобой. Но здесь наши покои и наше супружеское ложе, где мы с тобой будем любить друг друга. Хотя... — Сокджин улыбается мягко, ладонями обхватывая лицо мужа, — мне кажется, что весь мир уже знает о нашей любви.
— Знают, — целует руки юноши Намджун, поочерёдно поднося их к своим губам. — Боюсь я ничего никогда и не мог скрывать, слишком был явным перед тобой. А уж теперь, тем более не смогу, мой прекрасный супруг.
Сокджин трепещет оттого, что Намджун впервые назвал его супругом, и непослушные слёзы выступают на глазах.
— Не плачь, — Намджун сильнее сжимает его, — сегодня первая ночь нашего супружества, но бесконечная в нашей любви.
— Я лишь от счастья, — шепчет тихо юноша, растворяясь в объятии любимого, ожидая страсть, что обрушится на него, но Намджун отстраняется медленно, нависая над ним, и смотрит в глаза, словно в саму душу.
— Я не помню когда в последний раз обращался к нему... к Богу, с молитвой о помощи и благословении. Видимо, той самой ночью, когда штурмовал Казале, пытаясь свергнуть твоего отца. С тех пор я никогда и ни о чём не просил Его — всё делал сам... так, как умел, — Намджун затих на долгие секунды, уносясь в своих воспоминаниях на мгновение. — Но сейчас... хочу вернуться к Нему, хочу посмотреть себе в душу, чтобы найти хоть крупицу светлого и доброго, что осталось во мне... ради тебя, любовь моя...
— Намджун... — Сокджин задыхается оттого, что слышит и слёзы снова выступают на глазах, делая их ещё огромнее и прекраснее.
— Господь, — голос всё же дрогнул от обращения, что столько лет не слетало с его уст, — прошу и взываю к тебе. Благослови и направь на путь истинный, даруй мудрость и терпение стать достойным супругом. Отведи всё зло, что есть на земле от возлюбленного моего. Позволь даровать ему земное счастье и Рай после смерти. Аминь.
— Аминь. Благодарю тебя, супруг мой. Господь услышит тебя, и примет к себе. Я счастлив.
И всё же эта была ночь их любви, утопающая в нежности, растворяющая в трепете, где каждый выдох — стон, а каждое прикосновение — жар. Намджун всё так же страстен, весь мир перестаёт существовать рядом с его возлюбленным, ничто не важно и не имеет смысла, пока в его объятиях его прекрасный Сокджин. Потеряться в этой нежности и пылком желании, забыть о мире, где всё так зыбко и переменчиво, но всё же есть вечное — любовь! Его любовь!..
Вечное — это его глаза, что цвета тёмного золота, его губы, что сок вишни и вкус нектара, его шёпот, что жарче южного ветра и проникновеннее молитвы; вечное — это его возлюбленный, его супруг.
*
Но ночь прошла, и розоватая предрассветная дымка едва забрезжила на горизонте, когда Намджун покинул брачное ложе, оставив обессиленного страстью супруга на мягкой перине. Он оставил этот рай, чтобы спуститься в ад.
Намджун тянул как мог, столько, сколько позволяли остатки его совести, проснувшейся в нём после того, как заглянул в глаза Юнги... сломленного и убитого. А сейчас тянуть некуда. Он давно всё решил, да только самый могущественный и всесильный рыцарь огромной империи боялся... невероятно боялся спуститься в темницы и посмотреть в лицо своему лучшему врагу.
Петли ржаво скрипнули, и Намджун почему-то не был удивлён, увидев Хосока у решёток, где находился граф. Видимо, он его и не покидал, с тех пор как Юнги был здесь.
Едва заметив Белого рыцаря, Хосок вскакивает, заметно ощетинившись, и рука крепко охватывает рукоять меча. Тот останавливает его жестом.
— Оставьте нас, лорд. Ни к чему Ваше беспокойство.
— Я останусь, и Вы не сможете меня прогнать.
— Ваш друг будет освобождён сразу вслед за Вами. Я лишь поговорю с ним.
— Ни чем хорошим для моего друга ваши встречи и ваши разговоры не заканчивались никогда, и я Вам не верю... больше не верю.
— Хосок, — голос из-за решёток охрип, но твёрд, — оставь.
Ирландец мнётся секунды, но после всё же отходит, кинув огненный взгляд на Намджуна. Он знает — за спиной Белого рыцаря стража, затаившаяся в тени каменных стен, но готов раскидать их едва они приблизятся к его другу.
Намджун всё же заходит за решётки, взглядом цепляя сгорбившуюся фигуру графа в тусклом пламени факела.
— Слишком часто мы стали встречаться в темнице, — тихо начал он, — мне бы не хотелось, чтобы это повторилось вновь.
— Думаю следующая наша встреча будет у твоей могилы, — хрипит Юнги в ответ не поднимая головы, — которую ты сам и выкопаешь.
— Этого никто не знает.
— Я знаю. Я убью тебя.
Намджун молчит. Говорить о смерти после столь нежной ночи со своим прекрасным супругом он не хочет. Он хочет любить, а не умирать. Тонкая тревожная струна зашевелилась в его душе, и что-то тяжкое, словно камень, давило на сердце. Пришла пора не только вернуться к Богу, но и признавать свои ошибки — в том, что этот мужчина сидит сломленным перед ним, есть и его доля вины, а может и вовсе он один виноват.
— Я освобождаю тебя, и позволяю тебе вернуться к себе на родину к своему сыну и родным. Ты доблестный рыцарь, храбрейший из всех, кого я знаю, и наши победы зачастую зависели от тебя, как командующего дивизиона, и я в тебе не ошибся. Ты достоин наград и почестей, коих ты и получишь...
— Заткнись! Заткнись немедля! — хрип превратился в рык. — Ты... освобождаешь меня? Позволяешь вернуться... домой? Избавляешься от меня? Страшно стало? Страшно? Да ты трус после этого! Ты последний трус! Презренная собака без чести и совести! Ты от меня не избавишься, я ни за что не покину город, не покину тебя, барон Тироли!
— Ты столь стремился уйти... вернуться на родину, а сейчас, я отпускаю тебя и не понимаю твоих мыслей.
— Всё ты понимаешь. Знаешь же к кому так стремился, с кем жестоко разлучил меня, — Юнги затих и голос его дрожит, причиняя совести стоявшего над ним мужчины ещё большие страдания. Но никакая его боль, никакой его страх, не сравнится с чёрной бездной в сердце графа Мина, Намджун действительно всё понимает. И теперь, когда он сам так счастлив, когда его любимый супруг спокойно спит в их постели, страшно в тысячу раз больше. — Его нигде нет в этом мире, — у Намджуна волосы на теле дыбом встают от голоса Юнги. — Нигде. Я не столкнусь с ним в замке Анжу, не смогу любоваться им тайком, не смогу восхищаться, видя его глаза и улыбку. И впору умереть вслед за ним, но ты меня держишь, крепко и верно держишь. И я не уйду, пока не убью тебя.
— Подумай о сыне...
Юнги не ответил, лишь встал медленно, совсем тихо приближаясь к рыцарю и поднимая лицо в свете факела. Намджун устрашается его лица, бледного, словно смерть, с чёрными впалыми глазницами и обескровленными губами. Волосы, отросшие, чёрные как смоль, взмокшими прядями спадали на лоб. Но глаза... глаза сама бездна, сама мгла, без жизни и света.
— Чтобы он видел перед собой это?.. Видел своего отца таким, с мёртвым сердцем, лишённым смысла жизни?
Теперь Намджун молчит. И ещё горше от мысли, что он не только разлучил Юнги с возлюбленным, но и лишил сына отца. Слишком много наваливается на мужчину разом, и к такому он не готов. Он отступает. Впервые в жизни отступает.
— Делай, что хочешь. Ты свободен.
— Ты вернёшь мне должность командующего дивизионом и выделишь территории за городом.
— Хорошо.
— И отпустишь Чанёля. Он должен получить право беспрекословно покинуть Константинополь.
— Д-да. Он свободен.
Юнги выходит первым, оставляя за собой Намджуна стоять как вкопанного. От его решительного шага и расправленных волевым движением плеч, вздрогнул даже Хосок. Он равняется с ним, пытаясь заглянуть ему в глаза, и получает пожирающий огонь, а не взгляд. Кровь бежит быстрее в жилах ирландца, и сердце бурлит от радости, что его друг воскрес, пусть для отмщения, пусть для кровавой битвы, но живой.
На крохотные доли мгновения Намджуну захотелось прикрыть за вышедшим из темницы Юнги решётку, и замереть здесь, не выходя на свет. Ему показалось, что он только что выпустил на свободу лютого волка, пожирающего всё вокруг... волка, которого создал сам.
***
Дамаск. 1203г.
Дни складывались в недели, а те — в месяцы. Чимин опомниться не успел, как после его заточения в гарем прошло три месяца. Он смотрит на себя в зеркало и совсем себя не узнаёт — тот ли это юноша, граф Блуа из далёкой Франкии, что уплыл оттуда с призрачными надеждами? Однозначно — нет. Казалось юноша повзрослел за этот короткий срок — взгляд его уже не метал серые молнии, а смотрел холодным, пренебрежительным взглядом льдисто-голубых глаз; движения медлительны и полны достоинства, а голос — глубокий и твёрдый.
Чимин никогда не забывал, что он в плену — в роскошном, сказочно красивом, полном удовольствий, но плену. Гарем не был таким уж большим, и как понял юноша, падишах пользовался им достаточно редко. Но это было самое невероятное место, которое видел Чимин в своей жизни. Столько богатства вокруг, что глаз не успевал за день налюбоваться каждым предметом искусства, находящимся в покоях гарема. Просторные комнаты — два огромных зала, где обитали по несколько одалисок сразу, и с десяток отдельных покоев для фавориток. Чимину были предоставлены лучшие комнаты и дюжина прислужников, и в гареме у него была жизнь полная достатка и благополучия. Но и с него требовали немало. С первого дня юноша подвергался каждодневному обучению, довольно строгому, и учителя его хорошо говорили на латинском и французском. И если Чимин знал о письме и чтении, сносно рисовал и мог бренчать на двенадцатиструнной лютне, то гаремные учителя полностью перевернули его мир. Юноша чувствовал себя неловко, смущаясь и краснея от своего невежества и неумения, хоть и сидел перед учителем с гордо вздёрнутой головой.
В первые дни он глазел, плохо скрывая всё изумление, на тонкие кисти, чёрную пудру, яркие картинки в книгах, костяные счеты, доски и мел, а после, столь увлёкся всем этим, что сидел с разинутым ртом, впитывая в себя всё, что видел и слышал.
Тэхён наблюдал за ним, следил за его увлечённостью, радуясь тому, что юноше всё больше нравится это, нравится это место, этот дворец. После того вечера, когда юношу со слезами на глазах отдали в гарем, они не встречались. Но всё же падишах призвал его к себе через три недели, надеясь, что этого времени было достаточно, чтобы юноша смирился. Тэхён ошибался. Он понял это, как только Чимин предстал перед ним: взгляд мечущий молнии, упрямо поджатые губы, стиснутые кулачки и гордый разворот плеч.
Разговор не шёл, ибо Чимин отвечал на вопросы падишаха неохотно, ограничиваясь односложными «да» и «нет». Огня добавил, как всегда, Гела, что синим взглядом буравил юношу перед ним.
— Мой господин, Чимин достаточно уже находится в гареме, не пора ли ему сменить имя?
От услышанного юноша опешил, испуганно уставившись на синеглазого, а тот ухмыляется довольный тем, что удалось уколоть паршивца. Чимин взирает на падишаха вопросительно.
— Сменить имя? Мне? Что за дикость?
— Всем, кто живёт в гареме господина, а также его личным прислужникам, дают новые имена, — всё также насмешливо тянет Гела. Его поддерживает главный евнух, что привёл Чимина к падишаху.
— Великий падишах, дозвольте сказать рабу Вашему. Весь Дамаск дал ему имя «Зиннур» — лучезарный, как Вы смотрите на это? — низко кланяется евнух повелителю.
— Какого чёрта? Какое ещё имя?! — Чимин вскипает мгновенно. — Моё имя — Пак Чимин, граф Блуа! Имя данное мне родителями моими с благословения Господа Бога! И никто не вправе менять его!
— Простите господин, — евнух падает на колени перед падишахом, — за недостойное поведение этого неблагодарного и невоспитанного юноши, его обучение только началось.
Тэхён жестом приказывает молчать всем, и сам мягко разъясняет пылающему гневом юноше:
— Новое имя, как новая жизнь, его получают все, кто рядом со мной. Всё что было до, то забывается — что волновало тебя, пленило, смущало — всё забудется. Здесь у тебя будет новая жизнь и новое имя.
— Вы думаете, оттого, что поменяете мне имя, я изменюсь? Это нелепо! Если Вы будете называть... Зиннуром, а не Чимином, я что-то забуду из моей жизни? Забуду родных и... близких мне людей? Я сейчас рассмеюсь Вам в лицо!
— Закрой рот негодник! — Гела тоже вскипает. Когда-нибудь он отхлестает руками эти прелестные щёки и завяжет эти божественные губы кляпом! — Всё забывается... родные места, лица, имена — ничего не останется ни в мыслях, ни в сердце, даже собственное имя забудешь, как и... «я", — но это осталось неозвученным, лишь скрываемая горечь на дне синих глаз.
— Мне плевать у кого, что было. Моя жизнь останется моей, как и моё имя.
Больше от юноши никто и слова не услышал, но с того дня имя «Зиннур» осталось за ним.
Чимин не откликался, не оборачивался и не замечал того, кто к нему обращался с этим именем, демонстративно показывая своё недовольство. Но об имени «Чимин» все забыли, даже если юноша не реагировал на новое.
Всё продолжалось так же — спокойно и мерно протекало время в постоянном обучении, к которому добавились музыка и пение, всё так же Чимин, теперь Зиннур, тонул в гаремной жизни. Но чем дальше, тем отрешённее становился сам юноша, теряя уверенность и решительность день за днём. Каждую ночь он смотрел в своё окно, сквозь великолепнейшие резные решётки, на тёмный небосвод — на яркие звёзды и в день раз меняющуюся луну. Смотрел и плакал от безысходности и отчаяния, от тоски, что сворачивала его в три погибели, заставляя сильнее рыдать на шёлковых подушках — он тосковал по Юнги.
Сердце несчастного юноши рвалось на части — он не мог никому рассказать о нём, высказать, выплеснуть свою боль, свою любовь к нему. И эта невысказанность сжигала его изнутри. Не было у него ни одной родной души здесь, ни одного друга, Чимин угасал, теряя блеск в глазах и решительность во взгляде. Ничто его не увлекало более, не интересовало, а в один из дней и вовсе не вышел из комнаты, так и оставшись лежать на перине, бездумно пялясь в потолок. Тоска накрыла его, заставляя безостановочно лить слёзы молча. На все расспросы о его здоровье и самочувствии он лишь требовал оставить его, да и лекари не нашли у него никаких болячек — у юноши болело сердце и ныла душа.
Тэхён знал обо всём, сам интересуясь жизнью юноши в гареме, и евнух с тяжким вздохом рассказывал об усиливающемся недуге Зиннура, о слезах, что тот проливал ночами, о бездонной тоске в его глазах.
У самого падишаха болело сердце — его возлюбленный сейчас далеко, и сердце его сжимает не меньшая печаль. Но в отличие от Зиннура у Техёна есть Гела — его верный и близкий друг, тот, у кого он может поплакаться на груди, а Зиннур совсем один.
Тем вечером Тэхён сам пришёл к юноше. Засуетившиеся евнух и прислужники кинулись было растормошить поникшего Зиннура, но он остановил их, и зашёл в покои юноши один.
В комнате было достаточно темно, лишь небольшая свеча горела у подножья лежака, где находился юноша. Казалось, он спал, но Тэхён отчётливо слышал тихий всхлип. Падишах присел рядом, смотря в его заплаканное лицо, и сердце повелителя сжалось от столь несчастного вида юноши.
— Зиннур? — падишах тихо позвал его, но тот даже не открыл глаза, но стиснул кулачками шёлковую наволочку подушки. — «Какой же ты упрямец, мой храбрый птенчик», — Тэхён улыбнулся своим мыслям, ласково касаясь руки юноши. — Чимин? Посмотри на меня, — Тэхён сейчас на всё согласен, и ему сейчас не до упрямства, лишь бы маленькое сердечко его дивного ангела не горевало.
Чимин разлепляет мокрые ресницы, но не смотрит на сидящего перед ним падишаха. Взгляд его застекленевший и не выражающий ничего. На бледном лице мокрые дорожки и затянутые серой дымкой глаза.
— Чимин, что с тобой случилось, мой храбрый птенчик? Расскажи мне.
— Вы последний, кому бы я что-то рассказывал, повелитель, а уж о нём тем более, — Чимин больше не храбрится, нет в нём больше сил.
— С кем бы ты хотел поговорить, душа моя? — голос падишаха тихий, глубокий, успокаивающий, и рука мягко поглаживает руку юноши, пытаясь передать ему этим жестом своё участие.
— С Бэкхё-ёёном... — и рыдания начинают сотрясать несчастного юношу, что завывает в голос.
— Клянусь тебе, что ты обязательно с ним встретишься, ещё и поговоришь много-много раз. Но сейчас, прошу тебя, представь, что я — твой друг, твой Бэкхён. Не отталкивай меня, Чимин, доверься мне.
Чимин затихает немного, поднимая непонимающий взгляд на падишаха, и смотрит ему в лицо.
— Вы совсем на него не похожи... ни капельки.
Тэхён улыбается широко на реплику плачущего юноши и сжимает его руку крепче.
— Совсем? — Чимин мотает головой отрицательно, но смотрит всё же удивлённо. — А какой он, твой Бэкхён, расскажи?
— У него глаза цвета густого мёда, как бусинки, и ресницы длинные.
— А нос тоже не похож? — Тэхён поворачивает лицо в профиль, чуть вздёрнув голову.
— Нет, не похож, — вздыхает Чимин, — носик у него крохотный, круглый. Губы, как бантики, и улыбается Бэки так широко и искренне. Он самый прекрасный и добрый друг на земле.
— Верю... верю, что он самый прекрасный и добрый. Только позволь и мне стать таковым, стать твоим другом.
Чимин снова качает головой отрицательно, и слезы льются из глаз по-новой.
— Вы не поймёте... не сможете понять моей тоски. Только Бэк знал и понимал меня, как никто другой.
— О ком же ты тоскуешь, мой дивный ангел? Не таи в себе более. Ты разрываешь мне сердце своими слезами.
Чимин не может более держать это в себе — он тоскует... невероятно тоскует, так, что кричать хочется.
— Я тоскую по нему! Тоскую по Юнги! Умираю без него! — большего он не может произнести. Жалость к самому себе затапливает его, и в своих рыданиях он не замечает, как Тэхён притягивает его к себе на грудь, обнимая и укачивая в руках, как маленького ребёнка.
— Ну же... не плачь, Чимин. Не плачь, мой птенчик...
— Я больше не могу... Я не понимаю, почему всё это происходит со мной?.. С нами? Почему я должен был его потерять?
— Может быть для того, чтобы понять, как человек важен для тебя? — сейчас рядом с юношей не повелитель Дамаска, а просто друг, что хочет утешить.
— Так жестоко... терять его, когда едва открыл ему сердце, когда только это чувство раскрывалось внутри меня, но ощущение, что он тот самый... единственный, нужный и важный.
— Ты влюблён, ангел мой? Ты тоскуешь по возлюбленному? — Тэхён улыбается своей давней догадке, сильнее прижимая к себе плачущего юношу.
— Да-а, — горько заливается слезами Чимин, и сам жмётся к груди падишаха, находя в нём долгожданное утешение. — Я тоскую безумно... и люблю больше жизни.
— Ты к нему плыл через море? Так хотел встретить его? Кто он, расскажи мне, мой маленький птенчик.
А Чимин словно только этого и ждал — его прорвало, как плотину бурной рекой, и он захлёбывался в собственных воспоминаниях и чувствах. Он рассказал Тэхёну всё, начиная с самой первой встречи в Анжу, о своих чувствах, столь пугающих его самого, о тихой и безмолвной любви мужчины, о турнире, что стал для юноши самым страшным, но одновременно судьбоносным для него днём.
— Он выбрал тебя «господином сердца»? — изумлённо шепчет Тэхён. — На глазах у всего честного народа назвал тебя властелином своего сердца?
— Да, — горестно выдыхает юноша, совсем позабыв, что обнимет «ненавистного» для себя человека. — Тогда он сказал, что любит меня, а я так плакал, так ненавидел его, проклинал и поносил на чём свет стоит.
— Правда? Ты был с ним так жесток? — Тэхён смеётся тихо, сотрясая плечи, — Какой же ты отчаянный, мой маленький птенчик. И всё же полюбил его?
— Очень. Не любить Юнги невозможно.
— Расскажи мне о нём. Какой он, твой мужчина? Чем он так пленил тебя? — столь живо интересуется падишах, всё также обнимая Чимина.
— Сильный, храбрый, даже меня не побоялся, — теперь Чимин смеётся тихо сквозь слёзы. — Просто любил меня, как никто на этом свете, шептал, смотрел, дышал рядом со мной так, что не осталось у меня никаких сил к сопротивлению. Я сдался этому чувству и почти принял его, но... — Чимин умолк, сжимаясь в объятиях падишаха.
— Что случилось, мой хороший, что с ним произошло? — Тэхён тоже замер, боясь услышать страшное.
— Он покинул меня... столь скоротечно, что мы даже не попрощались. Не успели сказать друг другу главного... вернее, я не успел.
— Он не знает, что ты любишь его, — не спрашивает, а утверждает Тэхён, вмиг понимая многое.
— Не знает, — обречённо выдыхает юноша. — Я хотел... я надеялся встретить его в Константинополе. Увидеть его, сказать, что... Но всё зря.
— Что твой рыцарь делает в Константинополе? Зачем ему туда уходить, так далеко от тебя? — Тэхёна одолевает некая догадка, но ждёт ответа юноши.
— Граф Мин — крестоносец, и командующий дивизионом, — у Тэхёна от услышанного глаза вмиг расширяются испуганно, но он прячет лицо в золотистой макушке юноши. Ушедший в свои мысли Чимин и не заметил, как напряглись объятия падишаха. — В столице Византии они должны были остановиться перед тем, как отправиться в Святые Земли.
Мозг падишаха лихорадило от услышанного, и глаза его забегали в темноте, боясь выдать своё волнение, но решение пришло сразу же.
— А знаешь что, ангел мой? — живо подскакивает с подушек Тэхён, поднимая за собой юношу.
— Что? — чуть испуганно лопочет Чимин, смотря огромными глазами на повелителя, и Тэхён снова с улыбкой засматривается на него — на его бледное личико, слипшиеся от слёз ресницы, неуверенный, робкий взгляд льдисто-голубых глаз.
— Я велю послать гонца в Константинополь. Мы найдём твоего друга — Бэкхёна, а после, если твой мужчина прибыл туда, передадим ему весточку о тебе. Ты согласен, мой храбрый птенчик?
Эмоции сменяются одна за другой на лице юноши — неверие, подозрение, изумление и радость, а после — начинает дрожать мелко, и снова плачет.
— П-правда? Вы не обманываете меня? Вы действительно напишете Бэкхёну, что я здесь... во дворце?
— Ты сам ему напишешь, — Тэхён гладит его по волосам и по щекам, утирая слёзы. — Не плачь, мой ангел. Я тоже напишу в подтверждение твоих слов, только не плачь. Мы найдём твоего друга, и твоего мужчину. Но прости, мой дивный, тебя я не могу отпустить — это долгий и опасный путь, полный разных трудностей. Пусть они сами за тобой придут, хорошо?
Чимин может лишь судорожно кивать, всё ещё сотрясаясь в рыданиях, и цепляется за плечи падишаха боясь упасть в обморок от счастья.
— Вот и славно. Завтра же отправим гонца. Ты рад?
— Благодарю... благодарю Вас, мой добрый падишах. Я счастлив!
— Я очень этому рад, но... Чимин я бы тоже хотел такой же доброты от тебя.
— Всё, что пожелаете, повелитель, — улыбается юноша, полностью одурманенный неожиданным счастьем и добротой падишаха.
— Ты не принимаешь имя, которым я тебя одарил, это опечаливает меня. Разве столь прекрасное наречение тяготит тебя? Ведь оно проявление моей бесконечной доброты к тебе. Не отказывайся от него... Зиннур?
Чимин выдыхает смиренно, прикрывая глаза — что ему какое-то чужое имя, если в скором времени за ним придёт его друг, а может и возлюбленный. Он наберётся терпения, сожмёт крепко кулачки и будет ждать, падишах не обманет его.
— Хорошо, повелитель, я приму это имя...
— Тэхён.
— Что? — непонимающе смотрит юноша.
— Моё имя — Тэхён. Прошу тебя, обращайся ко мне по имени. Я буду и этому рад несказанно.
— Тэхён? — вот так, запросто обращаться к всемогущему повелителю, смело произнося его имя? Чимин снова в недоумении.
— Я ведь теперь твой друг, не так ли, Зиннур? Поэтому, прошу называть меня по имени, — Тэхён улыбается столь широко и искренне, что Чимин-Зиннур тоже неконтролируемо растягивает губы в улыбке.
— Конечно, Тэхён, ты мой друг.
— Мой дивный птенчик, — падишах целует в лоб юношу, обнимая за плечи. — Я так рад, что ты облегчил своё сердце, принял меня, как друга. А теперь отдохни, поспи хорошо. Утром мы напишем письма для гонца. Я буду ждать тебя, Зиннур. Да пошлёт Аллах тебе добрые сны.
— И вам... и тебе тоже, Тэхён. Благодарю тебя за всё.
Падишах покинул покои юноши, оставив его с дико бьющимся сердцем и счастливыми слезами на глазах. И какой покой, какой сон тут мог быть после такого, когда только один рассвет отделял его от возлюбленного? Чимину казалось именно так — утром он напишет письмо, за ним придут, его заберут, возможно, в тёплые объятия Юнги. От этой мысли юноша приходит в ещё большее возбуждение. Он не будет ждать до утра — напишет письмо прямо сейчас. И тонкие пальчики подрагивают, когда Чимин садится за низкий письменный стол, беря перо и бумагу. И если письмо для Бэкхёна было готово за считанные минуты, полное уверений в братской любви и невыразимой тоске по другу, то как начать письмо для Юнги, он не знал. И что он в нём напишет? Признаваться в любви он бы не посмел, а говорить, что тоскует, тоже посчитал неприличным. Ведь кто он для Юнги — ни брат, ни друг, ни возлюбленный. Даже если Юнги признавался ему десятки раз в любви, сейчас, спустя почти год после их расставания, у Чимина не было никаких надежд, что чувства мужчины до сих пор те же.
Полночи Чимин маялся над письмом, не зная даже как начать — «Мой дорогой...»? — слишком откровенно. «Любезный друг...»? — тоже не то. «Граф Мин...»? — отчуждённо и холодно. О, как же трудно просто обратиться к мужчине, но ещё труднее выразить свои чувства в письме, боясь быть непонятым, или ещё хуже — высмеянным Юнги. Но всё же...
Снова рассветная дымка розовеет над столицей, а юноша запечатывает своё письмо, боясь даже перечитывать. Белая бумага навсегда впитала в себя чернильными узорами буквы и слова, что лились из самого сердца влюблённого юноши, и теперь пути назад нет, остаётся лишь ждать и надеяться.
*
Чимин всё же заснул, проспав всё утро и почти половину дня, а когда проснулся, судорожно помчался в покои падишаха. Тэхён смеялся над не до конца проснувшимся юношей, с опухшим лицом, с наспех расчёсанными волосами и испуганными глазами — юноша невероятно боялся, что Тэхён передумал.
Гела стоял безмолвной тенью за падишахом, пристально следя за всем, что разворачивалось у него на глазах, не до конца понимая, но уже осознавая игру, затеянную Тэхёном.
— Видимо, мой взъерошенный птенчик не спал всю ночь и писал письма, судя по твоим испачканным лапкам, — падишах глазами указывает на перепачканные засохшими чернилами пальцы юноши, которые Чимин стыдливо прячет в рукава кафтана. — Ну ничего, подойди мой ангел, — Тэхён подзывает его рукой, — видишь этого гонца перед тобой? Он ждёт тебя и твои письма, чтобы немедля отправиться в путь. Передай их ему, Зиннур.
Улыбка — счастливая и искренняя — ширится на лице юноши, когда он без промедления протягивает бумаги склонившемуся гонцу. Он смотрит в смуглое лицо мужчины, с густой чёрной бородой и чёрными как ночь глазами, запоминая его, как своего спасителя и благодетеля, дрожащими руками отдавая свои письма, как свое сердце.
— Д-доброго вам пути и лёгкой дороги. Да благословит вас Господь, — Чимин знает, что гонец не понимает его, но надеется, что сияние его глаз передаст ему всю благодарность.
— Зиннур, ну что же ты? Он всего лишь слуга, что выполняет поручение, лучше иди ко мне, посиди со мной.
Гела в смятении, но лишь в душе. Его красивое лицо непроницаемо, а взгляд синих глаз холоден, но то, что он видит поражает его — Чимин — дикий ангел, который руку откусит только палец протяни — сидит как шёлковый перед падишахом, откликаясь на ненавистное ему новое имя! Что произошло и почему юноша так переменился за столь короткую ночь, он понял, как только увидел письма протянутые дрожащей ладошкой. В сердце телохранителя что-то щёлкнуло в этот момент, стало так больно на мгновение, будто это он стоял так с протянутыми письмами, с невероятной надеждой в глазах.
Он смотрит на падишаха, который для него не просто господин, а друг, делящий с ним и радость и печаль, и в этот момент Гела тоже не узнаёт его — когда Тэхён успел стать таким? Когда из великодушного и доброго юноши он успел стать хитрым и корыстным человеком? Осознание, что Тэхён столь цинично и подло поступил с Чимином, коварной лаской и обманом заставив его принять свою участь, заставило вздрогнуть.
Гела смотрел, как ещё смущаясь, робко, но искренне Чимин, а теперь уже Зиннур, сидел перед падишахом, с сияющими глазами, благодаря за доброту, о которой он не забудет до конца своих дней. Но ещё больше юноша поразился тому, что Тэхён и бровью не повёл, и совесть в нём не заговорила, смотря в лицо обманутого юноши.
— Ты должен понимать, Зиннур, что путь в Константинополь неблизкий, гонец достигнет столицы империи за несколько месяцев, и обратно тоже не скоро. К тому же, ему нужно будет найти твоего друга в огромном городе. Это всё равно, что искать иголку в стоге сена, и это тоже займёт время, — мягко уговаривал юношу падишах, обхватив тонкими пальцами его руку. — Ты должен набраться терпения, Зиннур, и ждать, смиренно склонив голову. Будь благодарен Всевышнему и не забывай возносить молитвы.
— Я буду ждать, — нетерпеливо выпаливает Чимин, — безропотно ждать и надеяться, и, конечно, молиться... всем богам, просить милости для тебя, мой благодетель.
— Я твой друг, Зиннур, — улыбается Тэхён юноше, словно своему ребёнку. — И знаешь что?
— Что? — с огромными от нетерпения глазами шепчет юноша.
— Мы не будем зря терять всё это время. За тобой придёт твой мужчина, ты должен подготовиться к этому времени, — и видя озадаченный взгляд Чимина, пояснил терпеливо, — Взгляни на себя, на кого ты похож? На старую кобылицу с объезженными боками! Совсем не следишь за собой, не украшаешь себя нарядами, не радуешь нас сиянием своих дивных глаз. Так совсем нельзя, Зиннур. Ты должен выполнять все предписания евнухов и доверить им свое тело. Я из тебя такое сокровище сделаю, что твой мужчина просто упадёт к тебе в ноги, едва увидит.
Чимин явно удивлён — он не думал о таком никогда, но находит слова Тэхёна не бессмысленными, и тут же соглашается.
— Хорошо, я согласен.
— Тебе понравится, Зиннур, вот увидишь. Твоё тело, кожа, волосы — это редкий дар и великая ценность, а вместе с умелым уходом, ты станешь просто неотразим.
— Конечно. Я буду самым прилежным учеником, обещаю, повелитель.
— Тэхён, — мягко напоминает падишах.
— Да, Тэхён.
Едва Чимин покинул покои правителя, Тэхён подзывает главного евнуха.
— Бросьте письма в огонь и займитесь Зиннуром. Он должен стать истинной жемчужиной моего дворца, как и достойно его красоте. И пусть у него не будет ни времени, ни желания помнить о чём-то или о ком-то ещё.
— Всё будет исполнено, мой повелитель, — евнух с поклоном удаляется, пятясь назад спиной.
Гела всё также молчит, ожидая раскаянного вздоха падишаха, но Тэхён лишь довольно откинулся на подушки, улыбаясь своим мыслям.
— Зачем ты так жестоко с ним, мой господин? — недоумённый голос телохранителя раздаётся за спиной падишаха, и Тэхён замирает, чувствуя в словах укор.
— Разве жестоко? Мне казалось я поступил гуманно, позволив ему жить некими иллюзиями, что отвлекут его, позволят принять его новую жизнь.
— Ты дал ему надежду на то, что никогда не сбудется. Надежду, что его прежняя жизнь может вернуться к нему... и люди, что были с ним рядом, тоже. Это в сотни раз хуже, чем осознание правды.
— Пусть даже и так. Но не это главное, Гела, — Тэхён оборачивается к нему, смотря серьёзным взглядом. — Прежде чем осуждать меня, знай — мужчина, о котором грезит наш дивный Зиннур — крестоносец, командующий дивизионом, граф из знатной британской семьи. И как ты думаешь, что будет, когда этот рыцарь узнает, где его возлюбленный? Да он сломя голову прискачет и приведёт за собой армию крестоносцев! А этого я допустить точно не могу. И не забывай о пророчестве колдуньи, Гела. Кого бы или чего бы не привёл за собой Зиннур, он должен находиться здесь — в моём дворце.
— Непременно, мой господин, ты как всегда прав.
Впервые, за столь долгие годы их дружбы между падишахом и его телохранителем повисает неуютная, неловкая тишина, словно они только что солгали друг другу. Гела впервые понимает, насколько губительны могут быть чувства падишаха, и как постепенно тот становится рабом своей слепой любви к Чонгуку; Тэхён замирает от непонятного ноющего чувства в груди, отказываясь верить, что это совесть пытается достучаться до его сердца... сердца, в котором нет места ни для чего, кроме всепоглощающего чувства.
А Чимин счастлив, и совсем не подозревает в каком смятении оставил двоих. Улыбка не сходит с его лица, глаза сияют, а сердце стучит в предвкушении — Юнги придёт за ним, Чимин уверен в этом, и заберёт его. А потом он заново завоюет его, и юноша приложит к этому все усилия.