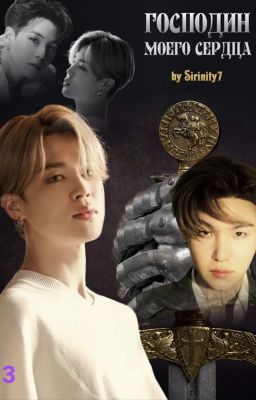Часть 9
========== Глава 9 ==========
Остров Святого Николая. Венецианская республика.1202г.
— А я повторяю — нет денег, нет кораблей! — голос мужчины был спокоен, но твёрже стали. — Мы же договаривались обо всём, Намджун, и условия ты прекрасно помнишь.
— Помню. Но нам нужна отсрочка, — Белый рыцарь также спокоен, хоть и понимает плачевность положения.
— Республика не может её предоставить. На постройку этих кораблей ушла добрая половина казны.
Энрико Дандоло — девяностолетний правитель Венеции, прославился уже только тем, что дожил до столь почтенного возраста, а о его таланте управленца и банкира ходили легенды. Этот пожилой мужчина держал крепкой хваткой всю северную территорию Адриатики, контролируя торговлю, порты и городскую казну. И сейчас, цепким чёрным взглядом смотрел на сидящего перед ним за широким столом рыцаря.
— В связи с этим, нам нужно просмотреть условия нового договора, — столь же невозмутимо продолжает Намджун, медленно протягивая свиток пергамента правителю.
Тот молчал, не принимая бумагу, всё также смотря на мужчину, подмечая, не ошибся ли он в нём, когда заключал с ним договор ровно год назад. И всё же, Энрико разворачивает свиток, подзывая к себе младшего из помощников, и тот слово в слово, переводит договор с французского на венетский{?}[Вене́тский язы́к — один из романских языков. Распространён на северо-востоке Италии, прежде всего в области Венеция. Традиционно относится к «итальянским диалектам».]. И по мере чтения глаза старого дожа расширяются сначала удивлённо, затем изумлённо, а после и вовсе смотрят восхищённо.
Позади Намджуна стоят граф Норфролк и лорд Лаут. Вульфу было позволено сидеть рядом со своим господином, и он странно улыбался, крепко прижимая к себе ещё один свиток под меховым плащом.
Энрико более не сдерживается — смеётся вовсю, наидовольнейшим образом поглаживая себя по груди, и на родном языке восхваляя сидящего перед ним Белого рыцаря.
— Воистину я не ошибся в тебе, когда увидел впервые — горящего решимостью, одержимого своей целью. Тогда я понял, что ничто тебя не остановит. Это в большей степени подтолкнуло меня принять Крест Папы, но ты... ты даже большее сейчас сделал, чем просто убедил меня — ты заставил меня поверить, — старик умолкает, жестом руки приказывая принести им вина. — Выпьем же за благополучный исход дела, о котором говорится в договоре, условия которого я принимаю.
— С божьей помощью мы преодолеем все преграды, и помыслы наши во имя Господа найдут воплощение. Аминь, — а Дандоло лишь смеётся ещё больше, отпивая вино из серебряного кубка.
— Так ли уж ты нуждаешься в Его помощи, мой друг? Скорее уж сам Господь будет уповать на тебя...
— Не богохульствуйте, Дандоло. Я лишь верный раб Его, — невозмутимости рыцарю не занимать, и глаза его ни на миг не опустились перед венецианским правителем. — А теперь соизвольте ещё раз просмотреть два последних пункта договора, прежде, чем подписать его. Мой король — Сокджин Монферратский будет почётным гостем Венеции за то время, что мы пробудем в Задаре{?}[За́дар, Зара — город в Хорватии, один из важнейших исторических центров. В 1105 году Задар по Трогирскому соглашению признал власть венгерского-хорватского короля на условиях весьма широкой автономии. После этого город оказался вовлечённым в постоянные войны между королевством и Венецианской республикой.]. Всё его времяпрепровождение должно быть комфортным. За время моего отсутствия... мой король не должен ни в чём нуждаться. Вы обеспечите ему лучшие палаты и увеселения за счёт казны, а также окажете ему знаки королевского внимания, одарив различного рода ценностями и подарками.
— О, мой мальчик, о чём ты говоришь?! Он у меня будет как царь Крез{?}[Царь Крез — последний царь Лидии из рода Мермнадов, правивший в 560-546 гг. до н. э. Считается, что Крёз одним из первых начал чеканить монету, установив стандарт чистоты металла и гербовую царскую печать на лицевой стороне. По этой причине он слыл в античном мире баснословным богачом, его имя стало нарицательным.] — в золоте и шелках кататься. У него будут лучшие покои, еда, вина, женщины... всё самое лучшее, всё, что только пожелает его сердце.
— Да будет так. Скрепим договор, и подготовимся к походу. Мы выступаем через два дня.
— Прекрасно, прекрасно, не будем ждать более.
Дважды пергамент был переписан на двух языках, подписан и скреплён печатями, а после ещё и по рукам ударили. Лишь после того, как Намджун со своей «свитой» удалился, маска спокойствия соскользнула с его лица, и он встал перед своими ближайшими соратниками с обеспокоенно горящими глазами.
— Соберите всех, я выступлю с речью. И больше чем на божью помощь, уповаю на вашу. Не покиньте меня в этот час, и ваша поддержка окупится вам моей благодатью. Мне нужны ваша воля, мысли, решимость! Всё сейчас на кону — либо мы добьёмся своей цели, либо всё рухнет в одночасье!
— Я с Вами, мой господин, — Вульф склоняется в поклоне перед Намджуном. — Всё, что у меня есть, принадлежит Вам.
— Так же как и моё, главнокомандующий, — Хосок резво склоняется с самым серьёзным видом.
Намджун выжидающе смотрит на Чёрного рыцаря.
— Я не отступлюсь от нашего уговора, поэтому — да, я с тобой, — этого было достаточно для беловолосого, кивком пригласив всех выступить вместе с ним из шатра.
Когда перед ними раскинулась огромная людская толпа воинов, стоявших стройными шеренгами, с развевающимися знамёнами, сверкающими пиками копий, и тысячи глаз были устремлены на одного, Намджун начал свою речь:
— Мы прошли долгий путь, оставив за спиной сотни и тысячи миль дорог и городов, во имя Господа нашего преодолевая все препятствия, не посрамив имени доблестного, добытого в боях и турнирах. Осталось дело за малым — сесть на корабли и отплыть к Святым Землям, и выполнить наш священный долг — освободить христианскую Святыню из рук нечестивых сельджуков. И я уверен — каждый из вас горит праведным гневом и решимостью выполнить сие угодное Богу дело. Но и здесь нам послано испытание. Как бы мы ни старались, как бы ни пылали благочестивым рвением — нас мало. Из тридцати тысяч пилигримов, что было обещано ранее королями и государями, прибыло лишь семнадцать, а с германских земель лишь две тысячи. Сейчас угроза провала нашей миссии как никогда близко, и Крест Папы, что был вручён нам с благоговением, может быть оставлен. Венецианцы отказываются предоставлять свои корабли из-за отсутствия платы.
Ропот проносится меж рядов воинов, и озадаченные лица смотрят ещё пристальней. Намджун выдерживает взгляд каждого — пусть речь его спокойна и по-своему миролюбива, с налётом обеспокоенности, но внутри него сталь, которую никому не сломить, и он продолжает.
— Сам Господь дарует нам избавление в этом деле, послав нам решение, достойное доблестных воинов, которые не прочь показать свою силу и храбрость. Взамен на отсрочку платы, мы возьмём город Задар, разрушив их порты, лишив флота и крепости. За это венецианцы предоставят свои корабли, и отправят с нами ещё пятьдесят галер с венецианскими пилигримами.
— Но порт Задар — католический город, и жители его христиане, — один их командующих выступил вперёд. — Мы католики, и миссия наша — освобождение христианских святынь, а не захват христианских городов. Что на это скажет сам Папа?
— Его ответ уже есть, — Намджун отвечает сразу же, жестом руки требуя свиток, от рядом стоящего Вульфа. — Одобрение Папы Римского было получено задолго до прибытия на остров, и я вам её озвучу. Отче наш заявил, что посчитает богоугодным делом, если мы используем венецианские корабли, и угодным ему самому, если с помощью них же, добьёмся своей цели — любой цели.
Юнги, что всё это время стоял за спиной Белого рыцаря, понимает, насколько уклончив этот ответ, и видит некое непонимание на лицах воинов. Он ни за что не поверит, что это дело не было продумано их предводителем ещё задолго, и договор, что подписан у него на глазах, был составлен тоже заранее. Но как понять, что сам Папа Иннокентий III одобрил его — документ, где говорится как христианин пойдёт войной на христианина, брат на брата? Что же ещё задумал их предводитель, на что ещё способен этот Белый рыцарь? И Юнги в какой-то момент становится страшно, заглянув в бездну его чёрных глаз, и обнаружив там такую глубину жестокости и хладнокровия, от которой никому нет спасения.
— Это святотатство! Меч пилигрима не должен опускаться на голову брата по вере. Каким бы ни был приказ главнокомандующего и благословение Папы, я Симон де Монфор{?}[Симон де Монфор, 5-й граф Лестер, будущий предводитель крестового похода против альбигойцев.] — отказываюсь выступать в этот поход против венгерского города Задар.
— Мы поддержим нашего предводителя, — тут же выступает Хосок, делая шаг вперёд. — Я и мои галлогласы примем участие в осаде порта.
— Так же, как и британские дивизионы, — Юнги выступает вслед за другом. — Мы пойдём до конца.
— Вся добыча от осады и захвата города будет разделена между войском пилигримов и венецианцами. Десятая часть всех сокровищ будет принадлежать лично королю Монферратскому. После захвата порт Задар станет местом зимовки пилигримов, ибо зимние штормы препятствуют дальнейшему продвижению. К весне войско направится к Константинополю. Господь не оставит нас в своей милости. Помолимся же за благополучие наше во имя Бога и сына Его Иисуса Христа. Да не оставят они нас в деле нашем. Аминь.
— Аминь, — громогласно проносится эхом.
Большая часть войска была воодушевлена словами предводителя, но часть всё же роптала втихую, лишь один Монфор отказался подчиняться приказу Белого рыцаря.
Едва они снова оказались в шатре главнокомандующего, Юнги буквально припирает его к стенке, вызывая ухмылку у Намджуна.
— Выкладывай всё, как есть. Меня ты этими сказочками не накормишь. Что в письме Папы? Почему такая цена за корабли — ведь мы же будем проливать христианскую кровь и разрушать католический город! Монфор был прав. Что ты задумал, Намджун? Я понимаю радость венецианского правителя, ведь по сути ты лишаешь его главного соперника в торговле по всей Адриатике. Падёт Задар — возвысится Венеция, тут много думать не надо.
— Ты прав — я задумал кое-что, — также ухмыляется рыцарь, — и ты меня поддержал при всех, помнишь?
— Помню. Ты тоже должен помнить кое о чём.
— Я всё помню.
— Что было в письме? — не унимался Юнги, цепко смотря на мужчину, возвышающегося перед ним.
— Папа пригрозил отлучением от церкви, если мы пойдём на Задар, но в то же время написал, что считает угодным использование кораблей. Ты сам всё слышал, я лишь озвучил то, что посчитал нужным.
— Ты вводишь души ни в чём не повинных людей в заблуждение.
— Неповинных? Действительно ли я слышу это от тебя? Посмотри внимательней, если до сих пор не заметил — половина войска добропорядочные воры и убийцы, грабившие и сжигавшие германские деревни, убивающие её жителей. А другая половина — погрязшие в жажде золота и добычи, алчные рыцари. И никому из них нет дела, какими способами они им достанутся. Вот и всё. Я даю каждому то, что они желают на самом деле — войну, кровь, силу, власть, земли и золото. Ни один правитель мира не сможет дать им того, что даю я. Я для них царь и бог!
— Не для меня. Ты лишил меня того, чего я желал больше всего.
— Уймись, Юнги! И забудь уже об этом. Если уж суждено такому, то он от тебя никуда не денется. Ты вернешься домой, к сыну, к родным...
— Да, так и будет, и ты меня не остановишь. После осады я покидаю лагерь пилигримов.
Намджун ничего не ответил, лишь кивнул странно, с такой же лёгкой ухмылкой. Более он его не задерживал, и сам поспешил в шатёр к своему возлюбленному, не медля ни секунды.
Он застал Сокджина в наиприятнейшем расположении духа. Тот сидел невозможно прекрасный, как юное античное божество, чуть кутаясь в пышный мех соболя, в золотой диадеме и кашемировом кафтане с золотой вышивкой. На руках — дивные кольца и браслеты, на груди — длинные цепи с драгоценными камнями. Колени его были укутаны великолепным пледом, поверх которого сидели три белоснежных котёнка, и король игрался с ними.
Намджун застыл перед этой картиной, с замирающим сердцем наблюдая за любимым, что-то ласково шепчущим крохотным котятам. Белые комочки цеплялись за его руки, играли его браслетами, лезли к нему на предплечье, а Сокджин смеялся тихо.
Едва он увидел своего мужчину, подзывает его к себе с улыбкой:
— Родной мой, посмотри... посмотри на это чудо! Разве они не прелесть? Венецианский правитель прислал мне их, и ещё столько подарков, — король чуть разводит руками, указывая на стопы бесценных свитков и книг, гобеленов и тканей, сундучков с украшениями, подносы с благовониями и маслами, что лежали внушительными рядами. Намджун усмехается про себя — видимо дож настолько доволен условиями договора, что просто счастлив.
— Ты столь прекрасен, мой король, что перед тобой не устоит никто — ни этот девяностолетний старик, ни юнец-паж, ни я, любовь моя.
Сокджин улыбается тепло протягивая к нему руки, с которых котята падают на его колени, а король снова смеётся.
— Иди ко мне, любимый, я тосковал по тебе, — Намджун тут же опускается перед ним на колено, обхватывая его руку и припадая поцелуем.
Слуга, самый приближенный прислужник, что был одновременно и лекарем короля, и был посвящён в тайну их любви, стыдливо опускает голову, а после кланяется тихо, оставляя влюблённых одних.
Поцелуй меж них, как падение в бездну — сладко-томительный и нежный, и хочется больше, ближе, жарче.
— Останься со мной этой ночью, Намджун, — тихо просит король, обнимая мужчину. — Я истосковался по тебе за все эти долгие дни.
— Останусь, любовь моя. Но утром я вынужден буду покинуть тебя.
— Что такое? Что-то случилось? Может и мне лучше собираться в дорогу? — Сокджин суетливо обнимает его, пытаясь заглянуть в глаза любимого.
— Нет, мой король, ты останешься здесь и будешь пользоваться гостеприимством дожа Венеции, а я «подготовлю» место для зимовки пилигримов, — Сокджин так и не понял подтекста в словах любимого, слушая его мягкую, тихую речь. — Нам нужен укреплённый порт и крепость, думаю остановиться в хорватской крепости Задар: место удобное, глубокая бухта, высокие крепостные стены, и гораздо теплее, чем здесь. Вот увидишь, тебе там понравится.
— Мне понравится везде, где будешь ты, любимый — хоть в Венеции, хоть в Далмации{?}[Далма́ция — историческая область на северо-западе Балканского полуострова, на побережье Адриатического моря, на территории современных Хорватии (в основном) и Черногории.], только бы с тобой, — нежно шепчет король, пытаясь увлечь любимого в поцелуй.
— Нет, любовь моя, ни Венеция, ни, тем более, этот солёный порт недостойны тебя. Я подарю тебе город, который по праву считается жемчужиной всего Средиземноморья, красоту которой, увидев лишь раз — не забудешь никогда. Так, как и тебя, мой король... мой прекрасный, мой совершенный, мой невероятный король, Ким Сокджин Монферратский — твою красоту не сравнить ни с чем.
— О, Намджун... — и юноша получает поцелуй, который так ждал — нежный и страстный одновременно.
Котята, что добрались до плеч короля, царапая коготочками дорогой кашемир, перебрались и на мужчину, сладко целующего их хозяина. Оба тонут в страсти, нахлынувшей на них, не замечая атакующих их котят, что подозрительно громко замяукали на мужчину, будто пытаясь отогнать его от юноши, а Сокджин начинает смеяться тихо, смотря как судорожно Намджун отцепляет от себя мяукающую ораву. И всё же, оставив разгневанные белые комочки в их плетёной корзине, оба удаляются к пышной постели, где Сокджин снимает не только диадему, но и стыд, и скромность. Он жадно ласкает своего мужчину, стягивая с него тяжёлую кольчугу, суконную рубаху, льняные портки, сам снимает с себя кашемировый кафтан, тонкую шёлковую рубашку, мягкое ситцевое бельё. Он весь гладкий и нежный с головы до ног, пахнет волнительно кисло-сладким ароматом жаренного сахара и цветков лимона, раскрывается с тихими вздохами и короткими стонами. Теперь он сам готовится для своего любимого, не желая терять ни секунды рядом с ним, нескромно жадничая, но Намджун, как был властным в жизни, оставался таковым и в постели, придерживая пыл юноши, удерживая его в своих руках. Он всё так же его долго растягивал, заставляя капризничать и хныкать, всё так же доводил до исступления руками, затягивая в тягучие поцелуи, смотря жадным чёрным взглядом в нежный ореховый, а после и сам не сдерживался, вылюбливая из короля всю душу, покрывая его восхитительное тело своим семенем под протяжные стоны, смотря, как судорожно сокращается от пережитого оргазма кожа живота. И раз за разом эйфория соития заставляет обоих лишь распаляться, беря всё больше друг от друга — больше стонов, ласки, поцелуев... больше любви. Прямо сейчас Белому рыцарю не важны ни крепости, ни войско, ни цели и клятвы, во всём мире лишь его любимый превыше всего сейчас... и всегда. И кончая в очередной раз над дрожащим юношей, что минутой ранее пережил невероятный экстаз, мужчина склоняется к его прекрасному лицу:
— Миры исчезнут с лица земли, империи падут в прах, солнце и луна тысячи раз встанут над нашим грешным миром, но нигде и никогда не будет столь совершенной красоты и доброты сердца, чем у тебя, любовь моя.
— Намджун...
— Я люблю тебя, Джин.
Пусть это были слёзы, но слёзы счастья, что разрывали юное сердце короля. Сокджин заснул на груди у любимого, укачивающего его в своих сильных руках... руках, которые для него теперь целый мир.
***
Крепость была взята неизбежно. Напрасно жители города вывешивали кресты на стены, напрасно пели псалмы и угрожали обещанием папы отлучить захватчиков от церкви — всё было напрасно, ибо огромное войско пилигримов во главе с бароном Тироли Ким Намджуном ноябрьским днём 1202 года подошло к воротам крепости. С востока крепость окружили галеры крестоносцев, что захватили порт, а таранные и стенобитные орудия уже стояли у западных стен.
Все планы главнокомандующего сработали точно, вся его разработанная тактика оправдалась, и если оставались единицы людей, сомневающихся в таланте и стратегии военачальника Кима, то они отпали за эти пять дней жесточайшей осады.
Жители города защищались до последнего, стреляя из луков с бойниц, обваривая осаждающих под стенами кипятком и дёгтем, но камни дробились от таранов, и защитников Задара становилось всё меньше и меньше. Крепость была разрушена, а все стражи были убиты. Мирных жителей, коих осталось несколько сотен человек, главнокомандующий оставил в городе в качестве прислуги для крестоносцев. Намджун дал два дня своим воинам на разграбление и бесчинства, не останавливая насилие над женщинами и убийство, если того требовала ситуация. Всё несметное богатство Задара было погружено на корабли и отвезено в Венецию, где правитель Дандоло с наидовольнейшим лицом забрал причитающуюся венецианцам часть, а после предоставил галеры, на которых уплыли крестоносцы. 8 ноября 1202 года пилигримы отплыли из Венеции в Четвертый крестовый поход. Четыреста восемьдесят кораблей, возглавляемые галерой короля Монферратского, окрашенного в алый, с шелковым тентом того же цвета, под стук кимвал, под пение серебряных труб, отправились не в Египет и не в Палестину, а в разграбленный и разрушенный Задар.
***
Айюбидское царство. Триполи.1202 г.
Снова прекрасный рассвет настаёт для юного падишаха. Теперь все рассветы и закаты для Тэхёна прекрасны, каждый светлый день благословлён Аллахом, ибо с ним рядом тот, кто делает для него каждый момент незабываемым.
Весь двор дворца устлан мрамором, из него же сделаны и устремленные ввысь колонны, резные портики и арки, укрытые тонким тюлем. Дивный сад вокруг цветёт и журчат фонтаны — дворец в Триполи{?}[Три́поли — город на территории современного Ливана.] не уступает в богатстве дворцу в Дамаске.
Солнце едва забрезжило над горизонтом, и каменистую крепость Казба-ас-сарай-аль-Хамра, с пышными кронами пальм и ручейками журчащей воды, уже оглашает звон булатных мечей. Но падишах спокоен, в его сердце нет тревоги, хоть перед ним разворачивается зрелищная битва — Чонгук тренируется со своими воинами, а это истинное наслаждение для очей правителя.
Халиф обнажён по пояс. Чёрные шёлковые шаровары обхватывают его щиколотки, тонкий пояс на талии крепко завязан, но маленькая бахрома на концах, заставляет взгляд Тэхёна заворожённо следить за каждым движением мужчины, как кошку за игрой помпона.
Сам он снова полулежит на подушках, а вокруг него суетятся слуги, готовя воду для омовения, нарядную одежду, чай и сладкие финики. Совсем юный прислужник расчёсывает ему волосы драгоценным гребнем, другой — лёгкими движениями массирует ему ступни, чтобы у падишаха весь день было хорошее настроение, хотя оно ему и так уже обеспечено.
Гела тоже находится среди четырёх воинов, тренирующихся с халифом, и он не прочь размять кости с самого утра. Грациозный юноша, как чёрная гибкая кошка, движется восхитительно волнующе, хоть и не полуобнажён, как Чонгук. В ту секунду халиф делает условный знак, поводя круговым движением меча в воздухе, означавший, что все четверо должны нападать одновременно. Тэхён тревожно приподнимается, жестом руки отсылая слуг. Нет, он не волнуется — его охватывает азарт — его мужчина будет биться с несколькими воинами одновременно, как в настоящей битве. На мгновение в голове появляется картинка из его страшного сна — поле, усыпанное мёртвыми телами, Чонгук, которому он закрывает глаза после смерти... Но падишах гонит её прочь, эта опасность для него уже миновала — войны не будет.
Скрежет и звон металла заставляет вскинуть зеленоглазый взгляд, а после — привстать на подушках. Чонгук прекрасен, как бог! Его тело — крепкое, сильное, мускулистое, с косыми мышцами живота и тонкой талией, просто восхитительно. Кожа блестит чуть выступившей испариной, чёрные кудри собраны в пучок на затылке, руки крепко держат меч, а стройные длинные ноги упруго вытянуты в стойке.
— Гела, срази моего халифа, покажи на что ты способен, — кричит молодой падишах из-под своего мраморного укрытия, прекрасно понимая, что дразнит Чонгука. — Я жду твоей победы!
— Как пожелает мой господин, — юноша в ответ чуть кланяется, не меняя стойки к нападению, лишь сильнее замахиваясь мечом.
Тэхён видит слегка нахмурившийся взгляд Чонгука, и улыбается довольно — его ждёт великолепное зрелище. И не ошибся — тренировка мужчин стала больше походить на настоящий бой. Чонгук сражался мощно и грациозно, извиваясь и коротко прыгая меж ударами, кружась вокруг себя, отражая каждый выпад противника. Не прошло и двух минут — нападавшие были обезоружены, а Чонгук даже не задыхался от битвы, лишь грудь глубоко и медленно поднималась и опускалась.
— Простите, мой господин, я не смог выполнить вашего указания, — запыхавшийся Гела склоняется перед падишахом, а у самого смешинки в глазах и озорная улыбка — знает же, что всё это игра Тэхёна.
— Не нужно извиняться, Гела. Это я виноват, — широко улыбается халиф, чуть насмешливо склоняясь в поклоне. — Готов понести любое наказание, мой падишах.
— Так? Тогда я тоже сражусь с тобой, — странно улыбается юноша. — Проиграешь — отдашь мне свой меч. Выиграешь — проси всё, что хочешь.
— Согласен, мой падишах. Принесите повелителю его меч, — Чонгук приглашает его грациозным движением руки на каменистый двор, под первые лучи солнца.
Тэхён не сильнее Чонгука, и не владеет мечом лучше него, да и честно признаваясь самому себе, не стремится выиграть. Да даже если и проиграет, ему будет приятно сделать подарок мужчине. Но и просто так уступать он не намерен.
Оба стоят в стойке. Чонгук так же обнажён по пояс, Тэхён в одном лишь тонком жилете и шароварах. Мечи наготове, и первым нападает Тэхён, умело атакуя. Удар за ударом, выпад за выпадом заставляют мужчину отступать, а Тэхёна победно улыбнуться. Чонгук правда устал, а Тэхёна гонит азарт, но мастерство халифа было на голову выше, и очень скоро булатный меч нападает чаще, рассекая воздух вокруг, высыпая искры, звоном оглашая всё вокруг. Тэхён всё загнаннее дышит, испарина выступила на лбу, капельки пота стекают по висками, по шее, по ключицам. Влажные пряди каштановых кудрей облепляют лоб — не воин, а загляденье. Всё же его меч дамасской стали выбит из рук, и падишах обезоружен. Тэхён чуть ли руки не поднимает, сдаваясь, а Чонгук тихо смеётся.
— Ты проиграл, Тэхён.
— Как прискорбно, видимо благословенное око Всевышнего отвернулось от моего меча. Проси чего желаешь, Чонгук.
— Мой падишах, мне нечего желать, кроме как благополучия и процветания для тебя. Ты позволяешь служить себе, большего мне не надо.
— И всё же, не хочу оставаться в должниках. Говори, что хочешь.
— Как пожелаешь, мой падишах, но позволь попозже.
Тэхён лишь кивнул легко, забирая свой меч у подоспевшего Гелы, отступая в тень мраморных колон.
— Хочу угостить тебя напитком, Чонгук, — юноша медленно и грациозно совершает омовение над серебряным плоским сосудом, когда мужчина присоединяется к нему. — Он называется «кофе», — Тэхён умывается медленно, растягивая удовольствие любования мужчиной, что разбрызгивал воду вокруг себя, приказывая лить ему на плечи и спину.
— Кофе? Что за напиток? Снова китайские купцы прислали?
— Нет, он из Египта. Я нашёл его вкус довольно... специфичным — сладко-горьким. Но я предложу тебе несколько вариантов этого напитка — выберешь, какой понравится.
— Из твоих рук я приму даже яд, мой падишах, и он мне покажется самым сладким на земле.
Тэхён замер от такого признания, когда его уже вытирали мягкой, сухой тканью, и смущение розовым цветом пробралось сквозь золотистый загар.
Они уселись на подушках, медленно поглощая сладкие финики и сушёные абрикосы, когда при них же на небольшую жаровню поставили медный поднос с песком, раскаляя его. В вытянутой металлической чашке стал дымиться чёрный напиток, покрываясь плотной, коричневой пенкой, а аромат вокруг распространялся невероятный — пряный и густой.Чонгук нахмурил брови удивлённо, смотря, как пенится кофе на песке, как его быстро снимают, тут же разливая по трём фарфоровым чашам.
— Нравится аромат? — тихо спрашивает Тэхён, глаз не сводя с мужчины.
— Ничего подобного в жизни не ощущал, — откровенно восторгается Чонгук. — И пока столь необычный напиток готовится, я сообщу тебе новости, мой падишах.
Тэхён удивлённо поводит бровью, закидывая сладкий кусок с сухофруктами в рот.
— Два дня назад крестоносцы захватили портовую крепость Задар в Далмации.
— Христианский, католический город? — в полном недоумении спрашивает юноша. — Зачем? Разве это не крестовый поход?
— Всё очень просто — им нужно было золото и серебро. А где их ещё можно найти, как не в богатом, торговом городе? К тому же здесь замешана Венеция — давний соперник Задара.
Тэхён промолчал, но в его молчании было столько надежды, что глаза сияли, когда он протягивал ему первую чашку.
— Отпей сначала чистый напиток сам. Почувствуй его сладость и терпкую горечь. Отпей не спеша, медленно.
У Чонгука аж зубы сводит от крепости кофе, и после первого глотка он сильно поджимает губы.
— Я бы сказал, что это яд, и надеюсь что ты не всерьёз воспринял мои слова умереть здесь и сейчас, — Чонгук смотрит пытливо, а Тэхён снова замирает — сколько раз этот мужчина ставит его в ступор? Хлестануть бы плетью по его наглому красивому лицу, а нахальную улыбочку он уже стёр этим кофе.
— Запомни, Кукки, — тихо и ласково шепчет юноша, чуть склонившись к нему. — Если когда-нибудь тебе будет суждено умереть, то это решу я, и смерть ты получишь из моих рук. Пока что я не позволяю тебе обрывать свою жизнь, где бы то ни было.
— Да, мой повелитель, — широко и ослепительно улыбается мужчина, — как прикажешь.
— Как ты думаешь, не поменяют ли решение предводители крестоносцев? Их король... поведёт ли их до конца? — после некоторого молчания всё же спрашивает о волнующем его мысли и сердце вопросе.
— Всё возможно, мой падишах, — уклончиво отвечает Чонгук, хоть и знает больше. — Они останутся в захваченной крепости четыре месяца — на всю зиму. Крестоносцы не рискнут проплыть штормующее море.
— Хватить об этом. Отпей теперь из второй чашки, — Тэхён добавляет в кофе немного молока, и он из чёрного превращается в невероятно красивый коричневый с золотистым оттенком. Не только цвет, но и аромат напитка меняется — становится тоньше, изысканней, а вкус мягче.
Чонгук кивает одобрительно, когда видит, как падишах добавляет в третью чашку слегка обжаренный сахар, и размешивает его серебряной ложечкой.
Тэхён задумчив, и снова красноречиво молчит, хоть горячий кофе обжигает пальцы.
— Мы можем быть уверенными в том, что крестоносцы не пройдут эти земли? Я знаю, что мы готовы к отражению их натиска, но всё же... Любой плохой мир лучше хорошей войны.
— Я бы сказал по-другому — мы можем быть уверенными в том, что крестоносцы не дойдут до твоих земель, мой падишах.
Тэхён не перестаёт помешивать напиток, когда лёгкая улыбка касается его дивного лица.
— Этот вид я предпочитаю более всех, — признаётся юноша, протягивая чашку мужчине, и непонятно то ли он о кофе, то ли о крестоносцах.
Чонгук отпивает, не раздумывая, и улыбается широко.
— Сладкий... и крепкий, а аромат всё тот же. Ты прав — этот вид... вкуснее, но я всё же предпочту второй.
— Как скажешь. Отныне для тебя будут готовить кофе с молоком каждое утро.
— Благодарю тебя, мой падишах, — всё с той же лучезарной улыбкой смотрит мужчина, и оба продолжили неспешный завтрак.
День прошёл быстро: в разных местах города, в смотрах и переходах, в важных переговорах со старейшинами родов и племён. Ближе к вечеру они выехали к побережью моря, где любовались каменистым крутым обрывом и огромными волнами под ним, которых гнал восточный ветер. Тэхёну нравилось море, хоть Дамаск был достаточно далеко от побережья. Нравилось необъятность синего простора, сила волн, да и плывущие по водной глади корабли, навевали почему-то умиротворение на падишаха.
— Ты знал, что всё это побережье называют самым опасным для кораблей, проплывающих здесь? — громко спросил Чонгук из-за силы ветра, хоть они и стояли достаточно близко. — Большая часть судов разбиваются об эти скалы и моряки тонут, не имея возможности спастись у отвесных берегов.
— Так красиво... и так опасно. Можно часами любоваться бушующим морем, не зная, что прямо сейчас у твоих ног гибнут люди.
— На всё воля Аллаха, и мы покоримся Ему.
— Аминь, — Тэхён шепчет совсем тихо, когда чувствует руку мужчины, обхватившую его пальцы.
— Мы не властны над своей судьбой, Тэхён. Нам лишь даны силы уберечь от зла и скверны родных и близких... наших любимых, — рука Чонгука сильнее сжимает пальцы юноши, хоть сам и не смотрит в лицо.
Сердце юного падишаха падает и расплёскивается, как это море у его ног от пожатия мужчины, от его голоса, от его слов. «Уберечь... любимых» — слова Чонгука горят красным клеймом перед глазами и мурашки бегают по всему телу. Но следующая фраза мужчины заставляет счастливо бьющееся сердце сжаться тревожно.
— Я покину Триполи этим вечером. Отправлюсь на юго-запад... проверю кое-что.
— Юго-запад? В Эль-Ракку?
— Нет. Ещё западнее — в Исфахан{?}[Исфаха́н — город в Иране на берегу реки Заянде, расположенный в 340 км к югу от Тегерана.].
— Зачем тебе в эти земли? Какие интересы у Айюбидского царства могут быть там? Местные племена чужды нам и близки к сельджукам.
— Я просто проверю границы, Тэхён, так надо. Прошу тебя сейчас — не останавливай меня, — смиренно, но твёрдо просит мужчина.
Тэхён понимает, что спорить бесполезно — Чонгук всё равно уедет. «Кое-что проверить» прозвучало слишком серьёзно.
— Когда ты вернёшься? — как-то обречённо прозвучало из уст юноши.
— Я постараюсь вернуться через месяц, но на всё воля Всевышнего.
— Ты ведь помнишь? — Тэхён кричит в отчаянии. — Я твой падишах, и только я решу когда тебе расстаться с жизнью или покинуть меня. Обещай мне, что вернёшься живым!
— Обещаю. Я вернусь... живым и невредимым.
Юноша всё же сжимает его руку в ответ, но тревога держит его, хоть и чувствует, что нет никакой опасности — нет и не будет войны, крестоносцев, смерти...
— Останься в крепости вечером, — Тэхён просит своего любимого, всё также отчаянно сжимая его руку. — Уедешь на рассвете, а я провожу тебя.
— Хорошо, — просто соглашается мужчина, переплетая свои пальцы с чужими, любимыми.
*
Ночь накрывает Казба-аль-Хамра, а в покоях падишаха двое, вернее трое, считая пушистого ягуарчика, что теперь как большой, пятнистый кот с тяжёлой лапой. Кукки вальяжно проходится по низкому столику опрокидывая золотые кубки с шербетом и блюда с фруктами, а после мостится на коленях Тэхёна, что возлежит на шёлковых подушках, рядом с мужчиной. Их так и нетронутый ужин, затянулся до поздней ночи, они больше пожирали друг друга глазами, упиваясь тихими разговорами, лёгкими касаниями, невесомыми вздохами.
— Твой подарок вырос, — тихо смеётся юноша, — скоро вымахает с меня.
— Он будет тебе защитником не хуже Гелы.
— Вряд ли кто сравнится с моим телохранителем, но я рад и такому стражу. Он как напоминание о тебе, — Тэхён слишком красноречиво смотрит на мужчину — не может он удержать своих чувств сейчас, когда расставание слишком близко. — Хочу чтобы и ты помнил обо мне, — заявляет он решительно. — С тобой поедет мой кофевар, будет готовить тебе бодрящий напиток днями, и ты будешь вспоминать меня.
Чонгук смеётся хрипло:
— Вряд ли кофевар даст больше воспоминаний, чем я помню о тебе. Мне не нужен кто-то, чтобы вспоминать тебя, думать о тебе. Но, благодарю — я буду рад твоему дару.
— Это не мой дар, это мой приказ. А вот желание я тебе должен. Забыл? Проси чего хочешь, Чонгук.
Хриплый смех затих, и сам мужчина слегка замер, словно в нерешительности. Смеет ли он просить о таком? Может ли потребовать у падишаха о таком «подарке»? Он столь близок сейчас, протяни руку, и можно коснуться самого прекрасного лица, сотворённого Всевышним под этой луной. Соблазн так велик... И всё же он просит... как у своего возлюбленного, единственного, по ком сердце бьётся в груди.
— Одари меня своим поцелуем. Большего дара мне в жизни не надо, хотя и самой жизни не жалко, ради одного твоего поцелуя.
Тэхён давится воздухом, и глаза, сияющие изумрудным огнём, вскидывает на мужчину, вцепившись пальцами в подушку. Столько мыслей сразу и одновременно — пустота в голове. Сердце разрывается от невероятного волнения и счастья. Он ведь не ослышался? Чонгук просит одарить его поцелуем?! И он так волнующе близко, что дыхание касается его пылающей смущением щеки. Юноша прячет взгляд, чуть повернув голову, молясь, чтобы сердце не выпрыгнуло из груди, и видимо он слишком много думал, когда услышал:
— Прости, я посмел мечтать о невозможном. Прости, мой повелитель.
— Нет... то есть да! Я... согласен, я хочу! О, Аллах, пусть я сгорю в адском пламени за этот поцелуй, но я хочу этого! — и смело сам протягивает чуть дрожащую руку к любимому лицу, а Чонгук не даёт даже договорить — припадает к раскрытым губам в страстном поцелуе.
Мир вокруг них распадается пылью и тенями, чтобы вновь воскреснуть для них новым миром — ярким и живым, одним на двоих. С этого момента всё обретает смысл — жить ради другой жизни! Сердца бьются по-новому — в ритме сердца любимого, глаза видят по-другому — глазами любимого, и дыхание теперь тоже — на двоих одно.
О, как горько, что эта ночь — ночь перед долгой разлукой, а этот поцелуй из признания превращается в прощание. Но даже этой малости столь много меж них сейчас, что не надышатся, не налюбуются, не нацелуются...
— Тэхён... солнце моих сумрачных дней, мой невероятный, прекрасный и трепетный падишах! — мужчина снова припадает к зацелованным губам, а его притягивают ближе руками, ногами, всем существом.
— Любовь — это не то слово, что выразит глубину моего чувства к тебе, Чонгук, — юноша всё же осмелился посмотреть ему в глаза. — Твоё имя — весь мой мир! Твои глаза, руки, улыбка, каждая крохотная родинка на твоей смуглой коже, волнуют меня. Порой мне кажется, что я благословлён Всевышним, что одарил меня тобой. Пусть я мучался от осознания греховности моего чувства, но всё же принял его. Аллах не мог внушить мне столь глубокое, столь невероятное влечение, будь оно порочным.
Тэхён признавался в своей любви тихо, шёпотом, медленно лаская мужественные и столь красивые черты лица любимого, принимая его невесомые поцелуи, до конца не веря, что всё это происходит сейчас, что он может говорить о своём чувстве, смотря ему прямо в глаза, искрившиеся от счастья и потемневшие от любовного томления. А сам мужчина над ним, чуть прижимает его к подушкам, показывая «силу» своего чувства.
— Не говори более ничего, ибо я желаю слышать лишь твои тихие вздохи и сладкие стоны этой ночью. Позволь остаться подле тебя сейчас... до рассвета, мой нежный повелитель.
— Позволю. Сам не отпущу, мне без твоих поцелуев этой ночью не жить, как и всю оставшуюся жизнь. Целуй меня, любимый.
Солнце поднимается над Триполи, золотыми лучами касаясь красных камней Казбы и синих волн моря, хоть юноша и молился горячо, чтобы рассвет не наступал никогда. И всё же время неумолимо, и мужчина должен покинуть юношу, оторвав свою черноволосую голову от его обнажённой груди, не слыша больше как бьётся сердце любимого, но чувствуя всё его волнение и тоску. Чонгук медленно натягивает на свои плечи кафтан, не спеша завязывает тонкий пояс на талии, всё ещё любуясь зацелованным и заласканным юношей, утопающим в шёлковых подушках. Он касается его дивного лица, чуть убирая каштановые кудри со лба, прежде чем поцелуем коснуться нежной кожи. Тэхён крепко обхватывает его шею руками, сам припадая к груди мужчины.
— Обещай, что вернёшься ко мне!..
— Вернусь. Чего бы мне это ни стоило, и буду молить Всевышнего о твоём благословении. Пусть Его свет не покинет твоей души, и охраняет твой покой.
— Мой покой сейчас ты с собой заберёшь, — печально улыбается падишах, обхватывая ладонями лицо мужчины и поднимаясь с подушек вместе с ним, — и моё сердце, что давно принадлежит лишь тебе. Помни — каждую секунду мои мысли будут только о тебе, — с этими словами Тэхён снимает с пальца своё изумрудное кольцо, надевая его на большой палец мужчины, целуя его руку, лицом ластясь к широкой ладони. — Ты мой, Чонгук, как и я твой... и душой, и телом.
— Я твой... навеки, и душой и телом, как и ты мой.
Эти слова словно клятвы нежности и верности супругов, что столь символично прозвучали, когда Чонгук сам снял свой перстень с агатом, также надевая его на большой палец юноши.
Ночь ещё не совсем уступила свои права, предрассветными сумерками цепляясь за стены и колоны дворца, длинными тенями расстилаясь по мрамору площади, когда падишах вышел вслед за мужчиной. И прежде чем тот сел на своего коня, поцелуй, спрятанный краем чалмы, сладким стоном и тихим вздохом огласил пустующий двор, лишь преданный Гела стоял за их спинами.
— Пусть дорога твоя будет лёгкой, а новости радостными. Я буду молиться за тебя.
— Аминь. А я за тебя. Береги себя, мой прекрасный падишах, мой возлюбленный господин, и не тоскуй по мне сильно. Помни — чем дальше я от тебя, тем быстрее хочу вернуться, — Чонгук улыбается, ласково смотря на юношу, пальцами проводя по скулам.
— Я уже тоскую, — голос Тэхёна на грани слёз, но тихо охает, когда его ног неожиданно, но мягко касается пушистый комок. — Кукки, зачем ты вышел, мой котёнок?!
— Он не даст тебе затосковать, — тихо смеётся мужчина, поглаживая ягуарчика. — Прощай, Тэхён.
— До встречи, любимый!..
— До встречи...
За воротами лёгкий гул, ржание коней и топот — всадники уносятся прочь, навстречу утреннему солнцу... и неизвестности. Что ищет Чонгук в столь далёких краях, в чужих степях? Что гонит его к самому краю Персидского царства? В мире, где столько войны и жестокости, где каждый друг другу враг, а не сосед, он ищет лишь одного — покоя и мира для своего возлюбленного. Всё, что он делает — только ради безопасности Тэхёна. И опасность, затаившаяся в персидских степях, заставляет его идти прямо навстречу. Да помогут ему все боги мира!
***
Задар. Хорватия.1202г.
Юнги мечется, как дикий зверь в клетке — ему нет выхода с Адриатики. Ни один корабль не берётся отвезти его ни через Средиземное море до юга Франции, ни через Адриатическое — до побережья Италии. Какие бы деньги он не предлагал, какие бы посулы не сулил капитанам — никто не рисковал выходить в море в зимний шторм. От отчаяния рыцарь готов был оправиться пешком обратно, по тем же землям, которыми они шли, оставив свой дивизион Белому рыцарю, забрав лишь небольшой отряд, но риск не вернуться живым был велик — юг Германии помнит набеги крестоносцев, и вряд ли британский отряд пройдёт по ним незамеченным, а дальше фламандская пустошь, кишащая вольными разбойниками и стрелками. Как бы малодушно это не звучало, Юнги не мог рисковать своей жизнью — он должен вернуться к нему живым! Должен дойти, доплыть до него, увидеть и обнять. Теперь мужчина понимает, что значит сходить с ума от безысходности, от нахлынувшего отчаяния, от бессилия, что ничего не можешь исправить.
Крепость отстраивали, заново возводя стены и порт, где от венецианских галер рябило в глазах. Хорватская адриатика отличалась более мягким климатом, чем север Италии, и солнечных дней было больше, но всё же декабрьские дни были ветрены и холодны.
Юнги смотрел на возводящуюся заново крепость, на суетящегося Хосока, которому нравилось всё то, что происходило вокруг; на молчаливого Чанёля, темневшего лицом и взглядом день ото дня; на Намджуна, что безмолвно, издали наблюдал за ним, за его метаниями. Чёрный рыцарь чувствовал подвох, но не мог понять, вернее — не мог поверить, что обещание и уговор будут нарушены, и всё же...
— Юнги? — Чанёль подошёл к другу одним из вечеров, когда тот, отгородившись от общей суеты, стоял на крепостной стене. — Я знаю, ты ищешь корабль... Может я смогу помочь? Я тут говорил кое с кем...
— Что? Ты говорил с капитаном галеры? Меня могут взять... хоть до Италии... за любые деньги!
— Не совсем с капитаном, — Чанёль прячет глаза и наклоняется ближе, — с пиратом. У него небольшое судно. Может довести до Сицилии... за золото. А потом он поговорит с другим капитаном, что довезёт нас до Марселя...
— О, Чанёль! О, мой бесценный друг! Ты мой спаситель! Я отдам им всё золото, только пусть... Погоди, ты сказал «нас»? Что...
— Возьмёшь меня с собой? — столь нерешительно, но с такими горящими глазами просит мужчина, что у Юнги сердце сжимается от боли за него. — Я... умираю, Юнги. Я не могу... никогда не мог без него. Как я пожалел о том, что ушёл от него, что оставил... Забери меня с собой.
— Да, непременно, и ты увидишь Бэки, сам расскажешь ему о своей тоске, о своей любви...
— Я согласен на всё: на молчание, расстояние, даже холод, лишь бы видеть его хоть издали. Я запрещаю себе произносить его имя — я не достоин его, не достоин его нежной любви, не достоин даже просить прощения у его ног. Но я всё отдам — жизнь, душу — за один только его взгляд.
— Мой друг, убеждён — Бэк давно простил тебя, и ждёт. Я о себе не могу такого сказать, не уверен. Но я готов руками переплыть море, за одну только призрачную надежду, что Чимин ждёт меня.
— Мы оба узнаем это! Через два дня пираты заберут нас.
— Готовься, Чанёль, отплываем через два дня. Хватит с нас этой непонятной войны за непонятные святыни и непонятные цели. Хватит ходить рядом со смертью, когда нас ждёт жизнь и любовь. Мы вернёмся домой!
Юнги не спал всю ночь, ворочаясь на жёсткой лавке, покрытой мехом. Но не это заставляло его лишиться сна, а невероятное нетерпение сердца. О, как пережить ему эти два дня ожидания? Все остальные дни плавания покажутся ему временем, лишь приближающим его к нему — они пролетят быстро. Предвкушение разрывало его, надежда давала ему таких сил, будто он способен горы сдвинуть, мечта разрывала ему сердце — обнять бы его, прижать к груди, зацеловать его дивное лицо! Он вскакивает в невероятном волнении, подходя к узкой бойнице комнаты, где спали несколько воинов. Вокруг темно, лишь камин пылал в углу, освещая часть каменных стен, а на небе — ясная, светлая луна сияла в прозрачном зимнем воздухе. Никогда ещё в жизни мужчина не обращался к небесным светилам, словно к языческим божествам, а сейчас с луны глаз не сводит, и губы сами собой начинают шептать в темноте.
— Если есть хоть толика силы небесной, если дух твой сможет вобрать моё желание, шепни ему о моей тоске, коснись лица его прекрасного своим лучом, скажи что вернусь, что люблю, пусть только верит... и ждёт. Чимин, я люблю тебя, мой нежный! Чимин!..
Сердце мужчины сжималось и билось сладко, повторяя имя любимого. Холодные прутья бойницы касались пылающего лица мужчины, и пальцы его крепко сжимали решётку, словно в темнице. Да и сам Юнги чувствовал себя как в плену... в плену у Белого рыцаря, но надежда всё-таки у него была. Если бы сердце его, такое влюблённое, такое тоскующее, могло догадаться, хоть представить себе, что в это самое время любовь всей его жизни приехал в его дом, ходит по его комнате, спит на его постели, шепча в темноту признания — выдержало бы оно такое счастье, смогло бы пережить такую сладкую боль? Но Юнги этого не знает, лишь мечта о таком грела его сердце, заставляя спешить.
Два дня — это малость, но для влюблённого сердца, это бесконечно долгие часы, минуты и секунды. Юнги готовился покинуть крепость пилигримов, спешил к отплытию, но тихо, затаившись, молча, и Чанёлю передал готовиться втихую — он чувствовал подвох, предательство, только не мог понять где, от кого — нужно быть начеку.
Командование было передано, полномочия сняты, вещи собраны в сундуки. Было бы проявлением уважения и такта проститься с королём Монферратским и самим главнокомандующим, да только сердце мужчины настойчиво требовало не делать этого — не заходить в логово ко льву — можно не выйти обратно. В день, когда ворота крепости должны были для них открыться, а в порту ждал корабль, Намджун пришёл сам. Юнги понял всё сразу, по его смеющемуся взгляду, по его хищной улыбке. Рядом с ним стояли ничего не понимающий Хосок и скалящийся Вульф.
— Граф Норфолк, Вы покидаете нас? — усмешка в голосе была явной — Намджун всё знал, но Юнги не отступал, приказывая открыть ворота.
— У нас был уговор, главнокомандующий. Свою часть я выполнил, теперь твоя очередь — прикажи открыть ворота, выпусти нас Намджун, ты дал слово чести!
Намджун смеётся громко, откинув светловолосую голову назад, а меч всё же наготове, и рука крепко сжимает рукоять. Серый мех воротника мягко треплется на холодном ветру, но кольчуга глухо звенит под шерстяной курткой — рыцарь явно готов к битве.
— Уговор был между двоими, о господине Чанёле не было ни слова.
— Он уйдёт вместе со мной, я имею право забрать с собой свой отряд, — Юнги сам крепко держит рукоять меча и глаз не сводит с Намджуна. — Он уйдёт вместе со мной, — по словам повторяет мужчина.
— Нет. Я не позволяю. Едва Чанёль переступит ворота крепости — он дезертир, которого я прикажу повесить на сторожевой стене... как и ты.
— Я взываю к твоей совести и чести, Намджун! Ты дал слово!
— Где это было написано? Где договор о снятии должности? Ты такой же дезертир, как и Чанёль. Не тебе взывать о чести и совести — предатель в первую очередь ты! Я приказываю задержать вас в темнице, до моего особого указания.
Юнги смотрит на бледного Хосока, мечущегося между ним и Белым рыцарем, безмолвно говоря ему помочь.
— Мой господин, граф Норфолк не может быть ни дезертиром, ни предателем, так же как и Пак. Я ручаюсь за них. Здесь какая-то ошибка...
— Хосок, я понимаю, они твои друзья и ты пытаешься их выгородить, но с прискорбием сообщаю, что граф Мин и господин Пак хотели покинуть крепость, договорившись в порту с пиратами, — Намджун победным взглядом прожигает Юнги, и ухмылка шире.
Понимание того, что Намджун всё сам подстроил накрывает сразу, и в глазах темнеет от двойного предательства. Не было никаких пиратов — лишь подставные моряки. Все капитаны отказывали ему по приказу Белого рыцаря — для него нет дороги обратно! Что он ещё должен выполнить? Что ему ещё нужно от него?
— Это низко, — еле слышно шепчет Юнги, но Намджун его слышал.
— В темницу их, — раздаётся зычный голос главнокомандующего. — Всем занять свои позиции. Вульф, Хосок — за мной! — и Намджун удаляется, пока скручивают упорно сопротивляющихся Юнги и Чанёля.
Хосок колебался секунды, делая полшага к Юнги и отодвигаясь обратно. И всё же ушёл вслед за главнокомандующим, смотря виноватым взглядом на друга.
Ворота в подземные темницы скрипели нещадно, и холод позёмкой пробежался по каменному полу, чуть всколыхнув железные цепи, прикованные к стенам. Пара тусклых факелов пылали в держателях, солома в углу гнила. И среди всей невозможности, казалось бы, этой ситуации, графа Норфолка приковывают наручниками к цепи, что тянулась лишь до кучи соломы в углу.
Их приковали рядом, хоть на момент заточения Чанёль затих, а Юнги всё ещё сопротивлялся, пытаясь наносить удары воинам, сковавшим его. Его просто отбросили к стене и молча оставили в бессильной злобе, задыхающегося в собственной беспомощности. Он гремел цепями, ногами разбрасывая вокруг себя кучу гнили, кулаками пытаясь пробить стены, окрашивая их в цвет крови.
— Юнги, — Чанёль звал его тихо, пытаясь достучаться до взбешённого друга, — успокойся, так ты лишь покалечишь себя, но выйти не сможешь.
— Хочу придушить его! Проткнуть его поганое сердце своим мечом! Что он за человек?! Зачем он это делает со мной?! Что ему ещё нужно от меня? Чёртов Белый рыцарь — что тебе ещё нужно от меня?!
— Юнги, тебя здесь всё равно не оставят. Ты рыцарь благородных кровей, британский граф Норфолк, командующий дивизионом. Барон Тироли не является единственным предводителем, он подчинится другим правителям. Тебя освободят, тогда и задашь ему свои вопросы.
— Не-ет, он сам придёт, и я придушу его этой цепью. Поверь, я знаю — ему не терпится больше, чем мне. Намджун чудовище, что пожирает жестокость, впитывает её, питается ею, и никакие чувства, какими бы сильными они ни были, не дают ему права рушить судьбы вокруг себя, — Юнги всё же замирает, судорожно дыша, уставившись в стену, на которой разводы собственной крови. — Он сам придёт, — повторяет тихо мужчина, — и потребует новую жертву для своего божества.
Чанёль мало что понял из слов друга, но всё же мурашки по позвоночнику пробежались от безумного огня глаз Юнги, что был в отчаянии.
— Это я виноват, — признаёт Чанёль, бессильно опускаясь на солому. — Только я не понимаю, как они узнали об отплытии и о пиратах...
— Разве ты не понял? — хрипло и устало смеётся Юнги. — Не было никаких пиратов, Намджун это всё подстроил, чтобы выдать нас дезертирами, и иметь полномочия заточить нас в темницу, а после, я уверен, шантажировать, требовать... Так что, подождём, Чанёли, — и мужчина снова смеётся, также падая на кучу соломы, а внутри такая обида и боль — ему дали коснуться призрачной мечты, заставив поверить в её реальность, и тут же безжалостно лишили надежды, лишили Чимина!
«О, нежность души моей! Мой возлюбленный Чимин! Я снова обманут судьбой, но смириться, что видимо так оно и есть, что, видимо, судьба против нас — я не могу. Стать бы ветром — долететь бы до тебя, коснуться волос твоих, услышать твой голос, поцеловать глаза твои дивные!.. Господь, чем я наказан? Этой ли любовью или этой войной? Чимин!» — глаза мужчины устало закрылись, а под веками, почему-то картинка стоящего у обрыва в море Чимина. Это длилось доли секунды, но мужчина готов голову дать на отсечение — он знает это место — его дом, его Норфолк и Северное море — Чимин у него дома! И пусть это призрачная картинка в воспалённом сознании мужчины, бред, подкинутый лишь его собственными желаниями — Юнги счастлив!
В стократ увеличенное осознание, что никто и ничто его не удержит более, что он готов на всё — предать, убить, солгать, ради своей цели... Мгновенная мысль болью отдаётся в висках — он начинает мыслить, как чудовище... как Намджун. Всё это время смотря на Белого рыцаря, оправдывая его мысли и действия, снимая вину за жестокость ради любви, сам готов стать таковым, стать «намджуном». Но пусть он только придёт, пусть только потребует новую жертву — он её получит.
*
В комнате, с красными гобеленами, находятся трое. Один из них, словно чёрная тень нависает над другими, хоть и имя ему «Белый» рыцарь. Но как оказалось, кроме имени и волос ничего белого в нём нет — ни сердца, ни души. Так думал Хосок, медленно осматривая комнату — широкую и богатую, краем мысли отмечая, что она смежная с покоями короля. Большой камин пылает, высокие свечи горят, пышная, мягкая постель, укрыта таким же красным покрывалом и пахнет жаренным сахаром и лимонами. Странная деталь — в углу у постели, плетёная корзина, такие обычно держат для домашних кошечек. И Хосок приходит в замешательство, когда белоснежный комок тихо выползает из-под кровати и ловко забирается на постель, где свернувшись калачиком, спали ещё два пушистых комочка. Кошечки в спальне главнокомандующего? Что за человек Ким Намджун, барон Тироли? А потом он смотрит на самого мужчину — высокого, широкоплечего, силу которого можно почувствовать за милю. Лицо нельзя назвать красивым, но черты столь волевые, правильные, а главное взгляд, что в самую душу смотрит. Наверное, именно эти глаза заставили когда-то самого Хосока без оглядки пойти за ним, и в огонь, и в воду ради своего господина.
— Мои слова должны остаться только между нами, и только в этой комнате. Вульф мне как сын, а ты Хосок — моя правая рука, — Намджун начал проникновенно, тихо, смотря на обоих мужчин перед собой. Он протягивает им через стол бумагу: — Его зовут Алексей. Он заточён в темнице Константинополя, но любой ценой должен попасть ко мне, сюда, в Задар. Вы освободите его, и под усиленным конвоем отправите в это место — во двор короля Монферратского. С вами поедет граф Норфолк. Далее — ты, Вульф, отправишься в Рим, в Папскую область. Отдашь письмо Его Святейшеству, и любой ценой добьёшься его принятия, а мне привезёшь его согласие.
— Будет исполнено, мой господин, жизни не пожалею, — Кай склоняется перед ним, приложив ладонь к сердцу, преданно заглядывая в глаза.
— Хосок? — мужчина смотрит пытливо на рыжеволосого.
— Я с Вами до конца, главнокомандующий, но... мои друзья, они были преданы Вам, как и я...
— С твоими друзьями ничего не случится, обещаю, но так надо было. По-другому мне не удержать Юнги, а он мне нужен более всех. Если это единственное, что тебя беспокоит, то не стоит.
— Единственное. Я всё понял, господин главнокомандующий. Всё будет исполнено как Вы повелели — заключённый в темнице Константинополя человек будет доставлен к Вам.
— Выступаете с рассветом, и Господь вам в помощь, но надейтесь лишь на себя. С вами будут только лучшие отряды. Свободны.
Оба удалились, гулко отстукивая подошвой грубых сапог по тонкому паркету, а Намджун смотрит им вслед, пряча чуть подрагивающие пальцы в кулак. Волнение охватывает его, когда он остается один в комнате. Этот миг настал — завтрашнее утро решит всё — быть ему и дальше главнокомандующим и исполнить свою клятву, или пропасть, стать низложенным и изгнанным. Но он не отступит, ибо некуда, а за его спиной только нежная душа, прекрасное божество. Дрогнет Намджун — погибнет и его возлюбленный, поэтому нет у него права отступить в ответственный момент, не в его характере.
Тихий напев нежной мелодии, чуть слышен из-за плотно прикрытой двери. Голос поющего так красив и глубок, и выдаёт его счастье, хрустальным звоном растекаясь по комнате. Намджун улыбается, и сердце его сладко заходится от голоса любимого, голос, который он готов слушать часами до конца своих дней. И ради ноток счастья и спокойствия в родном звучании, он готов на всё — весь мир ляжет пеплом, но его божество будет стоять на своём пьедестале крепко и недосягаемо.
Тихий смех прерывает мелодию — Сокджину радостно от чего-то, его сердцу спокойно, его душа довольна, а тело любимо. Что ещё нужно человеку для тихого счастья? Королю и этого хватает, но его верному рыцарю всё мало. Именно поэтому Намджун решительно поднимается и идёт прямо навстречу своей совести, через которую он сегодня в очередной раз переступил. Совесть ждёт его, закованная в наручники, в холодной и сырой темнице, но сегодня он с ней не будет торговаться, не будет каяться — он её просто задушит окончательно.
*
Лязг цепей и хриплый смех сидящего на соломе мужчины, заставляет вошедшего Намджуна чуть вздрогнуть. Наверное, внутри него затрепетали последние отголоски стыда, что тут же потонули под натиском жестокой воли. Позади мужчины вышагивают его верные стражи, оглашая своды темницы гулким стуком, и сам он вытягивается сильнее, расправляя плечи, сжимая кулаки. Ржавые петли скрипят, распахивая для мужчины двери камеры, и Намджуну приходится склониться над входом, прежде чем войти.
— Не надо поклонов, барон Тироли, — ещё шире усмехается Юнги, — оставьте церемониал.
— Дезертира Пак Чанёля повесить на крепостной стене. Выполнить немедля, — тут же стражники в мгновение ока вновь скручивают мужчину, отцепляя цепи от кандалов, связывая их за его спиной и выволакивая за решётку.
— Прощай, Юнги! Ты знаешь, что ему передать, — Чанёль успел обронить лишь эти слова, прежде чем его скрюченного поволокли по грязному полу.
— Чанёль!.. — Юнги натягивает цепи до предела, рыча, словно волк. — Намджун, я вырву твоё поганое сердце!
— У тебя есть время, пока его доведут до крепостной стены, возведут на эшафот, натянут верёвку на шею и сбросят со стены, — спокойным голосом сообщает беловолосый, пока для него ставят резное кресло, накрытое мягкой шкурой.
— Говори сразу... выкладывай... всё начистоту, и никаких сказок.
— Не тебе ставить условия, но так уж и быть — палач будет ждать моего сигнала, — Намджун удобно опускается в кресло. — Ты отправишься в Константинополь и привезёшь мне одного человека...
— Я же говорил не темни!.. — снова рычит Юнги, до крови на запястьях натягивая цепи.
Намджун выдыхает как-то обречённо-снисходительно, чуть прикрывая наигранно глаза:
— Ты привезёшь мне низложенного наследника Византийской империи — Алексея Ангела, которого сместил собственный дядя, тоже кстати Алексей Севастократор{?}[Севастократор — высший придворный титул в поздней Византийской империи, который был введен в конце XI века.]. Найдёшь его, освободишь, доставишь лично мне.
— Почему я?
— Британский лорд Норфолк, один из сильнейших родов Англии, поддержит меня в восстановлении справедливости...
— Я сказал без сказок!..
Намджун молчит несколько долгих секунд, смотря на замершего перед ним мужчину, не торопится, будто от этих секунд не зависит жизнь человека, которого ведут связанным по крепостной стене, всё ближе к эшафоту. Он легко поводит рукой и стражники, склонившись, удаляются.
— Планы поменялись. Пилигримы отправятся в столицу Византии, сместят узурпатора императора, восстановят справедливость и помогут взойти на престол истинному наследнику. Венецианские галеры высадят нас на азиатской стороне пролива Босфор, у дворца Халкидона. Мы осадим столицу, предъявим истинного наследника, потребуем для него трона...
— Не-ет, — зло ухмыляется Юнги, всё так же натягивая цепи, — нет, планы не поменялись. Ну что же ты?! Будь честен со мной хоть раз — план изначально был таким, ведь так? Тебе плевать на этого наследника, плевать на чью-то справедливость. Тебя интересует только Константинополь, только столица империи, которую ты захватишь!
— Да, — после нескольких секунд молчания произнёс Намджун, не читаемым взглядом сверля мужчину перед собой.
— И дело даже не в том, что тебя поддержит британский лорд — тебя поддержит английский король в моём лице, поддержит венецианский дож, уверен, поддержит даже Папа Римский, чей крест ты носишь. А этот наследник... Алексей, лишь очередная твоя пешка, от которой ты избавишься в тот же день, когда захватишь город.
— Да, — снова соглашается Белый рыцарь.
— Не было и нет никакой Святой Земли перед нами, ни Гроба Господня, ни Святой миссии его освобождения! — почти кричит Юнги, — ты обманул весь мир, Намджун! Ты обманул Бога, прикрываясь Его Крестом, ради своей корыстной цели...
— Ради моей любви, — как-то тихо прервал его мужчина, словно признаётся в сокровенном желании так, что даже Юнги замер, смотря на него широко раскрытыми глазами.
— Что же это за любовь такая, что миры разрушает, ломает судьбы, стирает города в пыль?..
— Моя любовь!.. Ради него я не остановлюсь ни перед чем и ни перед кем. Наверное, нужно было сказать сразу, чтобы лишить тебя и этой призрачной надежды — возвращения к нему, к графу Блуа, — Намджун ухмыляется криво, словно больной улыбкой, окончательно срывая с себя маски. — Я сжёг твоё письмо, Юнги. Он его не получил, и не ждёт тебя более...
— Что?.. Что ты сделал?! — Юнги так сильно натягивает цепи в диком желании дотянуться до Белого рыцаря, сломать ему шею своими пальцами, что держатели в стене трещат, а с запястий стекает кровь.
— Я поступил гуманно по отношению к твоему возлюбленному, — оправдывает себя Намджун, не отводя глаз с мужчины. — Зачем мучиться напрасными ожиданиями столь юному и прекрасному существу? Я сделал его свободным от ненужных обязательств, от обещаний, которых ты не сможешь выполнить...
— Ты!.. Ты... за что? Освободи меня от цепи, будь мужчиной, и сразись со мной в честном поединке! Я убью тебя!
— Убьёшь обязательно, когда-нибудь, но не сейчас. Сейчас я тебя «убиваю». На твоего друга уже накинули петлю. Он ждёт. Я жду. Ты согласен?
Хрипы, срывавшиеся с губ Юнги, больше походили на болезненный скулёж, попавшего в капкан волка. Он знает, что ему не выбраться, знает, что нет выбора...
— Согласен.
Намджун встаёт стремительно, давая сигнал стражникам, и в последний раз кидает взгляд на Юнги, осевшего коленями на пол, свесив беспомощно голову, всё так же сжимая кулаки, но уходит молча, так и не сумев понять — выиграл он сейчас или проиграл.
*
Пасмурный рассвет накрыл портовый город, когда за его пределы вышел отряд рыцарей, тихо, словно прячась, кутаясь в серые, неприметные плащи.
У волнующегося причала их ожидают две галеры, под тентом которых они укрылись, выходя в беспокойное Адриатическое море. Их путь в Константинополь долог, а возвращение почти невозможно, и всё же каждого из них гонит чувство: кого-то чувство преданности, кого-то страха, а кого-то ненависти.
Хосок впервые видел своего друга таким — словно неживого, с пустыми глазами и обречённым взглядом, с сердцем, которое будто и не стучит вовсе. Наверное, так выглядит человек, потерявший что-то важное, возможно, главное в своей жизни — смысл? любовь? надежду?
Он так и не смог с ним заговорить, просто молча стоял рядом, пока тот безотрывно смотрел на бушующее море. Хосок вспомнил напутственные слова друга перед тем, как покинуть Анжу — встретить любовь на войне, и сейчас, смотря на сломленного мужчину, горячо взмолился чтобы это пожелание не сбылось никогда, чтобы сердце его друга тоже обрело свободу от этих мук. Но видя, как одними губами, Юнги шепчет чьё-то имя, понял — он не хочет этой свободы. Что ж, пусть так и будет. Видимо, это судьба.
***
Средиземное море. 1203г.
Что есть страх? У каждого он свой — кто-то боится змей, хищных животных, ядовитых насекомых, а кто-то людей, что порой пострашнее любой живой твари на земле. Но что делает страх? Гонит вперёд, без оглядки, без остановки, прямо или петляя, бегом или скрываясь, но лишь вперёд.
Страх сжимает сердце Бэкхёна, что боится потерять любимого на войне, заставляет смотреть прямо в это бушующее море и крепко держаться за канаты, но всё также плыть вперёд. Каких сил ему стоило найти смельчаков, что отважились выйти в море в такое время года. За два небольших корабля он заплатил целое состояние, а капитану посулил ещё больше, если живыми доберутся до Константинополя. Но молодому герцогу не жаль этих денег, не жаль покинутого дома, семьи... он всё оставил за спиной, ради одного единственного человека, ради хрупкой надежды хоть раз взглянуть в его серые глаза... Чанёль! Имя мужчины заставляет его смело смотреть вперёд, решительно оставляя всё позади, а страх подгоняет.
Страх держит сердце и другого юноши, чьи голубые глаза посерели дымкой от бесконечного волнения. И чего он больше боится — волн, бьющихся о борт или неизвестности, что лежит перед ним — непонятно. Что ждёт его на том берегу моря, в далёкой и неведомой Византии, вернее, ждёт ли его кто-то? Чимин не знает как на него посмотрит Юнги. Может, как на чужого, ненужного и совсем нежданного? Может забыл о нём в пылу битв и в объятиях чужих дев? Может всё было сном, что растает, как эта пена морская, едва коснувшись берега? Эта неизвестность страшнее любого шторма и грозы, и всё же Чимин с надеждой смотрит вперёд, крепко держась за борт корабля.
— Господин Бён, — капитан обращается к юноше, не зная, что перед ним герцог Анжуйский, один из наследников французского престола, для всех моряков на корабле он виконт Бён, а его друг — благородный рыцарь Пак. — Господин, боюсь нас относит штормом севернее курса. Нам нужно прибиться к острову Ираклион, иначе есть опасность быть унесённым к Кипру, а это огромный крюк, чтобы вернуться в Греческое море{?}[Греческое море — так называли в Средние века Эгейское море].
— Свернём к острову. Передайте сигнал на второй корабль, — Бэкхён считает дни, что длится их путешествие, и терять ещё драгоценное время на то, чтобы обогнуть всё море он не может.
Оба корабля были скреплены крепкими канатами от кормы заглавного к носу последующего. Так же передавались команды и указания. Порыв шквального ветра кренит корабли, бросает из стороны в сторону, но парус не убирают, ибо тогда точно унесёт течением.
Юноши укрылись под тентами, хоть это и не спасало от ветра, но защищало от солёных брызг и надвигающегося ливня. Бэкхён молился всем известным ему святым и Господу Богу, всем сердцем переживая за Чимина, невероятно боявшегося грозы и молний, а здесь — в открытом море — шторм был в разы страшнее, чем на земле. Когда ударила первая молния, Бэкхён не выдержал — выскочил из-под укрытия на палубу, в невероятной тревоге за друга. Он видит, как второй корабль скручивает ветром, а капитан кричит во всё горло рубить канаты.
— Нет! Нет... нельзя, нас унесёт ветром... — юноша пытается противостоять капитану.
— Тогда мы просто столкнёмся и пойдём ко дну! Рубить канаты! — тут же замелькали топоры, чьи глухие стуки не были услышаны сквозь бушующий шторм. — Пусть уж лучше отнесёт течением, чем на дно.
— Куда именно нас несёт? — Бэкхён кричит прямо в ухо капитану, столь сильным стал шторм, и дождь хлынул как из ведра.
— К ливанскому побережью, и молитесь, чтобы нас не унесло к Триполи.
— Мы не можем заплыть так далеко, это ещё больше сделает наш путь долгим.
— У нас нет выбора. Лучше живыми проплыть тысячу миль, чем наши мёртвые тела прибьёт к византийскому берегу.
Бэкхён моргнуть не успел, как второй корабль исчез из вида, словно он пропал в пучине морской, но всё же после огромной волны, что упала тяжёлой тёмной водой, он появился в поле зрения. Юноше даже показалось, что видел светлую макушку Чимина, а после он снова исчез.
Час их штормило и молнии прорезали небо, изрыгающее из себя тонны ливневой воды, будто её мало у них под ногами. В какой-то момент показались очертания берега — тёмных скал, возвышающихся прямо из моря. Капитан орёт истошно, приказывая грести, что есть силы, и сам налегает на руль. Шквальным порывом срывает парус, с треском разрывая плотную ткань, и она ошмётками бьётся на штормовом ветру, но сто вёсел отчаянно борются с огромными волнами, пытаясь одолеть их. Последним рывком судно попадает в водоворот течения, что уносит их дальше от скалистого и опасного берега. Но в тот же самый момент облегчения, моряки видят в щепки разлетающийся о скалы второй корабль, и треск ломающейся мачты перебивает грохот шторма.
Земля уходит из-под ног юноши, хоть под нею лишь пучина морская, да палуба ходуном, но видя гибель корабля, где был его единственный друг, его светлый ангел — Чимин — в глазах темнеет, и Бэкхён падает на пропитанный солью борт, протягивая руки, истошно крича и зовя друга, пока его самого оттаскивает пара крепких мужских рук.
— Вернёмся за ними! Их можно подобрать... там Чимин! Велите грести к берегу, мы подберём уцелевших...
— Мёртвых! Они все ушли на дно морское, и Ваш друг тоже! Мне жаль...
— Велите грести, мы не можем быть уверенными... Чимин! Чими-ин! Я не могу его потерять! Он не мог утонуть! Я приказываю грести к берегу!
— Приказы здесь отдаю я, и мы не поплывём.
— Я заплачу в три раза больше, чем обещал, только...
— Мёртвому не нужны деньги, какими бы большими они ни были, а с нами случится то же самое, что и с ними. Нет, мы не будем разворачиваться!
С чем сравнить отчаяние, когда на твоих глазах, ты теряешь дорогого человека, а собственная беспомощность убивает тебя самого? Как описать горечь и боль юноши, отчаянно цепляющегося глазами за скалы, что всё дальше и дальше от них — от места гибели его родного Чимина? Что он скажет его родным? Что он скажет Юнги? Что не уберёг, не спас... что погубил его своей беспечностью, неосмотрительностью!
— Чимин! — последний раз крик безнадёжности проносится над волнами, закрывающими этот проклятый берег, уносящими рыдающего юношу всё дальше и дальше...
Проклятый берег для одного, берег надежды для другого, земля обретения для третьего — и место, где смерть лишь начало новой жизни...