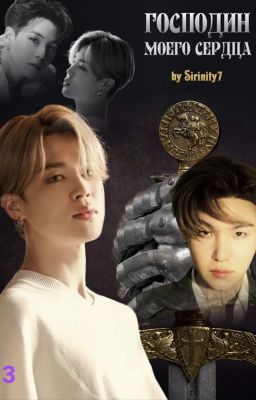Часть 8
========== Глава 8 ==========
Такая тишина вокруг, что уши режет безмолвием, или он оглох совсем. Ведь так не бывает — зимний лес должен шуметь, ручей подо льдом журчать, холодный ветер подвывать, да и сотни людей вокруг, а ни разговоров, ни бряцания оружия и ржания коней не слышно. Сокджин понимает почему это безмолвие давит, почему ему заложило уши немым молчанием — он дома! В самом ненавистном и пугающем месте для него на земле. Кто сказал, что родной дом — это тепло, уют, забота, любовь? Если дом действительно место, где должны обитать эти чувства, то у Сокджина никогда его и не было. Он никогда не был счастлив здесь — ни в детстве, ни в юности. Принц никогда не видел любви между родителями и не видел любви от родителей. Отец ненавидел его мать, а мать отвечала ему тем же. Ненужный ребёнок, вынужденный ребёнок, рождённый постольку поскольку — так должно было стать — Сокджин ненужный ребёнок, зачатый в насилии, произведённый на свет в дикой боли женщины и пьяном хохоте мужчины. Удивительно красивый ребёнок, словно цветок — нежный, мягкий, ласковый — будто абсолютный противовес той жестокости, из которой он родился. Его выходила кормилица, пеленала прислужница, учил ходить престарелый стражник в замке, а он отвечал им детской любовью, такой простой и бесхитростной. Он и родителей любил, и улыбался им, даже когда получал оплеухи и тычки ногами, прогонявшие его прочь. Отец не перестал бить его, даже когда наконец развёлся с его матерю, удалив её из замка, а Сокджину было уже десять лет. Через год король снова женился на очень миловидной и ласковой женщине почти вдвое моложе него, и отец попросту забыл о нём. И что было хуже для юного сердца мальчика — пусть жестокое, но внимание родителя, или полное забвение — он не знал. Даже сейчас двадцатичетырёхлетний король Ким Сокджин тосковал по умершим отцу и матери. Хоть оба умерли от своих же грехов — отец от пьянства и последующей за ним подагры, мать от бессильной злобы и вечного самоедства. Только вот в последний год, жившая в одиночестве мать, видимо желая облегчить перед смертью свою душу, попросила прощения у сына, каясь в своём жестоком равнодушии. Сокджин простил, но только ребёнок внутри него всё ещё сжимался и плакал от обиды, прощаясь с матерю.
— Мой король? — глубокий, обеспокоенный голос Белого рыцаря, заставляет юношу отмереть от своих мыслей, и в тот же миг все звуки мира возвращаются к нему.
Намджун знает о чём думает его король, что именно вспоминает его любимый, а он не хочет чтобы тени прошлого накрыли его прекрасное лицо.
— Посмотрите, мой король, долина Монферратии и крепость Казале... Ваш дом.
Всадники поднимаются на пологий холм, замирая на возвышенности. Вокруг, на поднятых пиках развеваются знамёна, доспехи сияют под зимним солнцем, Сокджина окружают сотни и тысячи воинов, на голове у него корона, рубиновое свечение которой слепит глаза, а справа стоит его верный рыцарь — этого более чем достаточно, чтобы гордо поднять голову, расправить плечи и выступить навстречу демонам прошлого — здравствуй дом!
*
Юнги возможно заметил это ещё в Анжу, но ослеплённый чувствами к своему возлюбленному, не мог смотреть по сторонам, а если и видел что-то, то в его сознании, полностью занятому юным графом Блуа, не было места для анализа чужих поступков, слов, взглядов. Но теперь, два месяца находясь бок о бок с Намджуном, он видел как горит чёрный взгляд Белого рыцаря, что блуждает по лицу короля Сокджина, чувствовал как прерывается дыхание мужчины, когда он преклоняется перед ним. С каждым днём граф видел трепет барона, его неподдельное беспокойство и заботу о безопасности и комфорте своего короля. Он не мог не замечать, что на столе у монарха всегда свежая и изысканная еда, фрукты и овощи, непонятно откуда доставаемые в этих глухих и малолюдных местах. Шатёр короля уже стоял обустроенным на каждой их остановке, а в шатре самая настоящая кровать, которую собирали и разбирали каждый раз. Вокруг Монферратского всегда десятки слуг, в то время, как любой благородный рыцарь дворянского происхождения имел не более трёх. И неважно, что это был военный поход, где комфорт — это последнее, о чём должен беспокоиться пилигрим — Намджун заботился о своём господине.
Лишь позже Юнги стал сопоставлять факты и поступки Белого рыцаря. Ему не составило труда соотнести турнир в Анжу, договор с Людовиком и привлечения войска во Фландрии. Теперь он желал узнать каким образом Белый рыцарь стал наместником Папы Римского, предводителем похода. Да, он слышал о видении и Божьем гласе в нём, но как ему удалось дойти до самого Ватикана, не прослыв блаженным или просто сумасшедшим? Ведь Папа не просто поверил ему, но и одарил Крестом, снабдил серебром и отрядами воинов-священнослужителей. А уж догадаться об истинной цели похода было делом несложным. Примеры былых крестовых походов, что заканчивались образованием отдельных независимых государств крестоносцев в Триполи, Антиохии и Эдессы, были известны всем. И видимо Белому рыцарю столь же приземлённые цели были не чужды. Его король безземелен, изгнан, лишён наследных земель, значит его рыцарь задался целью раздобыть для него королевство. Но только ли для него, вернее — для него ли? И можно ли это назвать просто заботой, волнением или это что-то другое?
— Король Сокджин взволнован, — начал Юнги осторожно, находясь рядом с предводителем во время спуска в долину Казале, а очертания разрушенной башни чернели на горизонте. — Видимо, возвращение в родную крепость сказалось на его состоянии.
Намджун усмехается, кривя уголки губ и опуская глаза на свои руки, но сразу же поднимает свой взгляд обратно, смотря на точёный профиль короля.
— Я знаю зачем ты завёл этот разговор, — неспеша начинает Намджун, — и признаюсь, ждал, когда же начнёшь задавать вопросы.
Юнги опешил на доли секунды, удивляясь как быстро его раскусили. Но нечему удивляться — это Белый рыцарь — самый загадочный и сильный рыцарь, которого он когда-либо знал. Ненависть, что охватила графа в первые дни после «пленения», не исчезла, лишь превратилась в некое подобие уважения, признания силы, и Юнги опустил кулаки, понимая, что его время придёт.
— Ради чего всё это, Намджун? — тихо спросил он, и оба понимают, что имеется ввиду под словом «это».
— Я тебе скажу сейчас, а ты потом перефразируй свой вопрос, — Юнги смотрит ещё удивлённее, словно перед ним раскроют сейчас тысячелетнюю загадку Сфинкса. — Я не открою тебе тайны мира, если скажу, что наш мир порождён жестокостью. Она сплошь и рядом, живёт в каждом человеке, будь то родной родитель твой, брат, друг. И ты с ней смиряешься, допускаешь ее в свою жизнь, позволяешь этой жестокости быть. И всё становится обыденным — ложь, предательство, убийство. И даже неважно кого проткнёт твой меч — пьяного трактирщика или рыцаря-бродягу. Чужая жестокость больше не трогает тебя, не волнует, когда кого-то бьют, насилуют, режут горло... — Намджун умолкает на секунды, и Юнги понимает, что это его жизнь уложенная в нескольких коротких предложениях. — Но в один день... в какой-то момент, ты видишь кого-то, и твой мир переворачивается.
У Юнги сердце ухает вниз от понимания... мгновенного понимания — Намджун влюблён! Ещё никогда он не слушал так внимательно никого в жизни — ни наставления своего покойного отца, ни сказки от матушки, ни песенки от младших сестриц, ни приказы своего короля, так, как слушал этого Белого рыцаря.
— Что случилось в тот день? — тихо спросил Юнги у мужчины, что даже не смотрел на него — только вперёд, на приближающиеся очертания крепости.
— Я приехал в Казале, — и снова умолк, ибо воспоминания нахлынули с такой силой, что мужчина выдохнул громко. — Это был самый прекрасный день весны, что я когда-либо видел в своей жизни. Крепость казалась мне, семнадцатилетнему юнцу, местом доблестных и благородных людей, а невеста, в свите которой я был — самой прелестной и доброй девушкой во всём мире. Но всё померкло перед истинной красотой, что я увидел в тот день. И не только внешнее совершенство покорило меня, но сияние изнутри, словно ангел спустился с неба, — Намджун снова усмехается, опуская взгляд. — Знаю, звучит слишком уж сопливо-приторно, но это было так. Я и сейчас думаю так же, но всё же я ошибся — это был не ангел, а само божество!
— Вот как?! — Юнги позволяет себе улыбнуться, ведь и ему знакомо это чувство — его юный граф Блуа, его совершенный мальчик — ангел во плоти!
— Но когда я увидел, как это воплощение доброты и мягкости, бьют по лицу, оставляя багровые отпечатки, как этого нежного ангела пинают ногой как собаку, прогоняя с кресла, выволакивая за волосы из-за стола, а его хрустальные слёзы не останавливают той жестокости, что проявляют к нему самые близкие люди, тогда я понял — весь мир может безжалостно потонуть в несправедливости, но вокруг него бессердечия не будет. Ты не представляешь, что это за мучение, когда не можешь защитить его от жестокосердия собственного отца, когда видишь, как лишают его еды и питья из-за каких-то надуманных проступков, когда бьют просто из-за того, что так хочется кому-то.
Юнги слушает и понимает, что разгорячённое признанием рыцаря сознание пропускает одну важную деталь — определение «он», а не «она». Взгляд его тут же мечется к Монферратскому, но быть уверенным он ещё не может.
— Я помню день, когда впервые заслонил его от удара. Помню, как был счастлив, получая кнутом по спине за это — я смог защитить его, и это было высшее блаженство. Я повзрослел, и моё умение и выносливость оценили, назначив главным стражем крепости, но по сути я стал его стражем. Я смог уберечь его от последующей жестокости и несправедливости, но на смену его немощному отцу пришла не менее коварная и беспощадная мачеха. Один раз я спас Вульфа, помог ему бежать, с тех пор он верен мне больше, чем кто-либо. А герцогиня Веронская сама подписывала королевские указы и творила своё беззаконие. Три года назад она заточила его в башню, лишая всего — титула, имени, будущего...
— И ты?.. — Юнги знает на что может пойти бесконечно влюблённое сердце рыцаря, и услышав ответ, понял, что не ошибся.
— Я попытался совершить переворот — сместить немощного короля с престола и возвести его сына, — Намджун снова умолкает на долгие секунды, видимо события той далёкой ночи промелькнули у него перед глазами. — Я не всё просчитал, не обо всём подумал, и в этом была моя ошибка. Большая часть гарнизона осталась верной королю, я не смог продвинуться к башне, нас окружили... Мой отряд... двести верных мне рыцарей и оруженосцев были повешены как собаки на крепостной стене, — голос мужчины ломается сталью, когда говорит об этом, — и я ждал той же участи, но со мной обошлись хуже, — усмехается Намджун, всё так же смотря только вперёд. — Меня оставили в живых, отдали мой меч и изгнали из крепости. Полгода я жил как нищий бродяга, питаясь чем попало, засыпая на деревьях и сеновалах, пока не нашёл Вульфа. Но хуже лишений и скитаний было чувство, что я не смог защитить его, не смог спасти из когтей той жестокости и беззакония, и что сделал только хуже. Нет ничего более разъедающего и разрывающего тебя изнутри, чем бессилие... И оно съедало меня, раз за разом, день за днём, размывая во мне все границы оставшейся во мне человечности. Ради своей цели... своей произнесённой перед ним клятвы, я не останавливался ни перед чем — грабил и убивал, и поверь мне, далеко не всех, кто был равен мне по силе. Не гнушался ложью, обманом, подлогом... я это признаю. И, видимо, ты уже понял, что я делаю это до сих пор, — Намджун смотрит в упор на Юнги, получая в ответ взгляд полный... понимания? — Ты готов перефразировать свой вопрос?
— Ради кого всё это, Намджун? — так тихо спрашивает Юнги, хоть уже знает ответ.
Намджун снова поворачивает голову туда, где блики зимнего солнца играют красными лучами в рубиновых камнях золотой короны, и идеальный профиль с нежными чертами, словно божественный лик.
— Посмотри на него, Юнги, — голос Белого рыцаря совсем другой, столь же хриплый и глубокий, но нежности в нём без меры. — Посмотри и скажи, разве возможно не боготворить его? Разве можно не приносить ему жертвы раз за разом, складывая их к его ногам, пусть порой дары пахнут кровью и омыты слезами? Ради него... ради моего божества я переверну небо и землю. Весь мир умоется кровью и сгорит в огне, но я зубами выгрызу для него королевство!
Юнги ни секунды не усомнился в словах мужчины, и он не завидовал тому миру, на который обрушится меч Белого рыцаря.
*
Стены крепости возникли перед ними во всей своей устрашающей красоте. С западной стороны виднелась неумело заделанная брешь, но ворота были открыты настежь — в крепости уже ждали возвращения «своего короля». Низко заломанные шапки челяди и поклоны стражников, говорили о почтении или о страхе, но Юнги не придал этому значения, а когда увидел разрушенную башню, которую никто и не собирался возводить заново, ему показалось, что он снова прочувствовал всю исповедь Белого рыцаря. Уродливые обломки, осыпавшиеся по времени, обугленные тем далёким пожаром, лежали, как напоминание того страха и беспомощности юного принца, каким тогда был Сокджин. Юнги смотрит на короля, на его растерянное бледное лицо, и понимает, что в нём до сих пор живёт тот маленький мальчик, ищущий тепла и ласки. Сокджину помогают спешиться, как и положено монарху, но стоит слугам отойти, как король теряется ещё больше — полуприкрытые глаза бегают по земле, рука в перчатке сжимает рукоять небольшого кинжала на поясе, а вторая словно ищет что-то в пустоте вокруг, словно опору. И он её находит, обхватывая пальцы мужчины, что встал за его спиной, возвышаясь и закрывая от всего и всех словно стена, за которой ничего не страшно. Юнги видит это, видит самое прекрасное, что может быть между людьми, что может быть вообще на земле — любовь! И его собственное сердце сжимается в тот миг от невыразимой тоски. О, он всё бы отдал сейчас, только бы увидеть своего прекрасного ангела, коснуться его волос, поцеловать нежную улыбку... Чимин! — имя растекается по телу мужчины слабостью, оседая в сердце сладкой болью. Нет, он не имеет права осуждать Намджуна, не имеет права упрекать за жестокость, корить за обман, ибо понимает — он бы сделал точно так же, а может и больше.
*
Широкая и длинная зала в главном донжоне крепости, а по сути простое одноэтажное строение с тёмными балками и откидными ставнями в окнах под самым потолком, вместила в себя почти полторы сотни воинов — командующих дивизионов, командиров, приближённых к королю рыцарей. Сегодня гостеприимный король Монферратский давал для благородных господ и рыцарей ужин.
Длинные столы ровными рядами тянулись вдоль стен, а у главной стены под стрельчатыми арками стоял королевский стол, чуть возвышаясь над остальными, заставленный ароматными блюдами и крепкими напитками. Пир проходил шумно — короткие тосты за здравие короля, за истинную веру и благополучный исход, провозглашались один за другим, а Сокджин пил до дна. Глаза его блестели хмельным огнём, но не было весёлого задора и искры — весь облик его был печален, хоть и сидел в широком кресле с прямой спиной и высоко поднятым подбородком — иначе корона падала. Ненавистная корона, которую ему возложили на голову, и которую он должен держать высоко, когда ему невыносимо хотелось склонить голову к плечу мужчины, опереться на его руку, прижаться к его груди, и просто жить с ним долго и счастливо. Но вместо ожидаемых тепла и любви, его возвели на пьедестал, с которого и падать-то больно.
Он смотрит больными глазами на сидящих вокруг мужчин, пирующих беззаботно. Видит обеспокоенный взгляд графа Норфолка, что сидит рядом с понурым Чанёлем, и слегка кивает им — он рад этим гостям, хоть и не рад тому месту, где они находятся, и вновь припадает к кубку с вином.
— Мой король, — голос Намджуна тих и сквозит волнением.
— Оставь меня. Не хочу тебя слышать... — Сокджин отворачивается, словно от горькой настойки отмахивается.
— Вино слишком крепкое для Вас, лучше выпейте мёд...
— Да? — юноша слабо усмехается, вполоборота смотря на мужчину из-под ресниц. — Просто мне сказали, что пьяные молитвы доходят быстрее, а я устал возносить их в пустоту. Может хотя бы теперь меня услышат?
Музыка, зазвучавшая в глубине зала, отвлекает его. Менестрели заиграли на лютнях и бубнах, чей глухой стук задавал медленный ритм. Рожок пропел незамысловатый мотив, делая вечер для присутствующих рыцарей ещё приятнее. Голоса становились всё громче и задорнее, и вино разливалось всё чаще и быстрее.
Перед королём кланяются его подданные — мэры и старшины городков, главные мастера ремесленных цехов, что прибыли почти со всех округов Монферратии, преподнося ему дары один за другим — великолепные ткани, украшения, меха, огромное количество корзин, бочек, мешков с провиантом, и всё кланяются и кланяются, всё ниже и ниже, превознося имя короля, а Сокджину смеяться хочется с этого представления. Он знает — всех этих людей «согнал» его верный рыцарь, и все их щедрые дары сделаны под угрозой клинка меча. Сокджин улыбается, милостиво кивая головой, принимая их подарки и клятвы верности, хоть знает — приди сюда на следующий день его малолетний брат — они и ему будут так же кланяться и клясться в верности. Снова кислое вино заливает горечь юноши, а Намджун тянется к его руке.
— Не трогай... — таким строгим и одновременно беспомощным голос юноши ещё не звучал, и сердце мужчины падает в бездну.
Он чувствует, знает — его любимому плохо... плохо, страшно и одиноко. Намджун сотню раз пожалел, что проложил маршрут по этим землям, что вновь заставил своё божество вернуться в этот ад, окунуться в эти воспоминания, хоть и поклялся беречь его от всего и вся.
Перед поникшим королём склоняется молодой и красивый юноша, чистым и высоким голосом приветствуя его. Сокджин отвлекается на него, понимая, что это главный трубадур. Его голос, с легким тосканским акцентом, зачаровывал, и улыбка скользила по тонким губам.
— Как тебя зовут, трубадур? — король смотрит на юношу, словно хочет о чём-то ещё спросить.
— Бернар де Вентадорн, Ваше Величество.
— Может... ты знаешь песню, что о любви-обещании, её часто пели в здешних краях много лет назад.
— «Ради тебя», мой господин. Я знаю её, и если Вы пожелаете — спою её для Вас.
— Желаю, — быстро выдохнул юноша, сильнее сжимая пальцы, и сам сжимаясь как-то беспомощно.
«Per te» Josh Groban
Трубадур кланяется, беря в руки семнадцатиструнную лютню, садясь прямо на ступени перед столом короля. Первые аккорды совсем тихие, но даже этого хватает, чтобы все затихли. Голос невероятно чистый и высокий, проносится по залу, а с первых слов трубадура у Сокджина слёзы наворачиваются, и он поспешно прячет глаза, устремляя взгляд вниз, на свои дрожащие руки.
О, сколько воспоминаний нахлынули разом на юношу. Сколько раз он просил придворного музыканта исполнить её для него, сколько раз он сам пел её тихо, ночами сжимая подушку, смотря на тусклую луну, и молился, чтобы эти слова хоть раз дошли до того, о ком сердце плакало и к кому душа рвалась.
Чувствую в воздухе твой аромат,
Маленькие пережитые со мной мечты.
Сейчас я знаю,
Что не хочу потерять тебя.
Может ли юное, любящее сердце справиться одному с таким сильным и необъятным чувством? Долго ли оно выдержит любовь в одиночестве?
Сердце мое желает только тебя.
Каждый раз шептать, и не слышать ответа, хоть глаза любимого горят и руки ищут друг друга.
С тобой, с тобой буду иметь
Тысячу дней счастья,
Тысячу ночей спокойствия,
Сделаю то, что ты меня попросишь,
Пойду всегда туда, куда бы ты ни пошёл,
Дам всю любовь, что у меня есть, для тебя.
Для тебя... только для тебя, разве ты не видишь, разве не чувствуешь?.. Только для тебя!
Он всё же плачет, и слёзы текут по щекам, сияя в пламени свечей. Король плачет — как глупо звучит, но как больно всё равно! И нет больше сил — юноша поднимает свой взгляд на любимого, видя на его лице такое же смятение, а в глазах такое же влажное сияние.
Скажи мне, что ты уже знаешь будущее,
Скажи мне, что это никогда не закончится,
Без тебя не хочу жить.
Если не сейчас, когда чувство на пределе и кажется, что до утра не доживёшь без ласки любимого, без слова признания, то когда?! Если не здесь, в том месте, где они впервые увидели друг друга, впервые почувствовали, как сердце может биться по-другому, впервые шепнули в пустоту словно перед возлюбленным — «Люблю!», то где?!
Я не должен говорить тебе этого,
Теперь ты это уже знаешь,
Что я умер бы без тебя.
Мелодия затихла и нежный голос умолк, а отголоски щемящей тоски засели в сердце, что уже готово разорваться. Сокджин уходит с пира, отпуская всех слуг. Перед ним королевские покои с огромной кроватью и пышной периной. Свечи горят золотыми точками по комнате, большой камин греет жарким огнём, и балдахин постели обещает уединение и покой. Но не это нужно сейчас юноше. Он здесь никогда не спал, не жил, и не собирается. Сокджин снимает корону, вновь усталым жестом оставляя её на столе и уходит из покоев.
В самом конце галереи есть комнатка — место, о котором он тайно грезил, обитель его желаний и чувств, крохотная каморка, где жил его верный рыцарь. Сокджин знает — он и сейчас там. Дверь даже не скрипнула, удивляя не проржавевшими за столько лет петлями. Мужчина сидел в полной темноте на небольшой постели, лишь огонь камина пылал, красной тенью падая ему на спину. Юноша присаживается, обнимает эту широкую спину, руками обхватывая крепкую грудь поперёк, щекой прижимаясь между лопаток.
— Не оборачивайся... и не перебивай меня, прошу. Иначе я не смогу... сказать того, что собираюсь, — Намджун замер, и, казалось, не дышит, лишь голову повернул к нему вполоборота, обхватывая обнимавшие его руки.
— Знаю, тебе это не нужно, хоть взгляд твой порой ласкает меня, и губы поцелуем топят моё сердце. А мне нужно... ибо без тебя ничего не мило — ни жизнь, ни весь белый свет, ни-че-го. Потому что всё это, только ради тебя — и моя жизнь тоже. Я жил всё это время: дышал, мечтал, надеялся, только ради тебя. Сколько раз я мог спрыгнуть с этой проклятой башни, и оборвать мою никчёмную жизнь, облегчить мою судьбу и судьбу моей мачехи. Наверное, окно не заколачивали поэтому, давая мне этот выбор, но я выбирал тебя. Я жил ради тебя, мой рыцарь!
Руки сжимают сильнее, а под пальцами юноши бешено бьющееся сердце мужчины. Он утыкается лицом в плечо, пропитывая ткань рубахи слезами.
— Я помню день, что подарил мне тебя. Помню твой взгляд, твою робкую улыбку. Уже тогда я знал, что больше не смогу без тебя жить. Ты служил мне верой и правдой, порой делая то, о чём я тебя не просил, но молю тебя, хоть раз, исполни моё самое сокровенное желание — назови меня по имени, прижми к своей груди, и скажи, что всё это не зря — мои мечты, моё томление и страсть, моя любовь, потому что и это только ради тебя!
Мужчина всё же оборачивается, разрывая крепкие объятия, чтобы вновь прижать к груди.
— Джин!.. Мой ангел, моё божество, моя любовь!
— О, господи, Намджун, я умру сейчас!
Короткие поцелуи мужчины, осыпают самое красивое лицо на земле, сухими, обветренными губами собирая влагу с бледной кожи, шепча... умоляя чтобы простили его.
— Намджун, молю скажи мне это сейчас...
— Люблю!.. Бесконечно и безгранично люблю!
Сокджин плачет навзрыд, сквозь слёзы пытаясь шептать ответное признание. Он забирается к нему на колени, прижимаясь так крепко, будто хочет срастись с ним, своими коленями обнимая бёдра мужчины. Но он падает на спину, увлекая за собой мужчину на постель, и его целуют... впервые в жизни целуют крепко и сладко, самые желанные губы на свете.
Они так и лежали на этой узкой и жёсткой постели, что совсем не была предназначена для двоих. Но тем более у них был повод прижиматься сильнее, целуясь безгранично, руками лаская друг друга.
— Мой прекрасный король, если я скажу, что всё это тоже ради тебя, поверишь ли? Примешь ли такого как я — грубого и неотёсанного рыцаря, что кроме бога войны никакого божества и не признавал, и кроме как своему мечу в любви и не признавался?
Юноша под ним смеётся сквозь слёзы, обхватывая лицо мужчины ладонями.
— Так всё это время моим соперником был твой меч?
— О-о, прости... прости, я говорю глупости.
— Поцелуешь — прощу, — шепчет юноша ему в губы, — хоть мне и нечего тебе прощать, родной мой. Ты и сам не можешь понять, что ты значишь в моей жизни, — Сокджин ласкает пальцами скуластое лицо, смотря проникновенно в чёрные глаза, зарываясь в белые пряди волос.
— Значу? Что? — мужчина словно не может поверить, что всё это не сон, что они сейчас лежат в объятиях друг друга, целуясь, шепча нежные слова, идущие из самого сердца.
— Всё. Ты моё всё, Намджун! Я люблю тебя!
Снова сладость поцелуя кружит голову, заставляя тереться друг о друга, желать большего, судорожно проводить по оголённой коже под одеждой. Первый раз касаться так, как желало сердце, дрожащими пальцами вытаскивая шнуровку из одежды, обнажая нежные плечи, округлую грудь, тонкую талию, линию бёдер. Первый раз ласкать так, как желало тело, дрожа от поцелуев и вздрагивая от касаний к нежной коже бёдер. Сокджин смело и бесстыдно разводит колени, желая наконец ощутить прикосновение мужчины так, как он хотел — полное, кожа к коже, чтобы горячей волной судорога прошла по телу от соприкосновения плоти. В первый раз шёпот мужчины доводит до полного безумства, и руки его погружают в эйфорию, когда движения пальцев на ноющем члене, и губы на губах, заставляют излиться с хриплым стоном. О, первый раз блаженного пробуждения от пережитого экстаза, когда его крепко прижимают к сильному и влажному телу мужчины, шепча безостановочно «люблю...».
В ту их первую ночь они не заснули до самого утра, отбросив всё, что сдерживало их желания, касались друг друга трепетно, целуясь то мягко и нежно, то страстно и жадно. Когда юноша увидел, как мужчина кончает от его рук и губ, осознал, что хочет видеть это бесконечно, чувствовать силу его пальцев на своей талии и бёдрах, хочет его всего.
— Возьми меня, — тихо, но так требовательно шепчет юноша, накрывая сильное тело мужчины своим, чувствуя кожей живота разбрызганное семя любимого, приходя от этого в ещё большее безумство. — Сделай меня своим сейчас... всего.
— О, мой ангел, это больно. Я не смогу...
— Не больнее сжигающей меня тоски по тебе. Я хочу этого невероятно... И ты хочешь, я знаю. Люби меня так, как мы оба желаем, мой рыцарь, мой мужчина.
Разве можно стыдиться той страсти, что разрывает тебя, заставляя прогибаться сильнее, цепляясь за деревянное изголовье узкой кровати, со стоном оттопыривая ягодицы, дрожа от медленных поглаживаний по ним рук мужчины. Намджун с нажимом опускает его поясницу на жёсткую постель, заставляя поджать колени. Не зажженный фитиль лампы перевёрнут решительно, и густой аромат конопляного масла струится по воздуху, смешиваясь с терпким запахом пережитых любовных игр двоих. Густая капля стекает с пальцев мужчины на копчик юноши под ним, заставляя того вздрогнуть от контраста холодного тягучего масла с горячей кожей, а капля стекает дальше, вынуждая напряжение в теле дойти до предела. Но когда палец мужчины мягко размазывает ее у входа в нутро, Сокджин весь дрожит.
— Намджун, умоляю тебя...
— Нет, терпи, — голос мужчины столь глубок и твёрд, словно это говорит не он, а голодный зверь внутри него.
Терпеть — это жестоко, это больно, это муки ожидания, когда пальцы мужчины растягивают тебя изнутри, так долго и медленно, что хочется выть. И Сокджин ещё раз просит:
— Пожалуйста, Намджун...
Его не слушают, настойчиво вторгаясь в его нутро двумя пальцами. От масла, что стекает по его внутренней стороне бёдер, всё жжёт, и воздуха всё больше не хватает. Намджун говорил, что будет больно, но Сокджин понятия не имел о какой боли идёт речь. И сейчас, когда колени дрожат, и пальцы онемели от крепкой хватки изголовья, он может только беспомощно выдыхать, опустив голову меж вытянутых рук. Его медленно переворачивают на спину, поднимая на плечи мужчины, покрасневшие от долгого стояния на жёсткой постели, колени. Сокджин почти ничего не соображает. Меж ног ноет и пульсирует и липко от масла, которого мужчина не жалел. Когда твёрдый, как камень, член мужчины проник в него, он не кричал, лишь распахнул глаза широко, судорожно выдыхая, до скрипа сжимая всё то же несчастное изголовье, передавая хлипкому дереву всю свою боль, разрывающую его изнутри.
Теперь Намджун не медлил, плавно проскользнув в анус до конца, чувствуя, как расходится ткань нутра, практически слыша, как трескается нежная кожа. Он смотрит на дрожащего под ним юношу, что слова не может выдохнуть от боли, и ждёт... Он склоняется к нему, обхватывая лицо ладонями нежно, смотрит своим тёмным взглядом словно в душу глядит.
— Как мне передать, что я люблю тебя безумно? — от хриплого голоса Сокджин ломается, трескается, рассыпается, выдыхая вмиг, полностью расслабляя тело, чувствуя как боль притупляется. — Как мне высказать сколь ты глубоко в моём сердце? — и мужчина делает первый толчок. — Что мне сделать, чтобы привязать тебя к себе навсегда, навечно? — снова толчок, от которого содрогается юноша, и первый глухой стон болезненно срывается с губ. — Как мне показать силу моего чувства, моей страсти? Что ты в моей крови, в моём сердце? — и на каждом слове, что мужчина произносит с нажимом, изголовье бьётся о стену, а пальцы стонущего юноши сжимают плечи мужчины.
— Люби... просто люби... сейчас люби, — как в бреду выдыхает юноша, что ещё на грани боли и удовольствия, ногами оплетая бёдра мужчины, длинными ногтями раздирая кожу спины до красных борозд, не сдерживая себя в стонах.
Намджун целует его жадно, пальцами сжимая за волосы, и толкаясь глубоко, что аж самому плохо от силы страсти. Но что сдерживалось столько лет, прячась годами глубоко и от любимого, и от самого себя, то вырвалось наружу, срываясь с цепей воздержания, снимая маску смущения, разрывая путы сомнения — выходит на свободу абсолютная страсть, подчиняющая себе разум, заставляя двигаться в древнем, как мир, ритме сплетения двух тел, и более нет ничего вокруг.
Узкая кровать нещадно скрипела, а несчастное изголовье подозрительно покосилось, но эта постель казалась им самым мягким и прекрасным ложем на всей земле. Эта каморка, где Намджун жил мечтами о любимом, видела их полное воплощение, видела любовь, чувствовала страсть, что вибрацией струилась по жаркому воздуху, а стены впитывали в свои своды каждый вздох, стон, сладкий крик, полузадушенный шёпот, каждое слово о любви. Так где, если не здесь — в месте, ставшем для юноши обителью не только кошмаров и жестокости, но и местом, где зародилась его любовь, должна была воплотиться истинная страсть и расцвести волшебным цветком любовь? Его родной дом, прямо сейчас воплощающий в себе совсем другой смысл — место, где живёт их любовь!
Сокджин придавлен сильным телом мужчины, что лежит на нём, приходя в себя после невероятного оргазма, а сам юноша ещё чувствует тёплые волны эйфории по телу. Между ног до неприличия мокро и липко, а на животе и груди размазанные капли смешавшегося семени. Юноша тихо смеётся, слабо сотрясаясь телом, обнимая мужчину над собой крепко, тут же получая нежный поцелуй во влажный лоб.
— Мы с тобой такие грязные...
— Я люблю тебя, — шепчет мужчина, а Сокджин смеётся, ещё больше уткнувшись в плечо любимого, и понимание того, что он готов пережить сотню своих прежних жизней, ради одного этого момента, где он грязный, потный, обессиленный лежит в объятиях своего мужчины... ради этой одной единственной ночи, готов на всё.
*
Ещё два дня и две ночи они провели в крепости, где Сокджин тихо бродил по знакомым уголкам, оживавшим в его памяти тревожными воспоминаниями, но теперь всё было по-другому, ибо всё время Намджун был рядом, не оставляя ни на минуту наедине со страшными призраками прошлого. И всё шептал слова любви и признаний, обнимая крепко, целуя нежно, даря новые эмоции и чувства, оставляя совсем другие воспоминания для любимого.
Каждую ночь они прижимались друг к другу на узкой кровати мужчины, оставив пышное королевское ложе пустым. Каждое мгновение они наполняли своей любовью, что так умело скрывалось от других, и целовались до одури, беспомощно припадая лбами друг к другу. Свою бешеную страсть в постели Намджун компенсировал нежностью, становясь невероятно ласковым и заботливым после любовной схватки, целуя его и обнимая, как ребёночка, шепча о своей любви, пока измотанный Сокджин не засыпал у него на руках.
Слово «дом» для юноши теперь стало иметь совсем другой смысл — место, где есть любовь, обитель теплоты и ласки, где родной человек обнимет и подарит блаженство любви... место, где Намджун стал для него самым родным человеком.
Они покидали Казале такой же стройной человеческой рекой, какой пришли сюда, и, оглядываясь назад, Сокджин теперь улыбался, немного мечтая вернуться сюда с любимым, и быть семьёй... до конца его дней.
***
Такое странное чувство охватывает юношу, когда он ступает на борт корабля — дежавю — он здесь, и одновременно там, на другом судне. И он не один — рядом с ним Юнги: смотрит, улыбается, подшучивает над ним.
Чимин растерянно осматривается — Бэкхён сошёл вниз, прячась от пронизывающего холодного ветра; вокруг моряки — британский и французский говор вперемешку с нормандским диалектом, а юноша один, кутается в мех воротника зябко. «Не бойся, я всё время буду рядом» — голос звучит так, словно он действительно совсем рядом, и юноша делает первый несмелый шаг.
Вдоль борта щиты, канаты свисают с верхней реи, у руля несколько моряков и капитан. Все смотрят на прекрасного юношу, что бродит тихо по палубе, а он ни на кого не обращает внимания, словно он не здесь. «Хочешь раскрыть парус?» — словно продолжение безумия, а юный матрос у мачты смотрит удивлённо, когда Чимин с улыбкой обхватывает канат и тянет его вниз под зычную команду капитана. Чимин смеётся, думая, что наверное, выглядит как сумасшедший, но с тех пор как они выехали из Анжу, до самого Гавра, он места себе не находит. Ожидание бурлит в нём, не даёт спать, есть, сидеть спокойно, и это чувство, что Юнги ждёт его там, за Ла-Маншем, бегает мурашками по коже.
— Чимини, идём вниз. Здесь холодно, — Бэкхён бледный, и с синими губами, кутается в серый мех соболя, натягивая капюшон поглубже на голову. — Простудишься, замёрзнешь.
— Нет, ты иди, Бэки. Я... я должен кое-что сделать, — юноша застывшим взглядом смотрит на нос корабля, делая небольшой шаг в его сторону.
«Не бойся» — снова этот глубокий голос заставляет вздрогнуть юношу, а Бэкхён заметно напрягается.
— Чимин? — но друг остаётся проигнорированным, а протянутая рука, оставлена пустой.
Он всё же идет туда, медленно поднимаясь по лесенкам на верхнюю палубу, хоть ноги дрожат и руки, крепко цепляющиеся за борт, подрагивают.
Перед ним море пролива — тёмная вода без намёка на синеву, огромными гибкими пластами набегающими одна на другую, и разбивающимися о борт корабля. Чимин смотрит вниз — страшно ещё больше, чем перед грозой и молниями, а что его ждёт на самом носу — представить невозможно. Он снова слышит голос, что подначивает его, подшучивает над ним, над его страхом, намекая, что в его роду не было моряков, а сам он шепчет в ответ:
— Ох, не смейтесь надо мной, граф. Я Вам отомщу... — и на дрожащих ногах идёт вперёд.
Теперь нет выбора — нужно смотреть только вперёд, на это бушующее море, в этот туманный горизонт. Ветер натягивает парус, наполняя его холодным потоком. Чимин спиной чувствует его силу, что словно подталкивает его к самому форштевню, и он идёт, руками цепляясь за носовое украшение.
— Ох, чёрт! Ох, граф Мин Юнги! Ты только попадись мне снова... чёрт, страшно-то как!
Чимин дышит тяжело, губами глотая солёный воздух, чувствуя, как холод страха сменяется жаром невероятного щекочущего удовольствия, восторга, хоть ноги подкашиваются и руки дрожат. «Смелее. Я не отпущу тебя, не бойся»...
— Не отпускай, Юнги, — и юноша вытягивается во весь рост, поднимая голову, расправляя плечи, руки разводя в стороны. Он дышит загнанно и улыбается широко, с примесью страха, но всё же смеётся тихо. — Юнги, это невероятно! Мой бог, это потрясающе!
Все смотрят на странного юношу, что и плачет и смеётся, шепчет что-то тихо, словно блаженный, но так красив в своём невероятном восторге от расстилающегося перед ним бескрайнего моря. Он готов руками его обнимать, вдыхать его соль каждой клеточкой своего тела, смотреть до боли и слёз в голубых глазах на эту сизую темноту волн. И море словно само принимает его, всё выше поднимая волны к борту, касаясь солёной холодной влагой его сапог и полы плаща, порой окатывая брызгами руки и улыбающееся лицо. И даже нет сожаления, что любимого нет рядом — Юнги словно везде вокруг, словно море это и есть он — невероятное, волнующее, глубокое; словно глаза его чёрные смотрят глубинами моря, а руки его обнимают с ветром.
— «Ты не представляешь, как это волнительно бывает в море... Ты бы полюбил его так же, как и я люблю.»
— И я люблю, Юнги, очень люблю!..
*
Хёну бежал к ним словно они не виделись год, и бросился в объятия к Чимину будто в нём было его спасение. А у самого юноши ноги подкашиваются, когда он переступает порог замка — такое волнение на него накатывает и дрожь бьёт по телу. Но всё отступает, когда он видит маму Юнги — графиню Норфолк. Маленькая, тонкая, темноволосая женщина, с чуть заметными седыми прядками в роскошных волосах, и те же глаза, что и у сына. Чимин чуть не плачет, когда она обнимает его, говорит с ним тихо, тянет за руку в глубь зала, мягко усаживая в кресло, и смотрит... смотрит, словно на самого родного человека. Что почувствовало материнское сердце, увидев столь дивного юношу, и как она могла себе объяснить, что Чимин так близок её сыну? Вряд ли Чимин это поймёт, но он также потянулся к ней, смотря на неё своими лучистыми голубыми глазами.
— Я безгранично рада вам, мои дорогие, — женщина улыбалась обоим юношам, рассматривая их, подмечая все черты, все детали, радуясь им искренне. — И Хёну по вам очень скучал. Мой сын... был бы рад, узнай он, что вы здесь, — она говорит это обоим, но смотрит только на Чимина, у которого ресницы подрагивают от волнения.
— И мы Вам рады, тётушка. Я давно хотел навестить Вас, да всё случая не было. А тут Чимин загорелся желанием посетить поместье моего кузена... кхм, я просто не мог отказать, — Бэкхён улыбается, хитро посматривая на стремительно краснеющего друга.
— Правда? Юный граф так пожелал? Я очень рада, — и так тепло и благодарно смотрит на него. — Вам понравится здесь, вот увидите.
— Я... скучал по Хёну, — буквально выдыхает юноша, ловя детский восторженный взгляд, — и хотел увидеть море, и вотчину Норфолк. Граф Мин много рассказывал о них... я хотел увидеть их, — сбиваясь со слов умолкает юноша.
— Надеюсь, что Вы будете чувствовать себя как дома. Юнги... был бы счастлив этому, — и снова графиня смотрит взволнованными глазами на Чимина, разглядывая его прекрасное лицо. — Он бы хотел этого.
Чимина лихорадило от тех ощущений, что охватили его в доме любимого. Он одновременно не мог поднять глаза, и впивался взглядом во всё, что его окружало. После всех церемоний и приветствий их приглашают к великолепно накрытому столу, хоть у юноши кусок в горло не лез от волнения, а Бэкхён уплетал за двоих, чувствуя себя прекрасно вдали от раздражающей супруги. Но настоящее смятение накрыло Чимина, когда неожиданно приехали сёстры Юнги — две такие же маленькие, стройные девушки, чуть старше самого юноши. И скорее их визит был неожиданным даже для их матери, что, конечно, обрадовалась, но смотрела удивлённо.
— Нам сообщили, что в Норфолк пожаловали гости, — сообщает старшая, чуть ближе подходя к Чимину, рассматривая его с улыбкой, но немного настороженно. — Мы подумали, что невежливо не поприветствовать своего дорогого кузена и его прекрасного друга, — и теперь вовсе не скрываясь рассматривает Чимина, хоть оба знали из письма Бэкхёна в какой день они прибудут.
— И я вам рад, мои дорогие кузины, — искренне улыбается Бэкхён, целуя руки девушкам. — Надеюсь, вы окружите своим вниманием и заботой моего друга, графа Блуа.
— Я Юджина, — старшая протягивает руку Чимину, — а это Хелена, моя сестра.
Чимин кланяется им, поочерёдно прикладывая их протянутые руки ко лбу, шепча взволнованно, что очень рад. А потом случилось настоящее испытание для юноши — женщины, щебеча о чём-то несерьёзном, усадили юношу перед собой в кресло, и уселись также вокруг него, рассматривая во все глаза. И сам Чимин смотрит робко, чуть побледнев от волнения, замечая как же они похожи — три родные друг другу женщины. Но главное — у них глаза как у Юнги, та же чёрная бездна, тот же разрез, тот же насмешливый прищур, особенно у Юджины, что более всех походила на брата. Они смотрели внимательно, подмечая каждую деталь фигуры и лица юноши, находя его несомненно самым красивым из всех кого они видели. В их глазах не было холодности, отчуждения или настороженности. Их взгляды были открыты и выражали лишь искренний интерес и тепло.
— Мы Вам очень рады, граф, — как-то странно выдохнула Юджина, вновь умолкнув с улыбкой на губах.
— Я тоже рад... вам... очень, — выдавил из себя Чимин, сжимая подлокотники кресла, и думая, куда запропастился Бэкхён.
— Думаю, Вас нужно проводить в покои, — тихо говорит младшая из сестёр, — отдохнёте с долгой дороги.
— Я не устал, — быстро выпаливает юноша, — мы были в море лишь пару часов, но буду благодарен Вам.
И снова гляделки между ними, словно три пары чёрных глаз не могли наглядеться на него. У юноши было ощущение, что они о многом хотят его спросить, но что-то сдерживало их. И всё же первой не выдержала старшая из сестёр.
*
Юджина пришла к нему в комнату, тихо постучавшись и прошмыгнув немного неуверенно в дверь.
— Простите меня, Чимин, — улыбается она робко. — Могу я Вас так называть?
— Конечно, графиня, как пожелаете. Вы что-то хотели?
Девушка замирает в нерешительности, но лишь на мгновение, а после подходит к юноше, обхватывая его за руку, удивляя его немало.
— Чимин, Вам, наверное, показалось слишком пристальным наше внимание к Вам? — осторожно начинает она, смотря в его голубые глаза, на что Чимин улыбается робко.
— Есть немного, — соглашается он, выдыхая с улыбкой.
— Вам не показалось, — и юноша смотрит ещё удивлённее. — Просто... мы знаем, кто Вы.
Удивлённо изогнутая идеальная бровь Чимина заставляет девушку натянуто улыбнуться.
— Кто я?..
— Тот, ради кого мой брат пересекает море и чужую страну с надеждой хоть раз увидеть.
Чимин охает изумлённо, сам крепче обхватывая руку Юджины.
— Простите меня, Чимин... простите нас, но мы просто не можем поверить, что Вы захотели... приехать сюда. И теряемся в догадках, что сподвигло Вас приехать в Норфолк. И одно только Ваше слово, что не ради праздного веселья, а потому что... сердце Вас сюда позвало...
Чимин вскрикивает тихо, ладонями накрывая свои пылающие щёки, чуть отходя от девушки, что ещё больше взволнована.
— Чимин? Может всё это неизвестно Вам, а я лишь вижу то, что хотело бы моё сердце?
Чимин теряется окончательно — Юнги рассказывал о нём своей семье? Своей матушке, сёстрам? Одна только эта мысль бросает его в жар, заставляя прятать увлажнившиеся глаза.
— Граф Мин... говорил обо мне... с Вами?
— Да. Каждый раз, когда возвращался из Анжу, — Юджина поспешно подходит к юноше, снова беря за руку. — Простите меня, но это выше моих сил. Столько лет... столько мучений и безнадёжных мечтаний. Умоляю Вас, скажите только одно — Вы знаете о чувствах моего брата к Вам?
— Да, — еле выговаривает Чимин, не смея вздохнуть, а Юджина выдыхает ощутимо облегчённо.
— И то, что Вы здесь... это ведь...
— Я невероятно хотел увидеть его дом, — к чему скрывать свои чувства, что и так полностью завладели им, его сердцем, его помыслами. Сумасшествие продолжалось, Чимин не мог спрятаться от своей невысказанной любви, показывая её в своих слезах. Ему стыдно плакать перед девушкой, которую знает лишь несколько часов, но он плачет перед той, кто так похож на него, на Юнги. — Простите меня, — пытается улыбаться сквозь слёзы юноша.
— Вам незачем просить прощения, Чимин. Это Вы простите меня, что расстроила Вас.
— С того дня, как Юнги... граф Мин выбрал меня «господином своего сердца», весь мир вокруг меня словно сошёл с ума, и я заодно с ним. И я не могу это прекратить, и что делать я тоже не знаю. Он ушёл... так внезапно. Я... я не успел, сказать... А сейчас, наверное, ему этого и не нужно уже.
— Не говорите так. Я могу не знать всего, но чувствую своего брата сильнее всех. Он любит Вас безумно.
Чимин начинает нервно смеяться сквозь слёзы, а Юджина сажает его мягким нажимом на край постели, присаживаясь рядом с ним.
— Что... что он говорил обо мне? — юноша утирает слёзы, коротко бросая взгляды на девушку.
— Всё! Он рассказывал всё о Вас: как Вы изменились с прошлой встречи, как отросли Ваши чудесные волосы или наоборот — подстригли их, какая серёжка сверкала у Вас в ушке, — Чимин нервно смеётся и снова плачет, а Юджина обнимает его, продолжая мягко, — Юнги говорил не умолкая. Чувства разрывали его. Он бы никогда не признался, если бы я не стала замечать его подавленности, и в то же время невероятной одухотворённости, то как он рвался в Анжу, до дрожи в руках тоскуя о ком-то. Он говорил о Вас с невероятной нежностью и не мог выразить словами всю Вашу красоту, часами описывая глаза, ресницы, губы, пальчики, всего Вас. Даже ни разу не видя, я тоже полюбила Вас, Чимин. Вас просто невозможно не любить.
— Я делал ему больно, — Чимин возводит глаза к потолку, пытаясь удержать слёзы, но куда там — всё равно льются. — Я страшился его больше чёрта, ненавидел за то, чего он не совершал, проклинал за его греховную любовь. Я мучал его! Верно я наказан за это, ибо сам мучаюсь невысказанными чувствами! И теперь я здесь, в призрачных надеждах, хоть сам не знаю чего я жду.
— Это его дом, Чимин. В каждом уголке, в каждой вещице, везде и всюду — он здесь. Норфолк — это и есть мой брат. Он словно будет смотреть на Вас отовсюду. Теперь это и Ваш дом.
Юноша смотрит огромными, сияющими от слёз глазами, что от невероятного волнения словно затянулись дымкой серой пелены, не в силах вымолвить и слова.
— Комната, что рядом с Вашей — это комната моего брата, — зачем-то говорит Юджина, смотря ему прямо в глаза, и мягко обняв юношу, уходит, пожелав ему добрых снов.
Чимин совсем потерян, и пролитые слёзы оставили его без сил. Он падает на широкую постель, раскинув руки, шмыгая носом от проходящих слёз, и вдыхает глубоко. В эту ночь он точно не уснёт — столько эмоций он не переживал со дня турнира. Юноша до сих пор чувствует качку волн под ногами и ветер сурового моря, но это не сравнится с тем, что происходит сейчас в его сердце. Казалось, в самом воздухе Норфолка ощущается присутствие мужчины, и Чимин не мог им надышаться.
Он медленно разделся и встал перед широкой пышной постелью в нерешительности, а затем берёт зажжённую свечу и выходит из комнаты.
В спальне Юнги пылает камин и одинокая свеча мерцает на круглом столе посередине комнаты. Чимин не спешит, медленно обходя комнату, смотря всё такими же влажными от слёз глазами на вещи, аккуратно разложенные на столе. Юнги чувствуется во всём: в тяжёлом древесном аромате с лёгкой примесью корабельного лака; в холодной стали кинжалов и мечей, развешанных на одной из стен; в рукописных книгах и свитках на столе; в полураскрытых картах, хрустальной чернильнице с пером, коротких чётках из чёрного агата... везде. Чимин проводит подрагивающими пальцами невесомо, едва касаясь поверхности, чувствуя теплоту, исходящую от них. Он ставит догорающую свечу на стол и встаёт перед постелью мужчины. Секунды сомнений, и всё же юноша ныряет под холодное покрывало, зарываясь с головой в пуховое одеяло. Он замер от страха, что решился на такое — что не просто приехал в его дом, а спрятался в его комнате, лежит на его постели. Кровать широкая, явно для двоих. На мгновение промелькнула мысль, что здесь когда-то лежала покойная супруга графа, но юноша тут же её отринул, сильнее утыкаясь лицом в подушку, обхватывая её крепко, словно обнимает самого мужчину.
Тишина плывёт по комнате, лишь поленья тихо потрескивают в камине, и юноше сейчас очень хорошо от ощущения полного покоя и спокойствия. Если бы Юнги лежал сейчас рядом и обнимал бы крепко, если бы он мог высказать ему всё, о чём думает все эти дни, сказать то, что чувствует...
— Юнги... — имя мужчины вырвалось само собой, а Чимин вздрагивает, кутаясь сильнее. — Я... пришёл к тебе, и пошёл бы ещё дальше, если бы знал, что нужен тебе... там, где ты сейчас. Прошёл бы по земле, проплыл бы по морю, полетел бы, если бы мог. Только бы сказать тебе, что тоскую и очень жду, что люблю... Я люблю тебя, Юнги.
Нет, он не плакал, и не хотел проливать слёзы на постели любимого, лишь зажмурился крепко, выдыхая как-то облегчённо, и в этот момент юноше показалось, что он всё сможет, всё выдержит, ради этого — любить и ждать.
*
Время в Норфолке пролетало стремительно, и Чимин просто утопал в гостеприимстве маленьких хозяек большого замка. Юноша был окружён невероятной заботой и вниманием, и сам он отвечал им искренностью и душевной теплотой. Хёну не отлипал от него, проводя с ним большую часть времени в прогулках по поместью, по самому замку. Бэкхён дышал полной грудью и улыбался мягко, от осознания, что этот замок был пристанищем и для его любимого, находя здесь, в его комнате, родные сердцу вещи Чанёля. Оба юноши чувствовали себя в Норфолке лучше, чем где-либо.
За поместьем был пролесок, через который вела небольшая тропа прямо к каменистому обрыву в море. Это место стало излюбленным для Чимина, чувствуя здесь себя словно наедине с Юнги. Он подолгу смотрел на бушующее холодное море, и даже зимняя стужа не страшила его. Хёну приходил с ним несколько раз, не особо тревожа юношу в своих раздумьях перед бушующей стихией. Но однажды мальчик всё же спросил:
— Вы ждёте моего папу, Чимин?
— Да, — не скрывал юноша, прямо смотря в глаза мальчику, — очень жду.
— И он Вас ждал тоже, — шепчет Хёну, так же смотря на Чимина, видя в его голубых глазах теплоту и любовь, — очень.
Снова дни потянулись чередой, наполненные неспешной суетой и весельем. Чимин больше времени проводил в комнате графа, почти уже и не скрываясь ни от кого, и каждую ночь утопал на мягкой постели мужчины, осторожно выскальзывая из комнаты по утрам.
Они провели рождественское утро в семейной часовне, где священник читал праздничное богослужение в честь великой радости — рождения сына Божьего Иисуса Христа. И столь символичным стало для юноши, что этот по сути семейный праздник он проводит в Норфолке в кругу тех, что сейчас были чуть ли не роднее отца с матерью.
На праздничном ужине Чимин застыл взглядом на пустующем месте хозяина замка, что всё это время оставалось незанятым, словно Юнги должен был вот-вот вернуться, и опомнился только когда его руки мягко коснулась рука Юджины, сидевшей рядом.
— Настанет день, когда вы оба будете сидеть здесь рука об руку, — шепчет она тихо юноше. — И это будет самый счастливый день для нас, Чимин.
В ту ночь юноша плохо спал, всё ворочался на постели — думы о Юнги стали слишком навязчивы, и непонятное возбуждение сжигало изнутри. Беспокойный сон был о мужчине, что был то близко, то далеко, шептал что-то, и кричал издали, и не дотянуться до него, ни коснуться. Чимин проснулся разбитым, в странном смятении, сжимая тревожно пальцы.
Утром, едва одевшись к завтраку, к нему в комнату ворвался Бэкхён, у которого глаза горели диким пламенем и руки тряслись, сжимая в пальцах письмо.
— Чимин! Родной мой, я свободен! Я свободен, Чимин! — герцог кричал так, что слуги испуганно переглядывались меж собой.
— Бэк? — Чимин не знал, пугаться ему этой новости или радоваться.
— Мой бог, я не выдержу этого. Моя супруга прислала письмо — Адель Шампанская беременна! Супруга Луи беременна! У короля будет ребёнок! Я свободен, Чимин. Наследник престола — законнорожденный сын Людовика VII, а не герцог Анжуйский!
— Бэ-эк?! — казалось Чимин позабыл другие слова.
— Господь всё же не оставил меня, позволил мне всё исправить. Это знак судьбы, Чимин! А теперь... я задам тебе один вопрос, и я жду твоего ответа больше, чем Божье благословение. Ты готов отплыть со мной на корабле, дабы пойти вслед за пилигримами и вернуть наших возлюбленных?
— Что? Разве такое возможно?
— Возможно! Я всё продумал. Мы сможем отплыть через месяц из Марселя. Через Балеарское море выйдем к Адриатике, и отправимся прямо в Константинополь. Мы их будем ждать там, Чимин. Крестоносцы не пройдут мимо столицы Византии, и мы обязательно встретим их там!
— Бэки, это очень рискованно. Мы не можем знать наверняка...
— Да. Рискованно. Но если есть хоть один шанс, что я найду Чанёля, то я пойду на это не раздумывая. Ты со мной, Чимин?
Юноша затих с бешено бьющимся сердцем. Что он может ответить? Как принять столь судьбоносное решение? Сможет ли он не испугаться, вынести опасное путешествие? Он бегает глазами по комнате, цепляясь за вещи в ней, словно они могут дать ответ. И вдруг голос в его голове звучит так явственно: «Настанет день, и ты всех удивишь своей смелостью, возможно, приняв... решение, что изменит твою жизнь. И твоя решимость поразит многих, в том числе, и тебя самого.»
— О, Юнги, чёрт бы тебя побрал. Всё ты знаешь, Чёрный рыцарь. И меня тоже знаешь лучше, чем я сам себя, — тихо шепчет юноша про себя, а после разворачивается к другу, смотря ему прямо в глаза. — Да. Я поеду с тобой, Бэк, и верну Юнги, чтобы больше не отпускать его никогда!
Они не знали, на что идут, что им предстоит вынести, но любовь толкала их на это безумство.
*
Февральское солнце слепило глаза и ветер трепал волосы, когда Чимин с дрожащими коленями поднялся на борт корабля. Парус, скрипя мачтой, натягивается, чтобы унести его всё дальше и дальше от берега. Позади Анжу, взволнованные родители, обеспокоенные родные, и десятки дней сомнений и тревог. А теперь возврата нет — только вперёд, к нему, к Юнги.
Чимин смотрит через борт на второй корабль, где находился Бэкхён, и машет ему чуть боязливо, крепко хватаясь за канат, а после, смотрит на расстилающееся перед ним синее море, молясь чтобы Господь помог преодолеть его, и добраться живым до любимого. Всё же юноша выдыхает, вновь вставая крепкими ногами на палубу, и решительно шепчет:
— Я иду к тебе, Юнги.