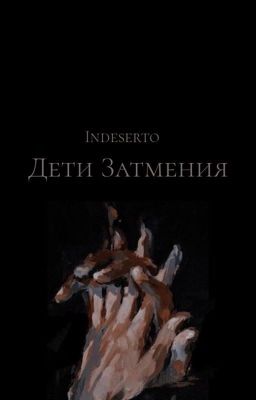VIII
— Мда, так меня давно не унижали, — Рангвиндр сметает свои фигуры с доски и хмуро косится на оппонента, — полтора часа партии, мат в два хода.
— Лиза в шахматах настоящий монстр, — Кэйа смакует победу в бокале вина, — и у неё много свободного времени.
— У тебя, стало быть, тоже.
— Это что — ревность?
— Это что — флирт?
— Спасибо, что заметил.
Раньше бы Дилюк неприятно скривился, выпуская колючки — непорочность воплоти. Но время меняет каждого, судя по безмятежному выражению лица напротив.
Восхитительно.
Конечно, не стоит исключать, что они слегка захмелевшие. Камин греет два одиночества и мягким пламенем освещает силуэты в густой тьме. Винокурня давно спит, оставив непутёвых господ самим себе на усмотрение.
Стрелки ушли далеко за полночь, партия отыграна, бутылка вина распита, но они продолжают сидеть друг напротив друга и внимательно изучать каждую черту лица, будто впервые встретившись. Говорят о всякой ерунде. Иногда слова, впрочем, долетают, но смысл их постоянно ускользает от понимания.
И Кэйа хочет позволить себе немного побыть несдержанным, потому что рядом с Дилюком просыпается его давно убитый ребёнок, которого смогла воскресить безусловная любовь маленькой семьи Рангвиндров. Дилюк рос в теплоте, заполняя счастьем их ныне проданное поместье настолько ярко, что Кэйа пугался первое время. Тот самый период жизни, который в один момент потерялся во времени, когда краски ярче и чище, люди проще и добрее, и сам себя ещё не умеешь обманывать. Детство, как правило, заканчивается, когда приходит тот самый тёмный час осмысления. И Кэйе посчастливилось застать его рано.
Он помнит сказки на ночь, походы на подлёдную рыбалку, драки, заканчивающиеся одними слезами; помнит, как в первый раз взял перо в руку и написал три слова на родном языке — конечно, с ошибками, — отцу; помнит фантомную боль из-за содранных коленей. Но в воспоминаниях это невольно омрачалось чем-то тяжёлым. А время тут, в Мондштатде, было легким, относительно беззаботностным. Людям здесь он был нужен как Кэйа — просто Кэйа без фамильных обязывающих приставок. Потерянное дитя, без возможности отдать что-то взамен.
Дилюк смотрит в приоткрытое окно, выискивая что-то в усыпанном звёздами небе, прислонив пустой бокал к щеке, а Кэйа продолжает нежиться в кресле, закинув на него ноги и сцепив пальцы между колен.
— Там твоё созвездие, — хрипло говорит Дилюк и улыбается.
— Ты его намеренно искал? — немного удивленно в ответ.
— Конечно нет.
— С моего места ничего не видать, — Кэйа хитро прищуривает глаз, — хочешь, чтобы я подошел?
Мужчина отнимает бокал от щеки, замирая. Так очевидно теряется.
— Да?
Кэйа вмиг загорается идеей, привстает с насиженного места, не сменяя улыбку раскосую, ехидную. Задумал что-то.
— Не пойду, — ребёнком задирает нос и падает обратно на кресло, — так разморило.
Дилюку забавно с его игры, но он находит силы отвернуться обратно к окну. Хочет подыграть, но не понимает как. Обычно речь его — прекрасный навык на поле боя, где нельзя достать клеймор, но чудо, что стреляет взглядом напротив, впервые позволяет выйти из этого самого поля. Ненавязчиво, мягко, по-юному подталкивает к иному — нет, давно забытому — восприятию друг друга. А ночь... Ночь ехидна и коварна, опускает свою отличительную завесу защищённой сокровенности.
— Я никогда не хотел наблюдать за ним, — тянет внезапно откровенно Кэйа, но они оба, как только в винокурне погасили свечи, были готовы, — кроме одного раза.
— Правда? Какого раза?
— Когда мне его показали впервые. Нам. Помнишь?
Дилюк помнит смутно, как в их первый год отец пригласил в поместье астролога. Седая голова, ворчание, пронзительный взгляд белёсых глаз — всё, что настроило против, вызвало страх, но такой мимолетный по сравнению с восторгом нетипичным для того, кто рожден под звёздами. Небо — кладезь судеб.
«Павлинье перо. Большое созвездие. Красивая жизнь, благородная. Властная. Не вкусив яда, дарует покой там, где смерти давно хозяйствовать надо.»
«Павлинье перо — символ величия, мира, знаний.»
«Нелёгкая судьба у мальчишки. Коль успеет опериться... коль успеет...»
Непослушное сердце замирает, возвращает из прошлого. Над камином висит портрет. Крепус блеклыми масляными красками приобнимает свою жену. Навеки застывшее счастье и тихие чувства. Ужасно легко не обращать на то, что действительно важно днем, а вот ночью — совсем другое дело.
— Старуха жуткая была, — Кэйа забавно морщит нос, — надеюсь, она в добром здравии. Я ведь так обрадовался. Я есть на небе Тейвата, оно приняло меня. А потом накрыло осознание, что, бездна дери, я есть на небе Тейвата.
— Не до конца понимаю, — Дилюк осторожничает, чтобы не спугнуть. Вот они, на ладони, скрытые под всеми замками переживания. И то, о чем они обязаны были разговаривать, но получилось только недавно.
— Мне стало сложно и страшно, и по-злому весело. Сначала подумал — грешники пять веков назад рвали это небо; а потом — а какого, собственно, я переношу их ответственность на себя; а потом вспоминаю, что на моем горбу, и, как ни крути, кажусь свиньей неблагодарной. Для всех.
— А для себя?
Кэйа пожимает плечами.
— Когда-нибудь ты думал о себе?
«Непозволительная роскошь» — хочет фыркнуть в ответ. Но выходит:
— О, нет, мастер, мы ведь так хорошо сидели...
— Послушай, — алые глаза загораются осознанием и жалостью, — так ведь нельзя, ты должен...
— Что? — резко обрубает, почти враждебно. Дилюк застывает с протянутой рукой. Совсем близко, и коснулась бы, — должен думать о себе в первую очередь, как ты?
Иней в голосе полоснул по груди. Мастер никогда прежде так быстро не трезвел. Спугнул. Пальцы дрожат, но только пару секунд, очевидно признавая горечь. Его словно окатили холодной водой.
Так было всегда. Дилюк был самый первый среди учеников, среди рыцарей, среди девушек; на званных ужинах, на ужинах в семейном кругу; самый сильный, храбрый, самый обаятельный, благородный. И самый правильный. Все кругом подкрепляло эту истину. У него было время подумать про себя, он никогда не переставал.
Кэйа с лёгкостью считывает чужое смятение и улыбается, вопреки напустившему морозу. Улыбка — не привычный оскал, улыбка грустная, долгие месяцы разочарований несёт в себе.
— Хочешь — берёшь ответственность, не хочешь — исчезаешь. Игнорируешь годами, а потом изображаешь волнение и сопричастность. Всё для собственного комфорта, похвально.
— Я не... я ничего не изображаю.
— Ну, да, — Кэйа хлопает. Громко, ломая, приходя в себя. И так неправильно смотрит, нацепив всё то будничное, с чем приходит тлеть ежедневно в таверну, — а теперь поговорим о важном.
Дилюк теряет лицо. Ярость и протест, щемят сердце, и нечто неведомое сдерживает от того, чтобы встряхнуть вновь ровные плечи. Обрушиться ударной волной, стрясти оскорбляющий цинизм, этот показной расчёт, будто бы Кэйа специально создавал с ним хрупкий уют, вытерпев часы уединения. Эгоистично вломить в челюсть, чтобы вернуть его прежнего, который делил ровно половину в стенах не только этого поместья, но и другого, проданного, и в казарме, палатке под сияние звёзд. Общую жизнь, свободу и отвественность, слезы, радость — и так до бесконечности.
Он выжидает, сжав зубы, пока его не отпустит волна гнева...
— Я знаю, что тебе уже известно о возвращении Магистра.
...но видит Барбатос, Кэйа этому не способствует.
— Поделюсь маленькой тайной, раз у нас назрел интим, но ему внезапно стали нелестны мои обязанности, так что будь по приезде готов к щепетильным вопросам. Ах да, и фатуи...
— Альберих, заткнись, — и в первый раз это звучит тихо. Дилюк раздраженно трет глаза под стрекотания о склоках Предвестников, побеге и о чём-то несущественном сейчас, — да, блядь, ты можешь замолчать!
— Попрошу не выражаться перед портретом Крепуса, мне кажется, он начинает неодобрительно поглядывать.
Дилюк пускает смех на грани истерики.
Как же руки чешутся ему запечатать рот.
— Отверни его, я ещё не всё выразил.
— С ума сойти командир! Ты ругаешься, вот ты и отворачивай. И вообще, я не позволял повышать на себя голос, и...
Не выслушав, мужчина, перетянувшись через разделяющий столик, грубо хватает воротник рубашки. Сквозь ураган неконтролируемых эмоций рвутся швы.
Слова позорно застревают, когда его нападок без сопротивления встречают, нагло ухмыльнувшись в лицо. Ожидая, подводя к этому играючи.
— Бей, только не в правый глаз.
— Я даю тебе ровно десять минут, чтобы ты поднялся в комнату, пришёл, нахуй, обратно в себя, и мы поговорим.
— Слышишь? — Кэйа кивает в сторону, в который раз вызволяет внутренний порыв к насилию, — отец говорит, что тебе нужно срочно вымыть рот с порошком. Так, на чём мы остановились?
— Альберих.
Холодные ладони обжигающие оплетают те, что вероломно сжимают несчастную ткань, и расцепляют. Кэйа, поправив растянувшийся ворот, встает бодро с кресла, но его обратно хватают за запястье и тянут на себя. Сохранить равновесие стоит немалых сил — крепкий, физически сильный человек, но от выпитого алкоголя и каминного тепла координация страдает.
Нависнув над раскалённой фурией — Дилюка по иному обозвать не получается, — Кэйа с силой сжимает подлокотники, вопреки напускной безмятежности.
— Это ты приди в себя. Что за драму ты сейчас пытаешься устроить? Сходи проветриться. Проверь виноградники, пересчитай бочки, поджарь задницы чурлов, или что там богатых дядек успокаивает?
Алые глаза наконец проясняются от вкрадчивого шёпота.
Потому что незаплонировано стало близко — дыхание в дыхание.
— Я повторюсь ещё раз, — Кэйа позволяет себе нарушить границы, но, ради справедливости, не он первый начал. Прислоняется аккурат к уху, жадно вздохнув — мускат, дерево, вино, — итак, Варка.
Ни в одном из сценариев этого вечера Дилюк не выйдет победителем. Не сможет взять верх словесно, ибо задеть его темперамент так же легко, как вывести пятилетнего ребёнка на слёзы. В его власти грубая сила, плакала аристократическая выправка и десятки гувернанток в детстве. И мнит себя хозяином положения, потому что пригласил на свою территорию и думал, что будет по его правилам. Разбрасывается советами как жить, будто подаёт хороший пример. До дрожи бесит его эгоизм — как и прежде внушает, чтобы разделяли взгляды так, как ему бы хотелось. Да Кэйа первый в очереди на то, чтобы подумать, наконец, о себе. Не о пропавшем брате; не о делах винокурни, гори она синим пламенем, из-за которой он загинался на пару с Эльзером, решая вопросы с подрядчиками со всего Тейвата; не о государственной службе и доверительном отношении Джинн; не о том, чтобы утром отвести Кли на занятия — бедный брошенный ребёнок; не о Альбедо, отце, своих и чужих заговорах. Так бы и разморила мондштадская праздность.
А Дилюку просто удобно хотеть вернуться обратно. Кэйа опомнился, будто получил хлёсткую пощёчину. Как не заметить его порывы заботы, его неумелые шаги в сторону перемирия. Вот только Кэйа не согласен. Они перестали быть братьями. Сводными по документам и названными по детской клятве на крови. Поэтому тошнота поднимается к горлу — ничего прежнего ему не надо.
Кэйе двадцать четыре, и у него седая прядь волос. Настоящее насилие не в кулаках, горящем мече у горла, встряхивание за шиворот. Насилие — подписаться на то близкое, что было, и сгорать в мучениях дотронуться так, как по-настоящему желает.
В общем, да. Рангвиндру не выйти сегодня победителем.
— Аделинда, прости, что разбудили.
Кэйа вздрагивает, моментально сбавляя напряжение в руках. Он воровато следит за взглядом Дилюка и оборачивается.
Но никого не видит. Не слышит постороннего. Винокурня ведь по прежнему спит?
В недоумении возвращает в мыслях ход речи, но самостоятельно приблизиться ему больше не дают.
Хватка на скуле резко притягивает, чтобы грубо накрыть губы в поцелуе.