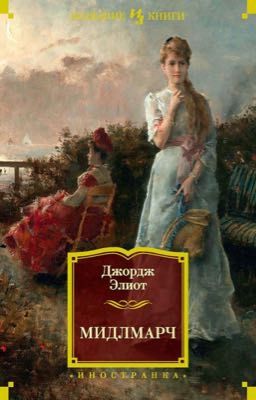«Мидлмарч» Джордж Элиот. Главы 70-79
70
Из-за деяний собственных, поверь,
Мы стали тем, чем стали мы теперь.
Едва Лидгейт покинул Стоун-Корт, Булстрод обследовал карманы Рафлса,
где рассчитывал найти улики в виде гостиничных счетов, полученных в
различных городах и деревнях, если гость солгал, утверждая, будто приехал
прямо из Ливерпуля. Бумажник Рафлса был битком набит счетами, но, начиная
с рождества, все они были написаны в Ливерпуле, кроме одного, помеченного
нынешним числом. Счет этот, найденный в заднем кармане, был скомкан вместе
с объявлением о конной ярмарке в Билкли, городке, расположенном милях в
сорока от Мидлмарча. Судя по счету, Рафлс прожил в местной гостинице три
дня и не скупился на расходы, а поскольку при Рафлсе не имелось багажа, он
скорее всего оставил свой чемодан в гостинице в счет долга, чтобы
сэкономить деньги на проезд; к тому же и кошелек его оказался пустым, а в
карманах сыскалось лишь два шестипенсовика и несколько пенни.
Булстрод немного успокоился, убедившись, что Рафлс после памятного
рождественского визита и впрямь держался на почтительном расстоянии от
Мидлмарча. В том, чтобы пересказывать старинные сплетни о мидлмарчском
банкире людям, которые о нем и слыхом не слыхали, Рафлсу не было ни
удовольствия, ни чести. Впрочем, беды не будет, даже если он их
пересказал. Самое главное - не выпускать его из поля зрения до тех пор,
пока остается опасность, что в новом приступе безумия он еще раз вздумает
повторить историю, рассказанную Кэлебу Гарту; Булстрод особенно опасался,
как бы этот приступ не случился при Лидгейте. Сославшись на бессонницу и
на тревогу за больного, он провел у его постели всю ночь, а экономке велел
спать не раздеваясь, чтобы быть готовой, когда он ее позовет. Он
добросовестно выполнял распоряжения врача, хотя Рафлс то и дело требовал
коньяку, заявляя, что он проваливается, что под ним проваливается земля.
Больной не спал всю ночь и очень беспокойно вел себя, но оставался робким
и послушным. После того как ему принесли прописанную Лидгейтом еду, к
которой он не прикоснулся, и отказались принести напиток, которого он
требовал, он с ужасом воззрился на Булстрода и стал молить его не
гневаться, не обрекать его на голодную смерть и страшными клятвами клялся,
что не сказал никому ни слова. По мнению Булстрода, даже это утверждение
незачем было слушать Лидгейту; еще более опасная перемена в состоянии
больного случилась на рассвете когда Рафлс, внезапно вообразив, будто
доктор уже здесь начал жаловаться ему на Булстрода, который хочет уморить
его голодной смертью за то, что он проговорился, в то время как он, Рафлс,
никому не сказал ни слова.
Булстроду пришли сейчас на помощь его прирожденная целеустремленность и
властность. Этот хрупкий на вид человек, взволнованный и потрясенный не
менее Рафлса обрел в критических обстоятельствах силы и в течение ночи и
утра, каждым движением и самим обликом своим напоминая лишенный жизненного
тепла одушевленный труп, напряженно обдумывал, чего ему следует
остерегаться и каким образом обрести безопасность. Несмотря на молитвы
которые он возносил, несмотря на мысленные соболезнования жалкому,
нераскаянному грешнику и мысленную же готовность претерпеть наказание
свыше, но не пожелать зла ближнему - несмотря на все эти попытки
претворить слова в умонастроение, в его воображении все настойчивее и ярче
вырисовывался желанный исход событий. И желание, обретя форму, казалось
извинительным. Он не мог не думать о смерти Рафлса, а в ней не мог не
видеть своего избавления. Что особенного случится, если это жалкое
создание перестанет существовать? Рафлс не раскаялся. Но ведь сидящие в
тюрьмах преступники тоже не каются, тем не менее закон выносит им
приговор. Если провидение вынесло Рафлсу смертный приговор, то никакого
греха нет в том, чтобы считать его смерть желанным исходом... надо только
самому не ускорять его, добросовестно выполнять все врачебные предписания.
Но даже и в этом возможен просчет - сделанные человеком предписания бывают
иногда ошибочными. Лидгейт говорил, какое-то лечение ускоряет смерть... не
случится ли того же с его собственной методой? Хотя, разумеется, самое
главное - руководствоваться добрыми намерениями.
И Булстрод решил не подменять намерение желанием. Его намерение,
мысленно заявил он, состоит в том, чтобы повиноваться предписаниям. Отчего
он усомнился в их целесообразности? Это пустилось на обычные свои уловки
желание, всегда готовое использовать себе на благо скептицизм,
неуверенность в результатах, любую неясность, которую можно истолковать
как беззаконие. Несмотря на все это, он выполнял предписания.
Ему невольно то и дело вспоминался Лидгейт, и состоявшийся у них
накануне утром разговор вызвал теперь у банкира чувства, каких и в помине
не было во время разговора. Тогда его мало тревожили огорчение Лидгейта
из-за перемен, готовящихся в больнице, а также его обида на вполне
оправданный, по мнению Булстрода, отказ в неуместной просьбе. Оживляя в
памяти этот разговор, он испугался, не нажил ли себе в Лидгейте врага, и
ему захотелось его смягчить, а точнее, оказать обязывающую к благодарности
услугу. Он пожалел, что сразу же не согласился дать доктору в долг эту
показавшуюся ему непомерной сумму. Ибо если, слушая бред Рафлса, доктор
заподозрит что-нибудь неладное или даже узнает наверное, Булстрод
чувствовал бы себя спокойней, зная, что тот многим ему обязан. Но
сожаление, быть может, пришло слишком поздно.
Странная, достойная жалости борьба происходила в душе этого несчастного
человека, долгие годы мечтавшего быть лучше, нежели он есть, усмирившего
свои себялюбивые страсти и облекшего их в строгие одежды, так что они
сопутствовали ему, словно благочестивый хор, до нынешнего дня, когда,
объятые ужасом, прекратили петь псалмы и жалобно возопили о помощи.
Лидгейт приехал только после полудня - он объяснил, что его задержали.
Булстрод заметил, что доктор очень расстроен. Впрочем, Лидгейт тотчас
занялся больным и стал подробно расспрашивать обо всем происходившем в его
отсутствие. В состоянии Рафлса заметно было ухудшение, он почти не
прикасался к еде, ни единой минуты не спал, был беспокоен, бредил, но пока
не буйствовал. Вопреки опасениям Булстрода, он не обратил внимания на
доктора и бормотал себе под нос нечто несвязное.
- Как вы его находите? - спросил Булстрод, оставшись с доктором
наедине.
- Ему хуже.
- Сегодня вы меньше, чем вчера, надеетесь на благоприятный исход?
- Нет, я все же думаю, что он может выкарабкаться. Вы сами будете
ухаживать за ним? - спросил Лидгейт, вскинув взгляд на Булстрода и смутив
его этим внезапным вопросом, который, впрочем, задал вовсе не потому, что
заподозрил неладное.
- Я полагаю, да, - ответил Булстрод, тщательно взвешивая каждое слово.
- Миссис Булстрод уведомлена о причинах, которые задерживают меня здесь. В
то же время миссис Эйбл с мужем недостаточно опытны, так что я не Могу
полностью на них положиться. Кроме того, я не считаю себя вправе возлагать
на этих людей подобную ответственность. Вы, я думаю, захотите дать мне
новые распоряжения.
Самым главным из новых распоряжений оказалось предписание давать
больному весьма умеренные дозы опия, если бессонница продлится еще
несколько часов. Опий доктор предусмотрительно привез с собой и подробно
рассказал, какой величины должны быть дозы и после скольких приемов
лечение следует прервать. Он особенно подчеркнул, что давать опий без
перерыва опасно, и повторил свой запрет насчет алкоголя.
- Насколько я могу судить, - заключил он, - главную угрозу для больного
представляют возбуждающие средства. Он может выжить, даже находясь на
голодной диете. У него еще немало сил.
- По-моему, вы сами нездоровы, мистер Лидгейт. Я весьма редко...
вернее, в первый раз вижу вас в подобном состоянии, - сказал Булстрод,
выказывая не свойственную ему еще совсем недавно заботливость по отношению
к доктору и столь же мало ему свойственное равнодушие к собственному
здоровью. - Боюсь, вас что-то встревожило.
- Да, - сухо отозвался Лидгейт, взяв шляпу и собираясь уходить.
- Боюсь, у вас возникли новые неприятности, - продолжал допытываться
Булстрод. - Садитесь же, прошу.
- Нет, благодарствуйте, - надменно отказался Лидгейт. - В нашем
вчерашнем разговоре я упомянул о состоянии моих дел. Добавить нечего,
кроме того, что на мое имущество уже наложен арест. Этого более чем
достаточно. Всего хорошего.
- Погодите, мистер Лидгейт, погодите, - сказал Булстрод. - Я обдумал
наш вчерашний разговор. Моим первым чувством было удивление, и я
недостаточно серьезно отнесся к вашим словам. Миссис Булстрод озабочена
судьбой племянницы, да и меня самого огорчит столь прискорбная перемена в
ваших обстоятельствах. Ко мне многие обращаются с просьбами, но, по
здравом размышлении, я счел более предпочтительным решиться на небольшую
денежную жертву, нежели оставить вас без помощи. Вы, помнится, говорили -
тысячи фунтов достаточно, чтобы освободить вас от обязательств и дать
возможность обрести твердую почву?
- Да, - ответил Лидгейт, сразу воспрянув духом. - Из такой суммы я
смогу выплатить все долги, и кое-что останется на прожитие. Мы урежем
расходы. А там, глядишь, мало-помалу разрастется практика.
- Благоволите подождать минутку, мистер Лидгейт, я выпишу чек на всю
необходимую вам сумму. В таких случаях помощь действенна только тогда,
когда просьба удовлетворяется полностью.
Пока Булстрод выписывал чек, Лидгейт, повернувшись и окну, думал о
доме, о том, как неожиданно пришло к нему спасение и возродило рухнувшие
было надежды.
- Вы мне напишете взамен расписку, мистер Лидгейт, - сказал банкир,
подходя к нему с чеком. - А со временем, надеюсь, дела ваши поправятся, и
вы сумеете постепенно выплатить долг. Меня же радует одно сознание, что я
освободил вас от дальнейших трудностей.
- Глубоко вам признателен, - сказал Лидгейт. - Вы вернули мне
возможность работать с удовлетворением и даже мечтать.
Внезапное решение Булстрода показалось ему вполне естественным: банкир
неоднократно бывал щедр. Но когда он пустил лошаденку рысью, чтобы
поскорее вернуться домой, сообщить добрые вести Розамонде, взять в банке
деньги и вручить поверенному Дувра, в его сознании зловещей темнокрылой
птицей промелькнула мысль о том, как сильно сам он переменился за
последние месяцы, если так ликует, одалживаясь у Булстрода, если так
радуется деньгам, полученным для себя, а не на нужды больницы.
Банкир чувствовал, что облегчил свое положение, а между тем на душе у
него не становится легче. Стараясь заручиться расположением Лидгейта, он
не задумывался над тем, руководствовался ли он добрыми, или дурными
побуждениями, но дурные побуждения таились в нем, отравляли его кровь.
Человек дает клятву, но не отрезает себе путь к ее нарушению. Значит ли
это, что он сознательно решил ее нарушить? Вовсе нет. Но смутное желание,
побуждающее его к нарушению клятвы, зреет в нем, завладевает его
сознанием, и его воля цепенеет в тот самый миг, когда он твердит себе, что
клятву необходимо исполнить. Еще несколько дней - и Рафлс выздоровеет и
снова примется его мучить - как мог Булстрод этого желать? Он испытывал
успокоение, только представляя себе умершего Рафлса, и, не высказывая
этого прямо, возносил мольбы о том, чтобы, если можно, над остатком его
дней не нависала угроза бесчестья, которое помешает ему служить орудием
божьей воли. Судя по заключению Лидгейта, эта просьба не будет исполнена;
и в Булстроде возбуждала все большее раздражение живучесть этого человека,
которому столь уместно было бы замолкнуть навсегда. Негодяй давно уже
перестал бы существовать, если бы возможно было убивать одной силой
желания. И Булстрод сказал себе, что он слишком устал, а поэтому на ночь
лучше поручить больного заботам миссис Эйбл, а та, если понадобится,
кликнет мужа.
В течение дня Рафлс лишь несколько раз забылся недолгим тревожным сном,
и в шесть часов, когда его сонливость полностью развеялась и он снова
принялся вопить, что проваливается, Булстрод, следуя указанию Лидгейта,
стал давать ему опий. Через полчаса с небольшим он позвал миссис Эйбл и
сказал, что не в состоянии больше дежурить возле больного. Придется
препоручить его ее попечению, вслед за тем он повторил ей указания
Лидгейта по поводу размеров каждой дозы. До этих пор миссис Эйбл ничего не
знала о предписаниях врача; она просто готовила и приносила то, что велел
Булстрод, и делала то, что он ей приказывал. Сейчас она поинтересовалась,
что еще, кроме опия, должна она давать больному.
- Пока ничего, разве только предложите ему супу и содовой воды; если у
вас возникнут какие-то вопросы, обращайтесь ко мне. Я оставляю вас здесь
до утра и приду, только если произойдет нечто серьезное. В случае нужды
зовите на помощь мужа. Я должен лечь пораньше.
- Конечно, сэр, вы в этом так нуждаетесь, - сказала миссис Эйбл. - И
подкрепитесь как следует.
Булстрод удалился, уже не тревожась о том, не проговорится ли Рафлс в
бреду; едва ли станут прислушиваться к его бессвязному бормотанию. А
прислушаются - что поделаешь. Он спустился в гостиную, и ему пришло в
голову, не велеть ли оседлать лошадь и не вернуться ли домой, не дожидаясь
утра и позабыв все суетное. Потом он пожалел, что не попросил утром
Лидгейта заглянуть еще раз, ближе к вечеру. Возможно, врач бы обнаружил,
что Рафлсу стало хуже. Не послать ли за ним сейчас? Если состояние Рафлса
и впрямь ухудшилось и он умирает, Булстрод, узнав об этом, сможет спокойно
отойти ко сну, полный благодарности провидению. Но хуже ли ему? Что, если
Лидгейт просто скажет, что все идет, как он ожидал, и, хорошо выспавшись,
больной поправится? Стоит ли в таком случае посылать за врачом? У
Булстрода заныло сердце. Никакими ухищрениями логики ему не удавалось
убедить себя, что, выздоровев, Рафлс не превратится в прежнего мучителя,
который вынудит его бежать из здешних мест и обречь миссис Булстрод на
жизнь вдали от близких, что, вероятно, вызовет с ее стороны отчужденное и
недоверчивое отношение к мужу.
Охваченный раздумьем, он просидел возле камина около полутора часов,
как вдруг, внезапно что-то вспомнив, вскочил и зажег свечку. Вспомнил он о
том, что не сказал миссис Эйбл, когда прекратить давать опий.
Схватив подсвечник, он долго стоял неподвижно. Миссис Эйбл, возможно,
уже успела дать больному больше опия, чем разрешил Лидгейт. Впрочем, его
забывчивость извинительна - он падает с ног от усталости. Со свечой в руке
Булстрод поднялся на второй этаж, еще и сам не зная, направится ли прямо в
спальню, или зайдет к больному, чтобы исправить свое упущение. Он
приостановился в коридоре и задержался у двери комнаты, где находился
Рафлс и откуда доносились его стоны и бормотание. Рафлс, стало быть, не
спит. Кто может знать, не лучше ли было бы ослушаться Лидгейта, коль скоро
опий не усыпил больного?
Булстрод пошел в свою спальню. Не успел он раздеться, как миссис Эйбл
громко постучала в дверь; он слегка ее приоткрыл и услышал тихий голос
экономки:
- Простите меня, сэр, можно дать бедняге хоть глоточек коньяку? Ему все
кажется, что он проваливается, а пить он, кроме коньяку, ничего не желает,
да и какая крепость в содовой воде?.. так что я ему даю только опий. А он
все твердит, что, мол, проваливается под землю.
К ее удивлению, мистер Булстрод не ответил. Он боролся с собой.
- Я думаю, он скончается от слабости, если так пойдет и дальше. Бедный
мистер Робинсон, мой покойный хозяин, когда я за ним ходила, бывало, то и
дело подкреплялся рюмкой коньяка или портвейна, - добавила миссис Эйбл с
некоторой долей укоризны.
Но мистер Булстрод и на это ничего не сказал, и экономка продолжала:
- Человек вот-вот помрет, как же можно пожалеть для него стаканчик
подкрепляющего? Коли так, я уж ему наш ром отдам, у нас с мужем есть
бутылочка. Да только не похоже это на вас, сэр, вон вы из-за него целую
ночь не спали и чего только не делаете для него...
Тут из-за приоткрытой двери появился ключ и хриплый голос банкира
сказал:
- Вот ключ от винного погреба. Там большой запас коньяка.
Рано утром, около шести часов, Булстрод встал и помолился. Всегда ли
искренна молитва, возносимая к богу, всегда ли мы чистосердечны, оставаясь
с ним наедине? Молитва - речь без слов, а речью мы что-то изображаем:
правдиво ли изображаем мы себя, даже перед самими собой? Булстрод ничего
ясного не мог сказать о своих побуждениях за последние сутки.
Он снова приостановился у двери больного и услышал хриплое, тяжелое
дыхание. Затем он вышел в сад, увидел изморозь на траве и молодой листве.
Вернувшись в дом, он встретил миссис Эйбл, и его сердце тревожно забилось.
- Как наш больной, я полагаю, спит? - спросил он притворно бодрым
тоном.
- Да, очень крепко, сэр, - ответила миссис Эйбл. - Его стало клонить в
сон в четвертом часу ночи. На угодно ли вам самому зайти взглянуть? Он там
остался без присмотра, да ведь ему сейчас никто не нужен. Муж в поле,
девочка на кухне у плиты.
Булстрод поднялся по лестнице. С первого взгляда он увидел, что сон, в
который погрузился Рафлс, не принесет ему выздоровления, а увлекает его
все глубже и глубже в небытие.
Оглядев комнату, он увидел бутылку с остатками коньяка и почти пустой
пузырек опия. Он спрятал пузырек, а бутылку отнес в винный погреб.
За завтраком он раздумывал, отправиться ли сразу в Мидлмарч, или
подождать, пока приедет Лидгейт. Он решил дождаться Лидгейта и сказал
миссис Эйбл, что она может заняться своими делами - он посидит возле
больного.
Сидя в ожидании, когда навеки замолчит его тиран, он впервые за
несколько месяцев почувствовал себя спокойно и легко. И совесть не терзала
его, укрытая покровом тайны, милостиво ниспосланной ему свыше. Он вынул
записную книжку и просмотрел записи о делах, которые задумал и частично
привел в исполнение, собираясь навсегда покинуть Мидлмарч. Сейчас, когда
он знал, что его отсутствие будет непродолжительным, Булстрод прикидывал в
уме, какие из распоряжений оставить в силе, а какие - отменить. Так, не
следовало спешить с возобновлением обязанностей в попечительском совете
больницы, поскольку это потребовало бы крупных расходов, которые, как он
надеялся, могла взять на себя миссис Кейсобон. Таким размышлениям он
предавался, пока изменившееся дыхание больного не напомнило ему об этой
уходящей жизни, которая некогда послужила ему на пользу, жизни,
оказавшейся, к его удовольствию, столь низменной, что он смог использовать
ее для достижения своей цели. И оттого, что он себе на удовольствие
использовал ее тогда, он с удовольствием смотрел сейчас, как иссякает эта
жизнь.
Но может ли кто-нибудь утверждать, что смерть Рафлса пришла раньше
срока? Кто знает, что могло его спасти?
Лидгейт приехал в половине одиннадцатого, как раз вовремя, чтобы
увидеть, как испустил дух больной. Войдя в комнату, он не то чтобы
удивился, а как бы отметил про себя, что ошибся. Некоторое время он
простоял возле постели умирающего, не произнося ни слова, но, судя по его
лицу, мысль доктора усиленно работала.
- Когда наступила эта перемена? - спросил он, взглянув на Булстрода.
- Сегодня ночью я с ним не сидел, - ответил Булстрод. - Я был очень
утомлен и поручил его заботам миссис Эйбл. По ее словам, уснул он в
четвертом часу. Я пришел сюда около восьми и застал его примерно в таком
состоянии.
Других вопросов Лидгейт задавать не стал; он молча смотрел на больного,
затем сказал:
- Все кончено.
В это утро к нему вернулись ощущение свободы и надежды. Он с прежним
одушевлением принялся за работу и чувствовал себя в силах перенести любые
тяготы семейной жизни. И он отлично помнил, что Булстрод его благодетель.
Тем не менее он был озадачен. Такого исхода болезни он не ожидал. Нужно бы
расспросить Булстрода, но как? Тот чего доброго еще обидится. Выведать
через экономку? Но стоит ли, ведь мертвого не воскресишь. Что толку
проверять, повинны ли в его смерти чье-то невежество или небрежность? К
тому же, может быть, он сам ошибся.
Доктор с Булстродом верхом возвратились в Мидлмарч, по дороге беседуя о
многом... главным образом о холере, о том, утвердит ли палата лордов билль
о реформе, а также о твердости, которую проявляют в своей деятельности
политические союзы. О Рафлсе не было сказано ничего, только Булстрод
вскользь заметил, что похоронить его следует на лоуикском кладбище, и
упомянул, что, насколько ему известно, у бедняги не было родственников,
кроме Ригга, который, судя по словам покойного, относился к нему
неприязненно.
Дома Лидгейта навестил мистер Фербратер. Священника не было в городе
накануне, но весть, что на имущество Лидгейтов наложен арест, уже к вечеру
достигла Лоуина, доставленная мистером Спайсером, сапожником и
причетником, которому сообщил ее брат, почтенный звонарь, проживающий на
Лоуик-Гейт. После того вечера, когда Лидгейт вышел вместе с Фредом Винси
из бильярдной, мистер Фербратер был полон тревожных предчувствий. Можно
было бы не обратить внимания, если бы кто другой наведался несколько раз к
"Дракону". Но коль скоро речь шла о Лидгейте, пустячок превращался в
очередную примету, показывающую, сколь разительная перемена произошла в
докторе. Ведь еще недавно он весьма презрительно отзывался о занятиях
такого рода. И даже если в этом времяпрепровождении, необычном для
прежнего Лидгейта, были повинны семейные неприятности, пересуды о которых
достигли слуха мистера Фербратера, священник не сомневался, что главной
причиной послужили долги Лидгейта, теперь уже ни для кого не бывшие
секретом, и с печалью заподозрил, что надежды на помощь родни оказались
иллюзорными. Отпор, который встретила его первая попытка доверительно
побеседовать с Лидгейтом, не располагал ко второй, но известие о постигшей
доктора беде побудило Фербратера преодолеть нерешимость.
Лидгейт, только что проводив бедняка пациента, ход болезни которого его
очень интересовал, встретил Фербратера веселый, оживленный и крепко пожал
ему руку. Тот растерялся и не мог понять, не из гордости ли отвергает
Лидгейт помощь и сочувствие. Если так, то помощь и сочувствие все равно
ему будут предложены.
- Как ваши дела, Лидгейт? Я пришел, потому что услышал о ваших
неприятностях, - сказал священник с родственной заботливостью, но без
родственной укоризны.
- Я понимаю, что вы имеете в виду. Вам сказали, что на мое имущество
наложен арест?
- Да. Это так?
- Было так, - спокойно и непринужденно ответил Лидгейт. - Но сейчас
угроза позади, деньги уплачены. Мне больше ничто не мешает, я освободился
от долгов и, надеюсь смогу начать все заново и более успешно.
- Счастлив это слышать, - с огромным облегчением, торопливо и тихо
проговорил священник и откинулся на спинку кресла. - Ваше сообщение
обрадовало меня больше, нежели любое из напечатанных в "Таймс". Признаюсь,
я шел к вам с нелегкой душой.
- Благодарю, - сердечно отозвался Лидгейт. - Сейчас когда развеялись
тревоги, мне особенно приятна ваша доброта. Я был очень огорчен, не скрою.
Боюсь, я еще долго буду чувствовать боль, - добавил он с невеселой
улыбкой. - Но тиски разжались, я могу передохнуть.
Мистер Фербратер, помолчав, участливо сказал:
- Позвольте вам задать один вопрос, дорогой мой. Простите, если я
позволю себе излишнюю вольность.
- Я уверен, что в вашем вопросе не будет ничего оскорбительного.
- В таком случае... я задаю этот вопрос, чтобы окончательно
успокоиться. Вы ведь не... надеюсь, вы не обременили себя взамен старых -
новым долгом, который может оказаться более неприятным, чем прежние?
- Нет, - ответил Лидгейт, слегка покраснев. - Я не вижу причин
скрывать, поскольку эти деньги одолжил мне Булстрод. Он предложил мне в
долг значительную сумму - тысячу фунтов и в ближайшее время не потребует
ее возврата.
- Что ж, он поступил великодушно, - сказал мистер Фербратер, чувствуя
себя обязанным с похвалою отозваться о банкире, хотя тот и был ему
неприятен. Он всегда предупреждал Лидгейта, чтобы тот не принимал
обязывающих к благодарности одолжений банкира, но сейчас даже помнить об
этом казалось неделикатным, и он торопливо добавил:
- Вполне естественно, что Булстрод озабочен вашими делами. Ведь
сотрудничество с ним не увеличило, а сократило ваш доход. Рад, что он
поступил так порядочно.
Лидгейт смутился. Доброжелательное замечание священника оживило и
сделало еще острей смутно тревожившее его подозрение, что
доброжелательность Булстрода, которая так неожиданно пришла на смену
ледяному безразличию, порождена корыстными мотивами. Но он не высказал
своих подозрений вслух. Не стал рассказывать, каким образом был сделан
заем, хотя припомнил сейчас все до мельчайших подробностей, а заодно и
обстоятельство, о котором промолчал деликатный мистер Фербратер: еще
совсем недавно Лидгейт решительно избегал личной зависимости от банкира.
Вместо этого Лидгейт заговорил о том, как экономно собирается впредь
вести хозяйство и как совсем иначе смотрит теперь на житейские дела.
- Я заведу приемную, - сказал он. - Признаюсь, в этом отношении я
допустил ошибку. Если согласится Розамонда, я возьму ученика. Такие
занятия мне не по душе, но если врач относится к ним добросовестно, он не
уронит себя. Жизнь задала мне в начале пути жестокую таску, так что легкие
щелчки я без труда перенесу.
Бедняга Лидгейт! Нечаянно оброненное им "если согласится Розамонда"
красноречиво свидетельствовало о его подневольном положении. Однако мистер
Фербратер, загоревшись той же надеждой, что и Лидгейт, и не зная о нем
ничего, могущего внушить печальные предчувствия, принес ему самые
сердечные поздравления и ушел.
71
_Шут_:
...В "Виноградной грозди" это было,
где вы любите посиживать, верно, сударь?
_Пепс_:
Оно так. Потому что комната эта
просторная и зимой теплая.
_Шут_:
Вот-вот. Тут вся правда наружу и выйдет.
Шекспир, "Мера за меру"
Через пять дней после смерти Рафлса мистер Бэмбридж, свободный от
трудов и забот, стоял под аркой, ведущей во двор "Зеленого дракона". Он не
питал склонности к уединенным размышлениям, он просто недавно вышел из
дому, и вскоре ему несомненно предстояло обзавестись собеседником, ибо
стоящий в середине дня под аркой человек остается в одиночестве не дольше,
чем голубь, нашедший еду. Правда, в нашем случае приманкой служила не
материальная корка хлеба, а надежда приобрести пищу духовную, в виде
сплетен. Первым явился мистер Хопкинс, обходительный и кроткий владелец
расположенной напротив галантерейной лавки, высоко ценивший мужскую
беседу, коль скоро его клиентура преимущественно состояла из женщин.
Мистер Бэмбридж встретил его довольно нелюбезно, исходя из того, что
Хопкинс-то, разумеется, рад с ним поговорить, да вот ему недосуг тратить
время на Хопкинса. Впрочем, к последнему вскоре присоединились более
почтенные слушатели; иные выплыли из потока прохожих, иные для того и
подошли, чтобы узнать, что новенького в "Зеленом драконе", и мистер
Бэмбридж, сочтя публику достойной, приступил к волнующему повествованию о
своем путешествии на север, о кровных лошадях, которых видел там, и о
сделанных им во время поездки приобретениях. Он заверил присутствующих
джентльменов, что если им удастся показать ему нечто способное сравниться
с гнедой кобылой-четырехлеткой, на которую они при желании могут
взглянуть, он готов немедленно провалиться в тартарары. Опять же купленная
им для собственного экипажа пара вороных разительно напомнила ему ту пару,
которую он в 19-м году за сто гиней продал Фолкнеру и которую два месяца
спустя Фолкнер продал за сто шестьдесят... если кому-нибудь из
присутствующих удастся опровергнуть это заявление, ему предоставляется
право поносить мистера Бэмбриджа последними словами, пока у него в горле
не пересохнет.
В тот миг, когда беседа приняла столь оживленный характер, подошел
мистер Фрэнк Хоули. Этот джентльмен почитал ниже своего достоинства
околачиваться у "Зеленого дракона", но, проходя по Хай-стрит и увидев
Бэмбриджа, пересек улицу, дабы справиться у барышника, нашел ли тот
обещанную лошадь для двуколки. Мистеру Хоули было предложено взглянуть на
купленную в Билкли серую кобылу: если это не точь-в-точь то, чего он
желал, значит, мистер Бэмбридж ни черта в лошадях не смыслит. Мистер
Хоули, повернувшись к Бэмбриджу, уславливался с ним, когда можно увидеть
серую и познакомиться с ее достоинствами, а тем временем позади него по
мостовой проехал всадник.
"Булстрод", - тихо произнесли два-три голоса, один из которых,
принадлежавший галантерейщику, почтительно присовокупил к фамилии слово
"мистер"; но сказано это было между прочим, точно так же они восклицали
"риверстонский дилижанс!", увидев вдали этот экипаж. Мистер Хоули бросил
вслед Булстроду равнодушный взгляд, зато Бэмбридж, проводив банкира
глазами, ехидно осклабился.
- Фу, черт! Кстати, вспомнил, - начал он, слегка понизив голос. - Я
привез из Билкли еще кое-что, кроме вашей серой кобылы, мистер Хоули.
Любопытную историйку о Булстроде довелось мне там услышать. Знаете вы, как
он нажил свое состояние? Джентльмены, любой из вас может совершенно
бесплатно получить весьма пикантные сведения. Если бы каждому воздавалось
по заслугам, Булстрод читал бы свои молитвы в Ботани-Бей.
- Что вы имеете в виду? - спросил мистер Хоули, сунув руки в карманы и
пододвинувшись к Бэмбриджу. - Ведь если Булстрод в самом деле негодяй, то
Фрэнк Хоули оказался пророком,
- Мне рассказал эту историю его старый приятель. Ага, вспомнил-таки,
когда я первый раз его увидел! - вдруг воскликнул Бэмбридж, вскинув вверх
указательный палец. - На аукционе у Ларчера, но я тогда не знал, кто он
такой, и он куда-то испарился, наверняка охотился за Булстродом. Он
говорит, он может выкачать из Булстрода любую сумму, все его секреты знает
наперечет. В Билкли он мне все выболтал. Большой любитель выпить, вот и
разговорился за бутылкой, а так бы черта с два я что-нибудь узнал.
Хвастунишка, распустит язык и трещит без удержу, словно ему деньги платят
за слова. Человек всегда должен знать, где остановиться, - презрительно
заключил мистер Бэмбридж, гордый тем, что сам бахвалится, точно зная
рыночную цену похвальбы.
- А как его зовут? Где его можно разыскать? - поинтересовался мистер
Хоули.
- Разыскать не знаю где - мы распрощались с ним в "Голове сарацина", а
фамилия его Рафлс.
- Рафлс! - воскликнул мистер Хопкинс. - Я вчера отправил все, что
требуется для его похорон. Похоронили его на лоуикском кладбище. Мистер
Булстрод провожал его в последний путь. Очень приличные были похороны.
Это сообщение произвело сенсацию. Бэмбридж издал крик души, в котором
наиболее умеренным из пожеланий было: "побрал со всеми потрохами", а
мистер Хоули, нахмурившись и слегка набычившись, воскликнул: "Что? Где
умер этот человек?"
- В Стоун-Корте, - ответил галантерейщик. - Экономка говорит, он
родственник владельца. Он явился туда в пятницу, совсем больной.
- То есть как? Мы в среду вместе пили, - перебил мистер Бэмбридж.
- А врач у него был? - осведомился мистер Хоули.
- Да. Мистер Лидгейт. Сам мистер Булстрод просидел возле больного одну
ночь. Тот скончался на третье утро.
- Ну-ка, ну-ка, Бэмбридж, - обратился мистер Хоули к барышнику. - Что
рассказывал этот малый о Булстроде?
Группа слушателей к тому времени разрослась, ибо присутствие городского
секретаря послужило порукой тому, что здесь рассказывается нечто достойное
внимания; таким образом с повествованием мистера Бэмбриджа ознакомились
семь человек. История эта, почти полностью нам известная, с упоминанием о
пострадавшем Уилле Ладиславе и добавлением кое-каких подробностей и
местного колорита, представляла собой ту самую тайну, разоблачения которой
так боялся Булстрод... а теперь надеялся, что она навек погребена вместе с
трупом Рафлса, - мрачный призрак былого, от которого, как он думал, его
наконец-то избавило провидение. Да, провидение. Он не признавался даже
себе, что сам способствовал достижению желанной цели - он просто принял
то, что послано ему. Невозможно доказать, что он чем-то ускорил кончину
этого человека.
Но сплетня разнеслась по городу, как запах гари. Мистер Фрэнк Хоули
послал доверенного клерка в Стоун-Корт якобы справиться по поводу сена, на
самом же деле выведать у миссис Эйбл все что можно о Рафлсе и его болезни
Таким образом он выяснил, что приезжего доставил в Стоун-Корт на своей
двуколке мистер Гарт; после чего мистер Хоули при первой же возможности
побывал в конторе Кэлеба, дабы узнать, не согласится ли тот в случае нужды
взять на себя роль третейского судьи в одном спорном вопросе, а затем как
бы невзначай спросил о Рафлсе Кэлеб не сказал ни единого слова, которое
повредило бы репутации Булстрода, однако вынужден был признать, что на
прошлой неделе отказался от всех поручений банкира. Мистер Хоули, нимало
не сомневаясь, что Рафлс выложил всю свою историю Гарту, вследствие чего
тот отказался быть управляющим Булстрода, уже через несколько часов
пересказал все это мистеру Толлеру. Так рассказ, передаваясь из уст в
уста, в конце концов выглядел уже не предположением, а достоверным
сообщением, якобы полученным непосредственно от Гарта, так что самый
дотошный историк счел бы Кэлеба повинным в обнародовании и распространении
этих слухов.
Мистер Хоули понимал, что ни разоблачения, сделанные Рафлсом, ни
обстоятельства его смерти не могут послужить достаточным основанием для
того, чтобы привлечь Булстрода к суду. Он отправился в Лоуик, где
самолично изучил запись в церковной книге и обсудил все дело с мистером
Фербратером, которого, как и мистера Хоули, ничуть не удивила внезапно
выплывшая неприглядная история банкира, хотя со свойственным ему
беспристрастием он, как всегда, старался воздерживаться от поспешных
выводов. Но во время их беседы мистера Фербратера поразило еще одно
совпадение, о котором он не сказал ни слова, хотя очень скоро о нем
заговорили вслух все в Мидлмарче, утверждая, что "дело тут яснее ясного".
Пока священник обсуждал причины, побудившие Булстрода опасаться Рафлса, у
него внезапно мелькнула догадка, не связана ли с этими опасениями
неожиданная щедрость, проявленная Булстродом по отношению к Лидгейту; хотя
он не допускал мысли, чтобы Лидгейт сознательно позволил себя подкупить,
он предчувствовал, что подозрительное стечение обстоятельств пагубно
отразится на репутации врача. Мистер Хоули, как можно было предположить,
пока еще ничего не знал о сделанном Лидгейтом займе, и мистер Фербратер
приложил все старания, чтобы уклониться от этой темы.
- Да, - со вздохом сказал он, намереваясь закончить беседу, в течение
которой было высказано множество предположений, из коих ни одного нельзя
было доказать, - странная история. Итак, у нашего искрометного Ладислава
оказалась причудливая родословная. Своевольная молодая дама и
преисполненный патриотизма польский музыкант - для такого побега, как
Ладислав, вполне подходящие ветви, но черенок в виде закладчика-еврея -
для меня полная неожиданность. Впрочем, никто не может угадать заранее,
какие плоды принесет скрещивание. Некоторые виды грязи употребляются для
очищения.
- Незачем гадать, и так все ясно, - сказал, садясь на лошадь, мистер
Хоули. - Ничего доброго не может выйти, если какая-нибудь мерзость
приметалась - евреи ли, корсиканцы, цыгане...
- Я знаю, вы всегда его не любили, Хоули. Но он, право же, человек
бескорыстный и несуетный, - улыбаясь, произнес мистер Фербратер.
- Вот-вот! Это в вас виг сказывается, - заметил мистер Хоули, имевший
привычку милостиво признавать, что Фербратер чертовски славный и
добросердечный малый и его даже можно принять за тори.
Мистер Хоули не усмотрел ничего подозрительного в визитах Лидгейта к
Рафлсу, хотя и понимал, что они обеляют Булстрода. Однако весть о том, что
Лидгейт разом смог не только выкупить закладную, но и расплатиться со
всеми долгами, быстро разнеслась по городу, обрастая разными догадками и
предположениями, придававшими ей новое звучание и форму, и вскоре достигла
слуха более проницательных истолкователей, которые не замедлили усмотреть
многозначительную связь между внезапным улучшением денежных обстоятельств
Лидгейта и желанием Булстрода замять скандал. О том, откуда у Лидгейта
деньги, все непременно бы догадались, даже при отсутствии прямых улик,
ибо, давно уже сплетничая о его делах, не раз упоминали, что ни
собственная родня, ни тесть не желают ему помочь. Кроме того, подоспели и
прямые улики, предоставленные не только банковским клерком, но и
простодушной миссис Булстрод, которая упомянула о займе в разговоре с
миссис Плимдейл, а та упомянула о нем своей невестке, урожденной Толлер, а
та уж упоминала об этом всем. Общество сочло эту историю достаточно
важной, чтобы устраивать в связи с ней званые обеды, и великое множество
приглашений было дано и принято с целью перемыть косточки Булстроду и
Лидгейту; жены, вдовы и старые девы чаще, нежели обычно, захватив с собой
работу, отправлялись друг к дружке пить чай, мужчины же повсюду - от
"Зеленого дракона" до заведения миссис Доллоп - обсуждали эту историю с
несравненно большим пылом, чем вопрос, отклонит ли палата лордов билль о
реформе.
Никто не сомневался, что Булстрод расщедрился неспроста. Тот же мистер
Хоули немедля устроил прием для избранного общества, состоявшего всего из
двух гостей - доктора Толлера и доктора Ренча, имея целью обсудить в этом
узком кругу выведанные от миссис Эйбл подробности болезни Рафлса и
проверить правильность заключения Лидгейта о том, что смерть последовала
от белой горячки. Оба медика, придерживавшиеся относительно этого недуга
традиционных воззрений, выслушав рассказ хозяина, заявили, что ничего
подозрительного тут не находят. Но в отличие от медицинских, оставались
подозрения иного свойства: с одной стороны, у Булстрода, несомненно,
имелись веские основания спровадить Рафлса на тот свет; с другой - именно
в этот критический момент он пришел на помощь Лидгейту, хотя знал о его
затруднениях и раньше. Добавим к этому, что все были склонны поверить в
бесчестность Булстрода, а также в то, что Лидгейт, как все гордецы, не
задумываясь, позволит себя подкупить, если у него окажется нужда в
деньгах. Даже если деньги были уплачены ему только за то, что он будет
помалкивать о позорной тайне Булстрода, это представляло в неприглядном
виде Лидгейта, о котором давно уже поговаривали, что, прислуживаясь к
банкиру, он делает себе карьеру за счет старших коллег. И поэтому
избранное общество, собравшееся в доме Хоули, хотя и не обнаружило прямых
улик, пришло к выводу, что дело "дурно пахнет".
Но если уж светила медицины сочли неопределенные подозрения
достаточными для того, чтобы покачивать головами и отпускать язвительные
намеки, то для простых смертных именно таинственность оказалась
неопровержимым доказательством вины. Всем больше нравилось догадываться,
как все было, нежели просто знать: догадка решительней знаний, и с
неувязками она расправляется смелей. Даже в историю обогащения Булстрода,
где было гораздо больше определенности, иные любители напустили туману,
благо он им позволял как следует поработать языками и дать полную волю
фантазии.
К таким принадлежала миссис Доллоп, бойкая хозяйка "Пивной кружки" в
Мясницкой тупике, которой постоянно приходилось воевать с сухим
прагматизмом своих клиентов, полагавших, будто сведения, полученные ими со
стороны, более весомы, чем то, во что она "проникла" собственным разумом.
Миссис Доллоп ведать не ведала, откуда оно взялось, но перед ее глазами
ясно стояло, словно написанное мелом на доске: "Как сказал бы сам
Булстрод, в душе у него так черно, что ежели бы волосы на его голове знали
помыслы его сердца, он выдрал бы их с корнем".
- Странно, - пискливо произнес мистер Лимп, подслеповатый, склонный к
размышлениям башмачник. - Я читал в "Рупоре", что эти самые слова сказал
герцог Веллингтон, когда переметнулся на сторону папистов.
- Вот-вот, - ответствовала миссис Доллоп. - Коли один мошенник их
сказал, почему бы не сказать другому. А когда этот святоша возомнил, будто
разбирается в Писании лучше любого священника, он взял себе в советчики
нечистого, а с нечистым-то совладать не сумел.
- Да, такого сообщника в чужие края не сплавишь, - сказал стекольщик
мистер Крэб, который ощупью пробирался среди залежей отовсюду подбираемых
сведений. - Люди говорят, Булстрод давно боялся, как бы дело не вышло
наружу. И собирался сбежать из наших мест.
- Собирался, нет ли - здесь ему не оставаться, - вмешался новый
посетитель, парикмахер мистер Дилл. - Нынче утром я брил Флетчера, клерка
мистера Хоули - он себе палец повредил, - и он сказал, они все порешили
выжить Булстрода. Мистер Тизигер на него в гневе и хочет, чтобы он убрался
из прихода. А некоторые джентльмены говорят, они скорей уж сядут за один
стол с каторжником. "И я их очень даже понимаю, - говорит Флетчер, -
потому ни от кого так не мутит, как от человека, который выдумал себе
невесть какую веру и строит из себя такого праведника, словно для него
десяти заповедей мало, а сам хуже любого арестанта". Вот как Флетчер
говорит.
- Но для города будет плохо, если Булстрод заберет все свои капиталы, -
пролепетал мистер Лимп.
- Да, бывает, люди получше его деньгами своими распоряжаются гораздо
хуже, - зычным голосом сказал красильщик, чья добродушная физиономия не
вязалась с обагренными алой краской руками.
- Так ведь деньги-то у него отберут, - возразил стекольщик. - Не
слыхали разве: денежки его другому должны достаться. Говорят, мол, если в
суд подать, то у него отнимут все капиталы до последнего пенни.
- Вот уж нет! - воскликнул парикмахер, который несколько свысока
относился к обществу, собиравшемуся в "Пивной кружке", но тем не менее
любил там бывать. - Флетчер говорит, ничего подобного не будет. Он
говорит, они могут хоть сотню раз доказать, кто были родители этого
Ладислава, а пользы будет столько же, как если доказать, что я родился в
Линкольншире, - ни гроша он не получит.
- Нет, вы только их послушайте! - с негодованием вскричала миссис
Доллоп. - Благодарю создателя, забравшего к себе моих детей, ежели наш
закон так обижает сирот. Вас послушать, так совсем не важно, кто твой отец
и кто твоя мать Одному только я удивляюсь: как может человек с вашим умом,
мистер Дилл, выслушать слова одного законника и не справиться, что думает
другой? В каждом деле есть две стороны, если не больше, для чего иначе
люди ходят в суд? Да кому он нужен, этот суд, коли человек там не добьется
толку после того, как докажет, чьих он родителей сын! Пусть он говорит что
вздумается, ваш секретарь, наплевать мне на его секреты!
Тут мистер Дилл захихикал, как видно, восхищенный остроумием дамы,
которая любого законника за пояс заткнет; он задолжал миссис Доллоп
солидную сумму и не огрызался, когда она шпыняла его.
- Если дело дойдет до суда и правда то, что люди говорят, ему придется
держать ответ не только за деньги, - сказал стекольщик. - Помер этот
бедолага, как не жил на свете, а говорят, был когда-то джентльменом,
почище Булстрода.
- Еще бы! - подхватила миссис Доллоп. - И на вид приглядней, говорят.
Когда мистер Болдуин, сборщик податей, зашел сюда, встал на том месте, где
вы сейчас сидите, и сказал: "Булстрод нажил все свои капиталы
мошенничеством и воровством", я ему сразу говорю: "Не удивили вы меня,
мистер Болдуин, не удивили: у меня до сих пор стынет кровь, когда вспомню,
как он заявился к нам в Мясницкий тупик покупать тот дом, что позади
нашего; не бывает у людей лицо такого цвета, как кадка для теста, и не
таращат они ни с того ни с сего глаза гак, словно насквозь тебя хотят
просверлить". Вот что я сказала, и мистер Болдуин может это подтвердить.
- И правильно сказали, - одобрил мистер Крэб. - Потому как, люди
говорят, этот Рафлс - так его, вроде, звали - был из себя мужчина видный,
цветущий и по характеру компанейский, а что осталось от него - снесли на
кладбище, да и конец. Люди говорят, кое-кто знает, отчего он там оказался.
- Еще бы не знать! - сказала миссис Доллоп, несколько презиравшая
мистера Крэба за привычку ходить вокруг да около. - Заманили человека в
дом на отшибе, и некоторые, какие могли бы хоть за тысячу сиделок
заплатить, день и ночь от его постели не отходят, а ездит туда только
доктор, которому сам черт не брат и у которого денег отродясь не водилось,
а теперь вдруг столько завелось, что он расплатился по всем счетам с
мясником мистером Байлсом, а он у него в лавке самые лучшие куски берет,
да все в долг - с Михайлова дня второй год пошел, как он не платил мистеру
Байлсу, - так нечего мне намекать, что, мол, нечисто дело, чего уж там из
пустого в порожнее переливать!
Миссис Доллоп огляделась с видом хозяйки, привыкшей властвовать в своем
заведении. Самые отважные приветствовали ее речь одобрительным гулом
голосов. Но мистер Лимп, приложившись к стопке, втиснул между коленями
сложенные ладони и так прилежно уставился на них, словно пылкая речь
миссис Доллоп испепелила его мозги и способность мыслить может к нему
вернуться разве что после того, как он впитает в себя некоторое количество
влаги.
- Надо выкопать покойника и дать знать следственному судье, - сказал
красильщик. - Так делали уже не раз. Там дознаются, какой он смертью
помер.
- Да куда им, мистер Джонас! - многозначительно произнесла миссис
Доллоп. - Знаю я их, этих докторов. Их голыми руками не возьмешь. И доктор
Лидгейт этот - не успеет человек дух испустить, а он уж норовит его
выпотрошить, - ясно, для чего ему понадобилось копаться во внутренностях
почтенных людей. Он, будьте покойны, такие снадобья знает, у каких ни
вкуса нет, ни запаха, да и увидеть их нельзя ни до того, как проглотишь,
ни после Да чего там говорить, коли мне самой прописал капли доктор
Гэмбит, достойный человек, а уж сколько новорожденных прошло через его
руки... так вот, я говорю, он такие капли мне прописал, что их в рюмке-то
не видно, а выпьешь - колики уже на другой день. Так что сами посудите.
Что толковать пустое? Я одно только могу сказать: слава богу, что нас не
лечит доктор Лидгейт. Худо бы пришлось нашим детишкам.
Те же толки, что у миссис Доллоп, шли во всех кругах Мидлмарча и
добрались с одной стороны - до дома лоуикского священника, а с другой - до
Типтон-Грейнджа; в полном объеме достигли слуха семейства Винси,
обсуждались с соболезнованиями по поводу "бедняжки Гарриет" всеми
приятельницами миссис Булстрод еще гораздо ранее того как Лидгейту стало
ясно, почему все на него так странно смотрят, а Булстрод догадался, что
его тайна раскрыта. У банкира никогда не было особенно сердечных отношений
с соседями, поэтому он не заметил отсутствия сердечности; к тому же
теперь, когда выяснилось, что он не должен покидать Мидлмарч, нужно было
приниматься за отложенные дела, и он много времени проводил в разъездах.
- Через месяц-два мы отправимся в Челтнем, - сказал он жене. - В этом
городе много источников духовного обновления, не говоря уже о свежем
воздухе и о целебных водах. Мы хорошо там отдохнем.
Он и в самом деле верил в духовное обновление и намеревался впредь
вести еще более благочестивую жизнь во искупление недавних грехов, которые
представлялись ему гипотетическими и на которые он гипотетически ссылался
в молитвах: "если я согрешил при сем".
Что касается больницы, он не упоминал о ней пока в разговорах с
Лидгейтом, которому могла показаться подозрительной внезапная перемена в
его планах, наступившая сразу после смерти Рафлса. Лидгейт, как полагал в
глубине души банкир, догадывался о том, что он намеренно не выполнил его
распоряжений, и, догадываясь об этом мог заодно догадаться и о его
побуждениях. Впрочем, Лидгейт ничего не знал о прошлом Рафлса, и Булстрод
тщательно старался не усугублять его подозрений. К тому же доктору, всегда
осуждавшему слепую веру в целительное или фатальное воздействие
какого-либо врачебного метода, в подобном случае надлежало не высказывать
сомнения, а молчать. Итак, провидение хранило Булстрода. И лишь однажды у
него заныло сердце - это было, когда он случайно встретил Кэлеба Гарта,
который, однако, лишь вежливо и степенно ему поклонился.
А тем временем надвигалась гроза.
В ратуше должны были собраться влиятельные горожане для обсуждения
предупредительных мер в связи с первым случаем холеры в городе. Не так
давно парламент поспешно провел закон о новом налоге, чтобы собрать
средства для осуществления необходимых мер предосторожности. В Мидлмарче
был создан совет для надзора за проведением этих мер, а виги и тори в
полном согласии решали, каким образом произвести очистку города и
надлежащую подготовку больниц. Сейчас возник вопрос, устроить ли кладбище
на пустующей земле за городом на средства от этого налога, или объявить
подписку. На собрании должны были присутствовать почти все видные жители
города.
Мистер Булстрод был членом совета и около двенадцати часов дня вышел из
банка, полный решимости ратовать за частную подписку. В последнее время
из-за неопределенности планов он старался держаться в тени, но сейчас
почувствовал, что пора возвратиться к общественной деятельности и
сохранить подобающее ему положение в городе, где он собирался прожить до
конца своих дней. Среди движущихся к ратуше людей он заметил Лидгейта они
зашагали вместе и, разговаривая, вошли в зал.
Казалось, все имеющие вес горожане явились на собрание раньше них.
Однако за большим столом, стоявшим в центре, еще оставались свободные
места, и туда они направили свои стопы. Мистер Фербратер сидел напротив
них, неподалеку от мистера Хоули, мистер Тизигер председательствовал, а
справа от него находился мистер Брук из Типтон-Грейнджа.
Лидгейт заметил, что, когда они с Булстродом садились, присутствующие
как-то странно переглянулись.
После того как председатель произнес вступительную речь, указав, сколь
выгодно для города приобрести по подписке большой участок, который позже
можно превратить в общественное кладбище, мистер Булстрод, чей
пронзительный голос (звучавший, впрочем, негромко и плавно) нередко
раздавался на собраниях такого рода, поднялся и попросил позволить ему
выразить свое мнение. Лидгейт заметил, что все вновь многозначительно
переглянулись, после чего вскочил мистер Хоули и произнес своим звучным,
решительным голосом:
- Господин председатель, я требую, чтобы прежде чем кто-либо выразит
свое суждение об этом вопросе, мне разрешили высказаться о деле,
затрагивающем наши гражданские чувства и не терпящем отлагательств, по
мнению многих присутствующих здесь джентльменов, которое разделяю и я.
Мистер Хоули даже в тех случаях, когда ради соблюдения общественных
приличий бывал вынужден "смягчать выражения", объяснялся резко и уверенно,
чем производил на слушателей устрашающее впечатление. Мистер Тизигер
удовлетворил его просьбу, мистер Булстрод сел, а мистер Хоули продолжал:
- Я выступаю сейчас, господин председатель, не только от своего лица; я
выступаю с соизволения и по настойчивой просьбе не менее чем восьми
присутствующих здесь моих сограждан. Все мы полагаем совершенно
необходимым потребовать, чтобы мистер Булстрод - и я требую это от него
сейчас - отказался от общественных постов, которые он занимает не только
как налогоплательщик, но как джентльмен среди джентльменов. Существуют
действия и существуют поступки, над которыми, волей обстоятельств, закон
не властен, хотя по своей сути они хуже многих уголовно наказуемых деяний.
Если честные люди и джентльмены желают оградить себя от общества людей,
учиняющих такие деяния, они вынуждены защищаться сами, и именно это я и
мои друзья, которых я сейчас могу назвать также своими клиентами, намерены
сделать. Я не утверждаю, что мистер Булстрод повинен в бесчестных
поступках, но я призываю его либо опровергнуть и отмести позорящие его
обвинения, возведенные против него человеком, ныне умершим, причем умершим
в его доме, - обвинения в том, что он в течение многих лет был участником
гнуснейшего промысла и что он нажил состояние бесчестным путем, - либо же
сложить с себя обязанности, которые могли быть доверены ему только как
джентльмену среди джентльменов.
Глаза всех присутствующих устремились на мистера Булстрода, охваченного
с той минуты, когда впервые прозвучало его имя, непереносимо бурными для
столь болезненного человека чувствами. Лидгейт, и сам глубоко потрясенный
тем, сколь страшным образом материализовалось смутно промелькнувшее
когда-то перед ним недоброе предчувствие, взглянув на помертвевшее лицо
Булстрода, ощутил, как его собственные неприязнь и возмущение утихли,
вытесненные инстинктом врачевателя, прежде всего думающего о том, как
спасти страдальца и облегчить его муки.
Внезапно осознав, что его жизнь погублена, что сам он обесчещен и
унижен перед теми, кого привык укорять и хулить, что бог отрекся от него
перед людьми и не защитил от торжествующего презрения ненавистников,
радующихся его позору; почувствовав, как потерпела полный крах его лукавая
попытка, расправляясь с сообщником, обмануть свою совесть и как тщательно
отшлифованное его изощренным в лукавстве разумом орудие вонзилось в него
самого, Булстрод испытал смертельный ужас человека, чьи муки бесконечны -
они не убивают, а возвращаются вновь и вновь. Наконец-то ощутить себя в
безопасности и вслед за тем подвергнуться разоблачению - способна ли это
перенести не грубая натура преступника, а чувствительная организация
человека, всеми условиями жизни приученного первенствовать и упивающегося
властью и сознанием своего превосходства?
Но именно эта свойственная его натуре страстность помогла ему себя
защитить. Немощный телесно, он обладал упорной волей честолюбца; боязнь
небесного возмездия была не в силах ее обуздать, она как пламя рвалась
наружу, и даже в этот миг, когда он был так жалок, пламя тлело и
разгоралось все ярче. Не успело последнее слово слететь с уст мистера
Хоули, Булстрод почувствовал, что должен ответить, и ответить твердо и
решительно. Он не посмел бы сказать: "Я не виновен, вся эта история ложь",
- и даже если бы посмел, делать это сейчас, когда он с болью чувствовал
себя покинутым, казалось столь же тщетным, как прикрывать наготу ветхим
рубищем, готовым рассыпаться при малейшем движении.
Несколько мгновений в зале царила тишина и все взгляды обратились на
Булстрода. Он сидел неподвижно, всей тяжестью опираясь на спинку стула; он
не решился встать и, когда начал говорить, уперся руками в сиденья
соседних стульев. Но голос его звучал внятно, хотя более хрипло, чем
обычно, и слова он выговаривал отчетливо, хотя останавливался после каждой
фразы, словно задыхаясь. Он сказал, обращаясь сперва к мистеру Тизигеру, а
затем глядя на мистера Хоули:
- Как христианский священнослужитель, сэр, вы обязаны были пресечь эти
нападки, внушенные гнусной злобой. Мои недоброжелатели рады поверить
любому поклепу, который возводят на меня досужие языки. Они готовы осудить
меня со всей жестокостью. Но если злословие, жертвой коего я сделался,
обличает меня в преступных деяниях, - тут Булстрод так возвысил голос и
заговорил с такой горечью, что, казалось, он кричит, - кто должен стать
моим обличителем? Ведь не люди, чей образ жизни противен христианскому,
мало того, возмутителен... люди, сами пользующиеся низменными средствами,
люди, погрязшие в интриганстве, каждый на своем поприще, люди, чьи доходы
расточаются на сладострастные удовольствия в то время, как свои я
предназначил для достижения самых высоких целей в этой жизни и ради жизни
грядущей.
Упоминание об интриганстве вызвало грозный гул, в котором слышались и
ропот, и шиканье, и тотчас четверо вскочили на ноги: мистер Хоули, мистер
Толлер, мистер Чичли и мистер Хекбат. Но мистер Хоули, чей гнев загорелся
стремительнее, опередил остальных:
- Если вы намекаете на меня, сэр, благоволите проверить, как я действую
на своем поприще. Что до христианского образа жизни, я отвергаю ваше
ханжеское, сладкоречивое христианство. А что касается того, как я
употребляю свой доход, то не в моих правилах заниматься скупкой краденого
и присваивать чужое наследство, с целью упрочить веру и прослыть святым
Брюзгой. В вопросах совести я не беру на себя роль судьи, в моем
распоряжении нет мерок настолько точных, чтобы оценивать ваши поступки,
сэр. И я снова призываю вас, сэр, либо дать удовлетворительное объяснение
относительно скандальных слухов по вашему адресу, либо отказаться от
должностей, на которых мы впредь не желаем с вами сотрудничать. Да, сэр,
мы не желаем впредь терпеть в своей среде человека, чья репутация не
очищена от грязи, нанесенной не только молвой, но и учиненными вами в
последнее время действиями.
- Позвольте мне, мистер Хоули, - сказал председатель. Мистер Хоули, еще
не остыв от гнева, полусердито поклонился и сел, сунув руки глубоко в
карманы.
- Мистер Булстрод, на мой взгляд, едва ли желательно продолжать наш
сегодняшний спор, - обратился мистер Тизигер к дрожащему, смертельно
бледному банкиру. - Я присоединяюсь к выраженному мистером Хоули общему
мнению, что, как христианину, вам, буде возможно, непременно следует
очистить себя от злосчастной клеветы. Я окажу вам в этом всяческое
содействие. Но должен сказать, ваша нынешняя позиция находится в
прискорбном противоречии с теми началами, с которыми вы стремитесь
отождествить себя и честь которых я обязан охранять. Как ваш священник и
как человек, уповающий, что вы вернете себе уважение сограждан, я вам
советую сейчас покинуть зал и не мешать нам заниматься делом.
После минутного колебания Булстрод взял шляпу и медленно встал, но тут
же пошатнулся, судорожно уцепившись за стул. Лидгейт понял, что у него не
хватит сил выйти без посторонней помощи. Как он должен был поступить? Он
не мог допустить, чтобы в двух шагах от него человек рухнул на пол. Он
встал, взял Булстрода под руку и, поддерживая, вывел из зала. Но хотя его
поступок был вызван только состраданием и жалостью, он испытывал в этот
момент невыразимую горечь. Казалось, он открыто подтверждал свой сговор с
Булстродом, как раз тогда, когда он понял, как выглядит в глазах
окружающих его роль. Сейчас он осознал, что этот человек, который трепеща
цеплялся за его руку, дал ему тысячу фунтов подкупа и злонамеренно нарушил
его указания, ухаживая за больным. Вывод напрашивался сам собой: все в
городе знают о займе, считают его подкупом и не сомневаются, что Лидгейт
его сознательно принял.
Бедняга Лидгейт, терзаемый этим ужасным открытием, тем не менее
почувствовал себя обязанным проводить Булстрода в банк, послать за его
каретой и отвезти домой.
Тем временем в ратуше торопливо покончили с делом, ради которого
собрались, и, разбившись кучками, принялись оживленно судачить о Булстроде
и... Лидгейте.
Мистер Брук, до которого ранее долетали только туманные недомолвки,
сожалел, что "допустил излишнюю короткость" с Булстродом, и, беседуя с
мистером Фербратером, посочувствовал Лидгейту, попавшему в двусмысленное
положение. Мистер Фербратер собирался идти в Лоуик пешком.
- Садитесь в мою карету, - сказал мистер Брук. - Я еду к миссис
Кейсобон. Вчера вечером она должна была вернуться из Йоркшира. Она рада
будет со мной повидаться, знаете ли.
По дороге благожелательный мистер Брук выразил надежду, что Лидгейт не
сделал ничего предосудительного... такой незаурядный молодой человек,
мистер Брук это сразу заметил, когда тот явился к нему с рекомендательным
письмом от своего дяди, сэра Годвина. Глубоко опечаленный мистер Фербратер
не сказал почти ни слова" Он знал: человек слаб, и нельзя с уверенностью
утверждать, как низко мог пасть Лидгейт, стремясь избавиться от
унизительных долгов.
Когда карета подъехала к воротам, Доротея, гулявшая в это время в
парке, подошла встретить гостей.
- Ну-с, моя милая, - сказал мистер Брук. - А мы только что были на
собрании в ратуше, обсуждали, знаешь ли, санитарные предупредительные
меры.
- Там был и мистер Лидгейт? - спросила Доротея. Оживленная, полная сил,
она стояла с непокрытой головой, озаренная сверкающим светом апрельского
солнца. - Мне необходимо встретиться с ним и подробно обсудить все, что
касается больницы. Мы так условились с мистером Булстродом.
- Ах, моя милая, - со вздохом сказал мистер Брук, - мы привезли дурные
вести, дурные вести, знаешь ли.
Провожая мистера Фербратера домой, они прошли к калитке, которая вела
на кладбище, и по дороге Доротея узнала о беде, постигшей Лидгейта.
Она слушала с глубоким интересом, раза два спросила о подробностях,
касавшихся Лидгейта, и о том, какое впечатление он на них произвел.
Помедлив несколько мгновений у калитки, она с жаром обратилась к мистеру
Фербратеру:
- Вы ведь не верите, что мистер Лидгейт способен на подлость. И я не
верю. Так давайте же узнаем истину и защитим его от клеветы!
ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ. ЗАКАТ И ВОСХОД
72
Как бы двойное зеркало, душа
Родит ряды прекрасных отражений,
Вперед их продлевая и назад.
Благородный порыв Доротеи, загоревшейся желанием оградить Лидгейта от
подозрений в том, что он дал себя подкупить, неожиданно наткнулся на
препятствие: мистер Фербратер сумел ее убедить, как непросто что-то
предпринять в подобном положении.
- Дело очень щекотливое, - говорил он. - С чего начать расспросы? Можно
либо пойти официальным путем, обратившись к судебным властям, либо -
неофициальным, иными словами - поговорить с самим Лидгейтом. Первый путь
ненадежен - об этой истории ничего не известно точно иначе им
воспользовался бы Хоули. Разговаривать же на эту тему с Лидгейтом я,
право, не решусь. Он может это воспринять как смертельное оскорбление. Я
неоднократно убеждался, как трудно говорить с ним о его личных делах. К
тому же следовало бы заранее знать, что именно он сделал, в противном
случае нельзя предугадать исход беседы.
- Я уверена, что ничего предосудительного он не сделал. Люди всегда
оказываются лучше, чем полагают их ближние, - возразила Доротея.
За последние два года ей пришлось многое пережить, и одним из главных
итогов явилась горячая убежденность: нельзя судить о людях предвзято.
Впервые за все время их знакомства она почувствовала досаду на Фербратера.
Как можно осторожничать и думать о последствиях, как можно не верить в
торжество справедливости и добра, когда искренность и пыл - залог успеха.
Два дня спустя священник, дядюшка и Четтемы обедали у Доротеи, и когда
слуги принесли десерт и вышли, а мистер Брук, покачивая головой,
погрузился в дремоту, Доротея с прежней горячностью вернулась к тому же
предмету.
- Мистер Лидгейт, конечно, поймет, что, услышав о нем клевету, его
друзья немедленно пожелали его защитить. Для чего же мы живем, если не для
того, чтобы облегчать друг другу жизнь? Я не могу быть равнодушной к
горестям человека, который в моих горестях помог мне советом и ухаживал за
мной, когда я заболела.
Голос и манера Доротеи были ничуть не менее решительны, чем три года
назад, когда она хозяйничала за столом у дяди, а житейский опыт дал ей еще
больше оснований с убежденностью высказывать свое мнение. Но сэр Джеймс
Четтем уже не выступал в роли покорного и робкого вздыхателя; сейчас это
был заботливый зять, искренне восхищенный свояченицей, но неустанно
следящий за тем, чтобы она не стала жертвой новой ошибки, столь же
пагубной, как брак с Кейсобоном. Он улыбался реже, а фразу "совершенно
верно" употреблял гораздо чаще для того, чтобы предварить ею возражение, а
не согласие, как в ту пору, когда был холостяком. Доротея с удивлением
увидела, что ей требуется вся ее решимость, чтобы противостоять ему, в
особенности потому, что он и впрямь являлся ее добрым другом. Возразил он
и сейчас.
- Но, Доротея, - произнес он с укором, - как можно вмешиваться таким
образом в чужие дела? Лидгейт, вероятно, знает, во всяком случае вскоре
узнает, что говорят о нем в городе. Если он ни в чем не виноват, то
оправдается. Но должен сделать это сам.
- Я думаю, друзьям его следует дождаться удобного случая, - вставил
мистер Фербратер. - Вполне возможно... я сам не раз поддавался слабости и
потому могу себе представить, что даже человек благородный, а Лидгейт
несомненно таков, способен принять деньги, нечто вроде платы за молчание о
давно миновавших событиях. Да, я могу себе представить, что он это сделал,
если он измучен гнетом житейских неурядиц, а его обстоятельства были и
впрямь нелегки. Что он способен на худшее, я не поверю, разве только мне
представят неопровержимые доказательства. Но есть проступки, которые
неминуемо влекут за собой тягчайшие последствия, их всегда можно объявить
преступлением, и человек не в силах оправдаться, хотя знает, что
невиновен.
- О, как это жестоко! - сжимая руки, произнесла Доротея. - Неужели вы
не захотите быть единственным, кто верит в его невиновность, хотя против
него ополчился весь свет? Кроме того, за человека говорит его репутация.
- Но, дорогая моя миссис Кейсобон, - с мягкой улыбкой возразил
Фербратер. - Репутация не мраморный монумент - как все живое, она
претерпевает изменения. Она подвержена и болезням, подобно человеческому
телу.
- Значит, ее нужно вылечить и защитить, - сказала Доротея. - Я прямо
попрошу мистера Лидгейта рассказать мне всю правду - ведь только зная все,
мы сможем ему помочь. Чего же мне бояться? Если решено, что я не покупаю
землю, Джеймс, мне ничто не мешает выполнить просьбу мистера Булстрода и
взять на себя попечительство над больницей. А если так, мне нужно будет
посоветоваться с мистером Лидгейтом, расспросить, хорошо ли, по его
мнению, поставлено в больнице дело и не следует ли что-нибудь изменить.
Вот и повод для доверительного разговора, дающего нам полную возможность
узнать, как все произошло. И уж тогда мы сможем за него вступиться и
оградить от неприятностей. Мы превозносим все виды отваги, кроме одного -
отважного заступничества за ближнего. - Глаза ее увлажнились и блестели,
зазвеневший голос разбудил мистера Брука, и тот прислушался к разговору.
- А ведь и в самом деле, следуя порыву сердца, женщины порою добиваются
успеха там, где мужчины терпят поражение, - сказал мистер Фербратер,
увлеченный пылом Доротеи.
- Женщине следует быть осмотрительной и слушать тех, кто лучше ее знает
жизнь, - хмуро возразил сэр Джеймс. - Что бы вы ни собирались сделать,
Доротея, вам пока следует погодить и не вмешиваться в эту историю с
Булстродом. Мало ли что еще может обнаружиться. Вы, конечно, со мной
согласны? - заключил он, взглянув на мистера Фербратера.
- Да, я думаю, нам нет нужды спешить, - ответил тот.
- Правда, правда, моя милая, - подтвердил мистер Брук, не имея
отчетливого представления, о чем идет спор, но вступая в него с советом,
который можно было истолковать как вздумается. - Тут, знаешь ли, нетрудно
зайти слишком далеко. У тебя горячая голова. И незачем, знаешь ли, так
торопиться тратить деньги на осуществление всяких затей. Гарт навязал мне
непомерное количество работ, строительных, по осушению и тому подобных.
Расходы непомерные - на то, на се. Пора бы приостановиться. Вы же, Четтем,
для чего-то вздумали окружить дубовой изгородью чуть ли не все свое
поместье - у вас целое состояние на это уйдет.
Доротея, неохотно покорившись, вместе с Селией ушла в библиотеку,
служившую ей обычно гостиной.
- Слушайся Джеймса, Додо, - сказала Селия, - если не хочешь снова
оказаться в неприятном положении. Это случается с тобой сплошь и рядом и
будет случаться каждый раз, когда ты вздумаешь поступать по-своему. Слава
богу, теперь Джеймс может подумать за тебя. Он ведь не мешает тебе
осуществлять твои проекты, только слишком увлекаться не дает. В этом
отношении брат лучше мужа. Муж бы не разрешил тебе ни того, ни другого.
- Да я вовсе не хочу замуж! - сказала Доротея. - Я одного только хочу,
чтобы не обуздывали на каждом шагу мои чувства.
Миссис Кейсобон была еще столь недисциплинированна, что расплакалась от
досады.
- Ну право же, Додо, - проворковала Селия голоском несколько более
горловым, чем обычно. - Ты сама себе противоречишь. У тебя все крайности.
Мистер Кейсобон так помыкал тобой, что просто стыд. Казалось, запрети он
тебе у меня бывать, ты и тогда бы ему покорилась.
- Разумеется, я покорялась ему, это ведь мой долг. Покорность мне
подсказывало чувство, - ответила Доротея, сквозь слезы глядя на сестру.
- Тогда почему ты не считаешь своим долгом хотя бы чуточку покориться
желаниям Джеймса? - торжествующе спросила Селия: довод показался ей
неопровержимым. - Он желает тебе только добра. А мужчины, разумеется,
лучше нас разбираются во всех делах, не считая тех дел, в которых женщины
разбираются лучше.
Доротея рассмеялась.
- Ну, ты знаешь: я говорю о детях и обо всем таком, - пояснила Селия. -
Я бы не стала подчиняться Джеймсу, когда он не прав, как ты вечно
подчинялась мистеру Кейсобону.
73
Сострадай! Ведь нежданное горе
Стережет и тебя и меня.
Успокоив миссис Булстрод, которой он объяснил, что ее мужу стало дурно
в душном зале ратуши и, вероятно, он вскоре оправится, а затем пообещав
назавтра навестить больного, если за ним не пришлют ранее, Лидгейт тотчас
же направился домой, оседлал лошадь и уехал за город, чтобы никого не
видеть.
Он был вне себя от ярости и боли, он проклинал тот день, когда приехал
в Мидлмарч. Казалось, с самого начала все вело его к этому ужасному
стечению обстоятельств, сгубившему его честолюбивые мечты и унизившему его
даже в глазах людей, о которых он был весьма невысокого мнения.
Естественно, что Лидгейт в этот миг ненавидел весь свет. Он казался сам
себе страдальцем и в каждом готов был видеть виновника своей беды. Он
мечтал совсем о другом, а окружающие, словно сговорившись, вторгались в
его жизнь и мешали ему. Его женитьба была роковой ошибкой. Он боялся
встретиться с Розамондой, пока не утихнет гнев, опасаясь, что, увидев ее,
даст волю раздражению. В жизни чуть ли не каждого человека наступает пора,
когда самые его благородные черты оборачиваются теневой стороной.
Мягкосердечие Лидгейта побуждало его не к нежности и состраданию, а к
опасению, как бы не совершить непоправимую жестокость. Его отчаяние было
невыносимым. Только тот, кто приобщился к радостям духовной жизни,
способен понять, как печально скатиться с ее высот, облагороженных мыслью,
полезной деятельностью, целью, - в трясину опустошающих душу житейских
дрязг.
Как можно жить, не оправдавшись в глазах людей, подозревающих его в
низком поступке? Возможно ли, ни с кем не объяснившись, уехать из
Мидлмарча, словно спасаясь бегством? С другой стороны, каким образом он
может себя обелить?
Сцена в зале ратуши, хотя он и не знал подоплеки многих обстоятельств,
достаточно ясно ему показала, в каком положении оказался он сам. Булстрод,
как видно, смертельно боялся разоблачений Рафлса. Виновен ли он в его
смерти и в какой мере, если - да? Здесь можно было многое предположить.
"Булстрод опасался, что тот выдаст мне его тайну, он хотел, оказав мне
услугу, принудить меня молчать - вот откуда его неожиданная щедрость.
Кроме того, возможно, ухаживая за больным, он нарушил мои указания. Боюсь,
что так. Но даже если нет - все считают, что он каким-то образом уморил
больного, а я взглянул на это преступление сквозь пальцы, чуть ли не был
сообщником. И все же... все же он, возможно, неповинен в его смерти;
отчего нельзя поверить, что деньги он мне дал просто потому, что от души
мне посочувствовал? Порою истинным оказывается то, что представляется нам
маловероятным, а наиболее правдоподобное - чистейшим вымыслом. Возможно,
когда этот человек умирал, Булстрод вел себя безукоризненно, и я напрасно
его заподозрил".
Положение его мучительно. Если даже его единственная цель -
оправдаться, если, не в силах вынести, что окружающие избегают его,
смотрят искоса, с сомнением пожимают плечами, если, не в силах все это
вынести, он сам объявит всем, как обстояло дело, - убедит ли он
кого-нибудь? Он ведь будет выглядеть глупцом, если сам станет
свидетельствовать в свою пользу, заверяя: "Меня никто не подкупал, и
обстоятельства - весомее утверждений". Да к тому же, рассказав все о себе,
он вынужден будет упомянуть и о Булстроде и представить его в еще более
сомнительном свете. Он должен будет сказать, что, когда впервые обратился
к Булстроду с просьбой дать ему взаймы, он не подозревал о существовании
Рафлса, а принял деньги в полном неведении того, какая существует связь
между исполнением его просьбы и вызовом к больному в Стоун-Корт. А ведь
Булстрода, возможно, подозревают напрасно.
Но тут он задал себе новый вопрос: поступал ли бы он точно так же, если
бы банкир не дал ему взаймы? Разумеется, если бы Рафлс остался жив и
нуждался в дальнейшем лечении, он, Лидгейт, приехав с очередным визитом и
заподозрив Булстрода в нарушении данных ему указаний, тотчас же строго
расспросил бы его и, подтвердись его догадка, отказался бы впредь
наблюдать больного, невзирая ни на какие денежные обязательства. Но если
бы этих обязательств не существовало, если бы Булстрод не спас его от
банкротства, воздержался ли бы Лидгейт от расспросов, обнаружив, что
пациент мертв? Сыграло ли бы для него и тогда такую же роль нежелание
обидеть Булстрода, сомнение в правильности своих указаний, боязнь
осуждения его методы со стороны коллег?
Вот что более всего тревожило Лидгейта, перебиравшего все
обстоятельства, чтобы выяснить, в чем его можно упрекнуть. Будь он
независим, он самым решительным образом потребовал бы точного выполнения
предписаний, которые полагал необходимыми для спасения жизни больного. В
нынешнем же своем положении он исходил из того, что если даже его указания
были нарушены, то ничего преступного тут нет, что, по мнению большинства,
самое добросовестное следование его указаниям точно так же могло бы
привести к смерти больного и, значит, вопрос этот чисто формальный. А
между тем в прежние времена он считал недопустимым подменять научные
сомнения нравственными и неустанно твердил: "В медицине чистейший
эксперимент должен быть добросовестным. Я занимаюсь спасением человеческих
жизней и обязан делать это как следует. Наука точнее, чем догматы церкви.
Догмат дает право на ошибку, в то время как наука тем и жива, что борется
с ошибками и не дает совести спать". Увы! Совесть ученого оказалась в
унизительном соседстве с денежными обязательствами и корыстными
соображениями.
"Кто еще из здешних врачей стал бы изводить себя сомнениями так, как я?
- задавал себе вопрос бедняга Лидгейт, терзаясь обидой на свою жестокую
судьбу. - А между тем все они отгораживаются от меня, словно я
прокаженный. Моя врачебная карьера и доброе имя погибли, это ясно. Даже
если бы я сумел привести неопровержимые доказательства своей невиновности
- это не произвело бы ни малейшего впечатления на здешних обывателей. Раз
уж они порешили, что я обесчещен, их никто и ничто не сможет разубедить".
Сейчас ему припомнилось, что, когда он расплачивался с долгами и
радовался, что дела его вновь пойдут на лад, жители города держали себя с
ним отчужденно, как-то странно поглядывали на него, а двое его пациентов,
как ему стало известно, прибегли к услугам другого врача. Все это прежде
озадачивало его, теперь стало понятным. Город начал его отвергать.
Неудивительно, что Лидгейт, деятельный и упорный по натуре, не
покорился своей доле. Суровая складка время от времени прорезала его
высокий лоб, и не случайно: после нескольких часов мучительных раздумий он
возвращался в город, твердо решив остаться в Мидлмарче, что бы его ни
ожидало. Он не отпрянет от злословия, не покорится ему. Нет, он вступит с
ним в бой и выдержит его без боязни. И благодарность к Булстроду он не
намерен скрывать - это было бы и трусливо, и невеликодушно. Хотя
союзничество с этим человеком погубило его и хотя, будь у него сейчас на
руках эта тысяча фунтов, он не стал бы платить долги, а возвратил все
деньги Булстроду и предпочел нищету унизительным подозрениям в
бесчестности (ибо, вспомним, гордыня была в великой степени ему присуща),
все же он не отвернулся бы от повергнутого в прах человека и, оправдывая
эту позицию, перенес гнев на других. "Я поступлю так, как считаю
правильным, и никому не собираюсь ничего объяснять. Они постараются выжить
меня отсюда, да только..." Он был полон решимости, но... приближался к
дому, и мысль о Розамонде вновь заняла главенствующее место, с которого ее
на время вытеснили терзания раненой гордости и чести.
Как отнесется к новости Розамонда? К его оковам прибавилась новая цепь,
и бедняга Лидгейт сейчас не был настроен кротко сносить молчаливую
укоризну жены. Он не испытывал стремления поделиться с ней горем, которое
и так им очень скоро предстояло разделить. Он предпочел дождаться случая,
который откроет Розамонде глаза, и знал, что он не за горами.
74
Пошли нам милость состариться вместе.
Книга Товита, Брачная молитва
В Мидлмарче жена не может долго пребывать в неведении о том, что в
городе дурно относятся к ее мужу. Даже самые задушевные приятельницы не
простирают свою дружбу до того, чтобы прямо объявить жене, что ее мужа
уличили либо подозревают в неблаговидном поступке. Но когда женщина, не
отягченная работой мысли, внезапно узнает о чем-нибудь, порочащем ее
ближних, ей трудно сохранить молчание, ибо на нее воздействует множество
соображений морального свойства. Одно из них - откровенность. Быть
откровенным на языке Мидлмарча означает, воспользовавшись первой же
возможностью, довести до сведения ваших знакомых, что вы отнюдь не
высокого мнения об их способностях, манерах и положении в свете.
Резвушка-откровенность всегда спешит поскорее высказать свое мнение. Далее
следует любовь к истине, многозначная фраза, но в Мидлмарче она означает
лишь одно: живейшее стремление не позволить жене быть незаслуженно
высокого мнения о муже или обнаруживать чрезмерное довольство своей
судьбой. Бедняжке тут же намекнут, что если бы она знала правду, то не
радовалась бы так своей шляпке и деликатесам, подаваемым на званом ужине в
ее доме. Самое могущественное из этих соображений - забота о нравственном
усовершенствовании подруги или, как порою говорилось, о ее душе, спасению
которой весьма способствовали мрачные намеки, каковые надлежало отпускать,
меланхолично глядя на диван или кресло и всем своим видом давая понять,
что вы умалчиваете о многом, дабы пощадить чувства слушательницы. Иными
словами, милосердие не жалело усилий, стремясь удручить заблуждающуюся для
ее же блага.
Среди простодушных жен, не ведающих о своих супружеских невзгодах, ни
одна не возбуждала столь ревностного участия доброжелательниц, как
Розамонда и ее тетушка Булстрод. В отличие от мужа, миссис Булстрод ни у
кого не вызывала неприязни и сама за всю жизнь ни души не обидела. Мужчины
считали ее красивой и привлекательной и одно из доказательств лицемерия ее
супруга усматривали в том, что он женился на цветущей мисс Винси, а не на
какой-нибудь чахлой, унылой особе, как приличествовало бы пренебрегающему
земными радостями праведнику. Когда открылась тайна ее мужа, они говорили
о миссис Булстрод: "Бедняжка! Она ведь сама честность... можете не
сомневаться - уж она-то ничего дурного не подозревала о нем". Ее близкие
приятельницы судачили о "бедненькой Гарриет", пытались вообразить себе,
что она почувствует, когда ей станет все известно, и строили предположения
о том, сколь много ей уже стало известно. К ней не испытывали
враждебности, скорее, заботливо стремились определить, что ей подобает
чувствовать и как поступать при сложившихся обстоятельствах, и при этом,
разумеется, перебирали все свойства ее характера и события ее жизни,
начиная с тех пор, когда она была Гарриет Винси, и кончая нынешним днем. А
говоря о миссис Булстрод, неизбежно вспоминали Розамонду, чьи перспективы
были столь же мрачны, как тетушкины. Розамонду строже осуждали, а жалели
меньше, хотя, разумеется, и ее, происходившую из уважаемого в городе
семейства Винси, считали жертвой опрометчивого брака. Винси не были лишены
слабостей, но они их не скрывали - от них не приходилось ждать "неприятных
сюрпризов". С миссис Булстрод не требовали ответа за прегрешения мужа. У
нее были свои недостатки.
- Всегда любила наряжаться и пускать пыль в глаза, - говорила миссис
Хекбат, угощая чаем избранный кружок приятельниц, - хотя и впала в
набожность вслед за мужем. Очень уж гордилась, что принимает у себя
священников и Бог-Знает-Кого из Риверстона и еще откуда-то.
- Ее нельзя за это осуждать, - сказала миссис Спрэг. - Из порядочных
людей почти никто не желал иметь дело с Булстродом, а в одиночку сидеть за
столом мало радости.
- Мистер Тизигер был расположен к ее мужу, - сказала миссис Хекбат. - Я
думаю, он об этом сейчас сожалеет.
- Он был приветлив с ним, но недолюбливал его, это все знают, - сказала
миссис Том Толлер. - Мистер Тизигер не одобряет крайностей. Он ценит
искренность в вере. А Булстрод по нраву только таким священникам, как
мистер Тайк, ханжам, распевающим псалмы по сектантским молитвенникам.
- Мистер Тайк, наверное, ужасно огорчен, - сказала миссис Хекбат. - Да
и как ему не огорчаться. Говорят, если бы не Булстрод, ему не удавалось бы
сводить концы с концами.
- А какой урон нанесен их учению, - проговорила миссис Спрэг, женщина в
годах, со старомодными взглядами. - Теперь едва ли кто-нибудь в Мидлмарче
рискнет похвастаться принадлежностью к методистам.
- Я полагаю, не стоит дурные поступки людей приписывать их верованиям,
- вмешалась молчавшая до этих пор остролицая миссис Плимдейл.
- Ох, душечка, простите, мы совсем забыли, - сказала миссис Спрэг. -
Нам не следовало затрагивать при вас эту тему.
- Я вовсе не пристрастна, - краснея, возразила миссис Плимдейл. - Не
спорю, мистер Плимдейл всегда был в добрых отношениях с мистером
Булстродом, а с Гарриет Винси мы подружились еще до замужества. Но я
всегда высказывала прямо свое мнение и возражала ей, если она
заблуждалась, бедняжка. И все же, что касается религии, должна сказать,
можно совершить и худшие преступления, чем Булстрод, не исповедуя никакой
веры. Он, конечно, хватал через край, мне больше по душе умеренность. Но
что правда - то правда. Не думаю, чтобы на скамье подсудимых сидели только
набожные люди.
- Я одно могу сказать, - проговорила миссис Хекбат, ловко придавая
разговору иное направление, - ей непременно нужно с ним разъехаться.
- Не думаю, - сказала миссис Спрэг. - Ведь она обещала делить с ним
радость и горе.
- Так-то оно так, но не тогда же, когда оказывается; что твоему мужу
место в тюрьме, - возразила миссис Хекбат. - Как можно жить с подобным
человеком! Чего доброго, еще яду подсыплет.
- Да, это чуть ли не поощрение преступности, когда порядочные женщины
сохраняют преданность подобным мужьям, - сказала миссис Том Толлер.
- А бедняжка Гарриет очень преданная жена, - сказала миссис Плимдейл. -
Своего мужа она считает лучшим из людей. Он и впрямь ей никогда ни в чем
не отказывал.
- Ну что ж, посмотрим, как она поступит, - сказала миссис Хекбат. - От
души надеюсь не встретить ее ненароком - до смерти боюсь проговориться о
ее муже. Вы полагаете, она еще ни о чем не догадывается?
- Скорее всего, нет, - ответствовала миссис Том Толлер, - говорят, он
заболел и с того четверга не выходит из дома. Зато она с дочерьми была
вчера в церкви, все трое в новых итальянских шляпках. А у нее так даже с
пером. Набожность, по моим наблюдениям, не мешает ей наряжаться.
- Она всегда одевается очень мило, - суховато возразила миссис
Плимдейл. - А перышко, я слыхала, специально выкрасила в скромный,
лиловатый цвет. Отдадим ей справедливость, Гарриет ведет себя достойно.
- И конечно, она недолго будет пребывать в неведении, - сказала миссис
Хекбат. - Винси уже все знают, так как мистер Винси был тогда в ратуше.
Ужасный удар для него. Ведь скандал коснулся не только его сестры, но и
дочери.
- Да, в самом деле, - подхватила миссис Спрэг. - Мистер Лидгейт теперь
едва ли будет важничать, как прежде. Уж слишком неприглядно выглядит эта
тысяча фунтов, которую ему вручили перед смертью того человека. Просто
мороз по коже дерет.
- Гордость до добра не доводит, - произнесла миссис Хекбат.
- Розамонду Винси мне меньше жаль, чем ее тетку, - сказала миссис
Плимдейл. - Розамонде нужен был урок.
- Булстроды, наверное, уедут за границу, - сказала миссис Спрэг. - Так
всегда делают, если в семье случится такое позорище.
- Тяжелее всех придется Гарриет, - сказала миссис Плимдейл. - Этот удар
ее просто убьет. Всем сердцем ей сочувствую. У нее есть недостатки, но
человек она прекрасный. Она еще девочкой просто прелесть была - скромная,
душевная, искренняя. А уж какая хозяйка - загляни к ней в комод, в каждом
ящике каждая вещь на своем месте. Дочек так же воспитала, и Кэт, и Эллен.
Нелегко ей будет среди иностранцев.
- Мой муж говорит, он посоветовал бы Лидгейтам жить среди иностранцев,
- сказала миссис Спрэг. - Он говорит, Лидгейту вообще не следовало уезжать
из Франции.
- Полагаю, его жене это пришлось бы по нраву, - сказала миссис
Плимдейл. - Вертушка, почище француженок. В мать, а не в тетку пошла, и
советов тетушкиных никогда не слушала - к слову, та ей прочила совсем
другого жениха.
Миссис Плимдейл оказалась в довольно сложном положении. Не только
дружба с миссис Булстрод, но и выгодные для красильной фабрики Плимдейла
деловые отношения с Булстродом вынуждали ее, с одной стороны, желать,
чтобы доброе имя банкира было восстановлено, с другой стороны - опасаться,
как бы ее не сочли излишне снисходительной. К тому же, породнившись с
Толлерами, она вошла в высшее общество, чем была очень довольна, хотя это
несколько противоречило ее приверженности истинам, на ее взгляд, тоже
высшим, но уже совершенно в ином смысле. Прозорливая маленькая фабрикантша
не знала, как ей совместить те и другие "высоты", а также удовольствие и
горечь, которые ей принесли события недавних дней, смирившие тех, кого
надо смирить, однако сделавшие своей жертвой ее старинную подругу, чьи
недостатки миссис Плимдейл предпочитала прозревать на фоне благосостояния.
А несчастная миссис Булстрод в преддверии беды чувствовала лишь, что
смутное беспокойство, не покидавшее ее со времени последнего визита Рафлса
в "Шиповник", стало заметней, острей. Когда этот гнусный человек больным
приехал в Стоун-Корт и ее муж перебрался туда за ним ухаживать, миссис
Булстрод с полным доверием отнеслась к заверению мужа, что Рафлс - его
бывший служащий, которому он помогал и прежде, а тем паче считает себя
обязанным поддержать его сейчас, когда он пал так низко. Вслед за этим муж
ей сообщил, что его собственное здоровье поправляется, так что он вскоре
сможет вернуться к делам, и простодушная миссис Булстрод окончательно
приободрилась. Ее спокойствие нарушилось, когда Лидгейт после собрания в
ратуше привез домой ее внезапно захворавшего супруга. Как ни успокаивал ее
доктор в последующие дни, миссис Булстрод не раз потихоньку плакала,
убежденная, что муж ее страдает не только от телесного недомогания, но и
еще от чего-то, сокрушающего его душу. Он не позволял жене читать ему,
даже сидеть подле него, уверяя, будто движение и шум раздражающе действуют
на его нервы. Миссис Булстрод тем не менее подозревала, что, запираясь в
кабинете, он изучает деловые бумаги. Что-то случилось, она не сомневалась
в этом. Быть может, крупный финансовый крах. Ничего определенного она не
знала и могла только гадать. Так прошло четыре дня. На пятый, не смея
расспрашивать мужа, она не пошла в церковь, дождалась Лидгейта и
обратилась к нему с вопросом:
- Мистер Лидгейт, умоляю, будьте со мной откровенны. Я хочу знать
правду. С мистером Булстродом что-то произошло?
- Небольшое нервное потрясение, - уклончиво ответил Лидгейт. Он
чувствовал себя не в силах нанести бедняжке удар.
- Но что вызвало это потрясение? - спросила миссис Булстрод, устремив
на него пытливый взгляд больших темных глаз.
- Атмосфера в залах общественных собраний зачастую пропитана ядовитыми
миазмами, - сказал Лидгейт. - Людям крепкого сложения они не вредят, зато
сказываются на тех, кто обладает хрупким организмом. Очень редко удается
предсказать, когда именно наступит припадок, точнее, объяснить, почему
человек обессилел именно в этот миг.
Этот ответ не удовлетворил миссис Булстрод. Она по-прежнему не
сомневалась, что ее мужа постигла какая-то беда, которую от нее скрывают,
а примиряться с такого рода неведением было не в ее натуре. Испросив у
мистера Булстрода разрешения отлучиться и оставить с ним на это время
дочерей, она отправилась в город с визитами, предположив, что от ее
внимания либо слуха не ускользнет Даже малейший признак, подтверждающий
справедливость ее опасений.
Она направилась к миссис Тизигер, которой не оказалось дома, затем
поехала к миссис Хекбат, жившей по другую сторону кладбища. Миссис Хекбат
увидела ее из окна и, вспомнив, как она боялась случайно встретить миссис
Булстрод, сперва намеревалась передать через слугу, что ее нет дома. Но
это желание было вытеснено другим: миссис Хекбат захотелось ощутить
опасную и острую прелесть беседы, в течение которой она, разумеется, ни
словечком не обмолвится о занимающем ее мысли предмете.
И вот миссис Булстрод проводили в гостиную, куда к ней вскоре вышла
миссис Хекбат, потирая ручки и поджимая губы более обычного, поскольку
полагала, что эти маневры помогут ей удержать язык за зубами. Она приняла
решение не справляться о здоровье мистера Булстрода.
- Вот уже почти неделю я бываю только в церкви, - сказала миссис
Булстрод, обменявшись с хозяйкой дома несколькими незначащими фразами. -
Мистеру Булстроду стало дурно на собрании в четверг, и мне не хотелось
оставлять его одного дома.
Миссис Хекбат одной рукой потерла другую, прижатую к груди, и взгляд ее
рассеянно блуждал по узору каминного коврика.
- Мистер Хекбат был там? - не отступалась миссис Булстрод.
- Да, - ответила миссис Хекбат, не меняя позы. - Я думаю, землю
приобретут по подписке.
- Будем надеяться, эпидемия нас минует и там не придется хоронить
умерших от холеры, - сказала миссис Булстрод. - Упаси боже от такой беды.
Я всегда считала, что в Мидлмарче очень здоровый климат. Вероятно,
привыкла, я ведь здесь выросла. Ни один город мне так не нравится, как
Мидлмарч, не представляю, как я могла бы жить в другом месте.
- Я, право же, была бы рада, если бы вы навсегда остались жить в
Мидлмарче, миссис Булстрод, - ответствовала миссис Хекбат с легким
вздохом. - Но увы, жизнь учит нас подавлять наши желания, покорствуя
жребию. Тем не менее в нашем городе, конечно, всегда найдутся люди,
душевно расположенные к вам.
Миссис Хекбат очень хотелось сказать: "Послушайтесь доброго совета,
уйдите от мужа", но, ясно чувствуя, что бедняжка не подозревает, какой
гром готов грянуть над ее головой, она сочла возможным лишь слегка ее
подготовить. Миссис Булстрод пронизал холодный трепет: вне всякого
сомнения, миссис Хекбат неспроста вела такие речи. Но хотя миссис Булстрод
для того и выехала из дому, чтобы узнать все до конца, мужество ее
покинуло, и, малодушно переменив предмет беседы, она принялась
расспрашивать о юных Хекбатах и вскоре попрощалась, сказав, что хочет
повидаться с миссис Плимдейл. По дороге к дому этой дамы она решила, что
на собрании, вероятно, возник более резкий, нежели обычно, спор между
мистером Булстродом и его постоянными неприятелями, среди которых был,
возможно, мистер Хекбат. Это объясняло все.
Но во время разговора с миссис Плимдейл это обнадеживающее объяснение
событий потеряло в ее глазах убедительность. "Селина" встретила подругу с
трогательной нежностью, выказывая склонность давать назидательные ответы
на самые банальные вопросы. И то и другое едва ли свидетельствовало о том,
что на собрании в ратуше произошла всего лишь перебранка, главным
следствием которой явилось разлитие желчи у мистера Булстрода. Поначалу
миссис Булстрод считала, что предлагать вопросы миссис Плимдейл окажется
легче, нежели другим. К своему удивлению, она обнаружила, что старая
подруга отнюдь не всегда годится на роль конфидантки: слишком свежи в
памяти беседы с ней при совершенно иных обстоятельствах, нет желания
служить предметом жалости и выслушивать горькие истины от той, с кем ты в
течение долгих лет привыкла обращаться покровительственно. По временам
миссис Плимдейл перемежала беседу загадочными заверениями в своей
решимости ни в коем случае не изменять старинной дружбе, каковые
окончательно убедили миссис Булстрод, что произошла какая-то беда, и
вместо того, чтобы со свойственной ей прямотой спросить: "На что ты
намекаешь?", она поспешила удалиться, боясь услышать нечто более
определенное. Полная смятения, она все больше убеждалась, что, как видно,
дело не в финансовых потерях, а в чем-то более серьезном, ибо от ее
внимания не укрылось, как и "Селина", и миссис Хекбат деликатно пропускали
мимо ушей все ее упоминания о муже, словно речь шла о чем-то постыдном.
Торопливо распростившись с подругой, миссис Булстрод велела кучеру
ехать к складу мистера Винси. За то краткое время, которое, терзаемая
неизвестностью, она провела в карете, ужас ее достиг таких пределов, что,
когда она вошла в контору к брату, у нее дрожали колени, а всегда румяное
лицо стало мертвенно-бледным. Обуревавшее ее волнение отчасти передалось и
ему. Он встал, шагнул ей навстречу, взял за руку и со свойственной ему
порывистостью воскликнул:
- Бог да поможет тебе, Гарриет! Ты знаешь все!
Пожалуй, этот миг был самым тяжким. В пору великих потрясений такие
минуты, когда все чувства напряжены до предела, приоткрывают главное в
натуре человека и позволяют предсказать, чем завершится борьба, которая
пока еще длится. Если бы не воспоминание о Рафлсе, быть может, даже в этот
миг воображению миссис Булстрод не рисовалось бы иной беды, кроме
разорения. Но сейчас полные глубокой жалости слова и лицо брата внезапно
навели ее на мысль, не совершил ли мистер Булстрод чего-нибудь дурного...
затем она с ужасом представила себе мужа обесчещенным, а затем, пережив
миг жгучего стыда, когда она ощущала себя словно выставленной на всеобщее
обозрение, она перенеслась к нему единым порывом сердца, чтобы, скорбя, но
не укоряя, разделить с ним позор и одиночество. Все это пронеслось в ее
сознании молниеносно, она успела только опуститься в кресло и взглянуть на
брата, стоявшего рядом.
- Я ничего не знаю, Уолтер. Что произошло? - спросила она слабым
голосом.
Он рассказал ей все, отрывисто, бессвязно, всячески стараясь
подчеркнуть, что в обвинениях многое не доказано, в особенности
обстоятельства, связанные с Рафлсом.
- Без пересудов не обойтись, - сказал он. - Даже если человека
оправдают присяжные, все равно у него за спиной судачат, перемигиваются,
качают головами... так уж водится, и безразлично, виноват он или нет.
Страшный удар, он сокрушил и Лидгейта, не только Булстрода. Не берусь
судить, что в этих слухах правда. Я об одном только жалею: что нам
пришлось услышать эти имена - Булстрод и Лидгейт. Лучше бы ты до конца
своих дней осталась Винси и Розамонда - также.
Миссис Булстрод промолчала.
- Но не падай духом, Гарриет. Тебя никто ни в чем не обвиняет. А я тебя
не оставлю, что бы ты ни решилась предпринять, - сказал брат с грубоватой,
но искренней нежностью.
- Проводи меня до кареты, Уолтер, - сказала миссис Булстрод. - Я еле
держусь на ногах.
По возвращении домой она могла лишь сказать дочери:
- Я плохо чувствую себя, душенька, мне придется лечь. Позаботься об
отце. Пусть никто ко мне не входит. Обедать я не буду.
Она заперлась в своей комнате. Ей требовалось время, чтобы утихла боль,
чтобы смириться со своей новой судьбой, с жизнью, подрезанной под корень,
и уж затем со всей решимостью занять определенное ей ныне положение Муж
предстал перед ней в неожиданном, безжалостно ярком свете, и судить его
снисходительно она не могла: ей вспомнилось, как в течение, двадцати лет
супружества она благоговейно преклонялась перед ним, утаившим от нее столь
многое, и могла назвать его только гнусным обманщиком Он женился на ней,
скрыв от нее свое темное прошлое, и она больше не верила ему и не смела
защищать от самых страшных обвинений, которые на него возводили.
Прямодушная, привыкшая жить на виду, она особенно горько страдала,
разделяя с ним заслуженный позор.
Но эта дурно образованная женщина, чья речь и привычки являли собой
весьма пеструю смесь, знала, что такое верность. Человека, с которым она
прожила в богатстве и довольстве почти половину жизни, неизменно
окруженная его нежной заботой, постигла кара, значит, его немыслимо
предать. Есть предательницы, сидящие за одним столом, возлежащие на том же
ложе и иссушающие душу того, кто предан ими, своей холодной близостью. Она
знала, что когда отопрет дверь, то отопрет ее, готовая прийти к мужу и
разделить его горе, а о вине его сказать: скорблю и не упрекаю. Но ей
нужно было время, чтобы собраться с силами, ей нужно было оплакать
прощание с прежней гордой, беспечальной жизнью. Решившись, наконец, она
принялась готовиться к встрече с мужем, и бессердечный наблюдатель мог бы
счесть ее поступки блажью. Всем зрителям, и видимым, и невидимым, она
показывала как умела, что начала новую жизнь, в которой избрала своим
уделом смирение. Она сняла все украшения и надела простое черное платье,
гладко причесала пышно взбитые волосы, а нарядную шляпку с пером сменила
на простой чепец, в котором неожиданно стала похожа на методистку старых
времен.
Булстрод, знавший, что жена ездила в город, а воротившись, сказалась
больной, провел все это время в не меньшем волнении. Он предвидел еще
прежде, что она может узнать правду от посторонних, и предпочитал это
необходимости сделать признание самому. Но сейчас он ожидал ее в
мучительной тревоге. Он заставил дочерей уйти из комнаты и, хотя позволил
принести ему еду, не прикоснулся к ней. Он чувствовал, как погружается в
пучину горя, ни в ком не вызывая сострадания. Жена, быть может, никогда
уже не взглянет на него с любовью. А если обратиться к богу, ему казалось,
бог не даст ответа, а лишь пошлет ему возмездие.
Было уже восемь часов, когда отворилась дверь и вошла она. Он не смел
поднять на нее глаз. Он сидел понурившись, и ей даже показалось, что он
стал меньше ростом - так он съежился, сжался. Привычная нежность и
непривычная жалость волной захлестнули ее, и, взяв его одной рукой за
руку, а вторую положив ему на плечо, она произнесла торжественно, но
мягко:
- Посмотри на меня, Никлас.
Слегка вздрогнув, он поднял на нее глаза и на мгновение застыл,
изумленный: траурное одеяние, бледное лицо, дрожащие губы, все говорило:
"я знаю", а глаза и руки с нежностью обращены к нему. Он разрыдался, она
села с ним рядом, и они плакали вместе. Они еще не могли говорить ни о
бесчестье, которое она с ним разделяла, ни о поступках, которыми он навлек
на них позор. Он молчаливо ей во всем признался, она молчаливо обещала ему
верность. При всем своем прямодушии она как огня страшилась слов, которые
открыто выразили бы то, что они оба знали. Она не могла спросить: "Что в
этих слухах - просто клевета и пустые подозрения?", и он не мог ответить:
"Я не виновен".
75
Ощущение пустоты изведанных удовольствий
и неосведомленность в тщете удовольствий
неизведанных рождают непостоянство.
Паскаль
Утраченная жизнерадостность на время воротилась к Розамонде, когда
суровая фигура судебного исполнителя перестала омрачать их домашний очаг и
несговорчивым кредиторам было уплачено. Но веселой она не стала:
супружеская жизнь не оправдала ее девичьих надежд и не сулила радостей в
дальнейшем. В этот краткий промежуток затишья Лидгейт, помня, как
несдержан он часто бывал под гнетом тревог и как невнимателен к огорчениям
Розамонды, стал с ней очень нежен. Но в его нежности не было прежнего
пыла, он не оставил привычки напоминать ей о необходимости сократить
расходы и еле сдерживал гнев, если жена отвечала ему на это, что хочет
переехать в Лондон. Правда, временами Розамонда ничего не отвечала и с
томным видом размышляла, как безрадостна ее жизнь. Оброненные в гневе
жестокие и презрительные слова, столь непохожие на те, которые Лидгейт
говорил ей в пору первой влюбленности, больно ранили ее тщеславие; и так
как ее по-прежнему раздражали его "причуды", она считала себя несчастной и
его ласки принимала холодно. Положение их в обществе незавидно, из
Куоллингема никаких вестей... в жизни Розамонды не было просвета, не
считая редких писем от Уилла Ладислава. Решение Уилла покинуть Мидлмарч
уязвило и разочаровало Розамонду, которая, хотя и знала о его преклонении
перед Доротеей, тайно тешила себя надеждой, что перед нею он преклоняется
или же будет преклоняться гораздо больше. Розамонда принадлежала к
женщинам, глубоко убежденным, что каждый мужчина готов предпочесть их всем
остальным, если бы это не было безнадежно. Миссис Кейсобон весьма мила,
конечно, но ведь Уилл заинтересовался ею до того, как познакомился с
миссис Лидгейт. Розамонда полагала, что за принятой им манерой то шутливо
ее поддразнивать, то изъявлять преувеличенно пылкое восхищение скрывается
более глубокое чувство. Это приятно щекотало ее тщеславие, и она
испытывала в присутствии Уилла тот романтический подъем, которого уже не
вызывало в ней присутствие Лидгейта. Она даже вообразила себе - в таких
делах чего только не померещится, - что Уилл в пику ей преувеличивает свое
преклонение перед миссис Кейсобон. Все это очень занимало бедняжку до
отъезда Уилла. Он был бы, думала она, более подходящим мужем для нее, чем
оказался Лидгейт. Предположение глубоко ошибочное, ибо Розамонда была
недовольна супружеской жизнью из-за самих условий, которые предъявляет нам
супружеская жизнь, требующая самоотверженности и терпимости, а не потому,
что ей достался не тот муж. Но чувствительные грезы о несбыточном лучшем
увлекали ее, разгоняя скуку. Она сочинила даже небольшой роман, Дабы
оживить свое унылое существование: Уилл Ладислав до конца своих дней
остается холостяком и живет неподалеку от нее, всегда готовый к услугам,
пылая несомненной, но скрываемой за недомолвками страстью, вспышки которой
по временам разнообразят ее жизнь. Можно вообразить себе, какую досаду
вызвал в ней его отъезд и каким невыносимо скучным стал казаться ей
Мидлмарч; впрочем, на первых порах в запасе оставались приятные мечты о
дружбе с куоллингемской родней. Но позже Розамонда, чья супружеская жизнь
омрачилась новыми тяготами, не находя иных источников утешения, с
сожалением припоминала этот незатейливый роман. Печальную ошибку совершаем
мы, принимая смутное томление духа порой за признак гения, порою за
религиозность и чаще всего за истинную любовь. Уилл Ладислав писал
Лидгейтам пространные письма, обращаясь то к нему, то к ней; отвечала ему
Розамонда. Она чувствовала: их разлуке вскоре должен наступить конец, и
горячо желала переехать в Лондон. В Лондоне все станет хорошо; она тихо и
упорно добивалась осуществления этой цели, как вдруг нежданное радостное
известие еще больше воодушевило ее.
Пришло оно вскоре после памятного собрания в ратуше и представляло
собой не что иное, как письмо, полученное Лидгейтом от Ладислава, который
главным образом писал о программе освоения Дальнего Запада - своем
последнем увлечении, но между делом упоминал, что через несколько недель
ему придется побывать в Мидлмарче - весьма приятная необходимость,
добавлял он, почти то же, что каникулы для школьника. Он надеялся, что его
ожидает старое местечко на ковре и музыка... море музыки. Правда, он пока
никак не мог назвать дату своего приезда. Лидгейт читал это письмо вслух,
и личико Розамонды напоминало оживающий цветок - оно расцвело улыбкой и
похорошело. Все гадкое, несносное осталось позади: долги уплачены, мистер
Ладислав приезжает, и Лидгейт согласится переехать в Лондон, который "так
не похож на провинцию".
Ей все казалось лучезарным. Но вскоре над ее головкой вновь собрались
тучи. Муж стал мрачен, и причина его угрюмого расположения духа, о которой
он не обмолвился ни словом, зная, что не встретит в Розамонде ни
понимания, ни сочувствия, оказалась крайне огорчительной и странной.
Розамонде даже в голову не приходило, что угроза ее благоденствию может
явиться с такой стороны Приободрившись и думая, что муж просто хандрит,
чем объясняется его необщительность и молчаливость, она решила через
несколько дней после собрания в ратуше, не спрашивая его совета, разослать
приглашения на небольшой званый ужин. Замечая, что знакомые словно
чуждаются их, и желая возобновить добрососедские отношения, она не
сомневалась в своевременности и разумности этого шага. Когда приглашения
будут приняты, она все расскажет мужу, попеняв ему за непростительную для
практикующего врача беспечность. Розамонда была очень строга, когда дело
касалось обязанностей других людей. Однако все ее приглашения были
отклонены, и последний отказ попал в руки Лидгейта.
- Это от Чичли - его каракули. О чем он тебе пишет? - удивленно сказал
Лидгейт, вручая жене записку. Розамонде ничего не оставалось, как показать
ему ее, и Лидгейт яростно проговорил:
- Как тебе пришло в голову рассылать такие приглашения без моего
ведома, Розамонда? Я прошу, я требую, чтобы ты никого не приглашала в дом.
Полагаю, ты пригласила и других и они тоже отказались.
Она не ответила.
- Ты меня слышишь? - прогремел Лидгейт.
- Да, разумеется, я слышу тебя, - сказала Розамонда, грациозно повернув
в сторону головку на лебединой шее.
Лидгейт неграциозно тряхнул головой и тотчас вышел, чувствуя, что не
ручается за себя. У Розамонды не возникло мысли, что для его
категоричности имеются особые причины, она просто подумала, что муж
становится все более невыносимым. Зная наперед, как мало участия проявляет
она к его делам, Лидгейт давно уже ей ничего не рассказывал, и о
злополучной тысяче фунтов Розамонде было известно лишь, что она одолжена у
ее дяди Булстрода. Сейчас, когда их денежные затруднения остались позади,
ей казались совершенно необъяснимыми неприятная угрюмость Лидгейта и явная
отчужденность знакомых. Если бы приглашения были приняты, Розамонда
заехала бы к родителям, у которых не была уже несколько дней, и пригласила
мать и остальных; сейчас она надела шляпку и отправилась туда расспросить,
что случилось и почему все, словно сговорившись, избегают их, оставляя ее
наедине с нелюдимым, неуживчивым супругом. Она пришла после обеда и
застала отца к мать в гостиной. Они печально посмотрели на нее, сказав:
"Это ты, душенька!" - и ни слова больше. Никогда она не видела отца таким
подавленным. Сев рядом с ним, она спросила:
- Что-то случилось, папа?
Мистер Винси промолчал, а жена его сказала:
- Ах, душенька, неужели ты еще не слыхала? Не сегодня-завтра придется
узнать.
- Что-нибудь с Тертием? - спросила Розамонда, бледнея: ей вспомнилась
его казавшаяся непонятной угрюмость.
- Да, милочка, увы. Только подумать, сколько огорчений приносит тебе
этот брак. Сперва долги, а нынче и похуже.
- Постой, Люси, постой, - вмешался мистер Винси. - Розамонда, ты еще
ничего не слыхала о дяде Булстроде?
- Нет, папа, - ответила бедняжка, чувствуя, что до сих пор не знала еще
настоящей беды, стиснувшей ее сейчас железной хваткой, от которой замерло
ее сердечко.
Отец все рассказал ей, добавив в конце:
- Тебе следовало узнать правду, дорогая. Лидгейту, я думаю, придется
уехать. Все обстоятельства против него. Сомневаюсь, чтобы он смог
оправдаться. Сам я не виню его ни в чем, - закончил мистер Винси, прежде
всегда готовый бранить зятя.
Розамонда похолодела. За что ей выпала эта жестокая доля - стать женой
человека, о котором ходят позорные слухи? Нас часто более всего страшит не
само преступление, а связанный с ним позор. Беда ее была бы много горше,
если бы муж и в самом деле совершил нечто преступное, но сделать такой
вывод Розамонда смогла бы, только основательно обдумав и взвесив все
обстоятельства - занятие, которому она не предавалась никогда. Большего
позора, казалось ей, не существует. Как наивна и доверчива была она, когда
так радовалась, выйдя замуж за этого человека и породнившись с его семьей!
Впрочем, со свойственной ей сдержанностью она лишь сказала родителям, что
если бы Лидгейт ее слушался, он бы уже давно уехал из Мидлмарча.
- Девочка отлично держится, - сказала мать после ее ухода.
- Что ж, слава богу! - отозвался мистер Винси, подавленный гораздо
более, чем дочь.
Но Розамонда вернулась домой, пылая праведным гневом. В чем повинен ее
муж, как он в действительности поступил? Она не знала. Почему он ничего ей
не сказал? Он не счел нужным поговорить с ней об этом предмете -
разумеется, и она не станет с ним говорить. У нее мелькнула мысль уйти к
родителям, но, подумав, Розамонда ее отмела - унылая перспектива жить в
родительском доме, будучи замужем. Розамонда не представляла себе, как она
сможет существовать в столь странной ситуации.
В течение последующих двух дней Лидгейт заметил происшедшую с женой
перемену и понял, что она все знает. Заговорит она с ним или так и будет
до скончания веков молчать, намекая таким образом, что верит в его
виновность? Вспомним, Лидгейт находился в том болезненно-угнетенном
состоянии духа, в котором мучительно почти любое соприкосновение с людьми.
Правда, и у Розамонды имелись причины жаловаться на его недоверчивость и
скрытность. Но, глубоко обиженный, он оправдывал себя: нет, не зря он так
боялся поделиться с ней своей бедой - ведь сейчас, когда ей все известно,
она и не думает заговорить с ним. И все же ему не давало покоя сознание
своей вины и все труднее становилось выносить их взаимное молчание. Они
были похожи на людей, потерпевших крушение, которые носятся по морю на
одном обломке судна, не глядя друг на друга.
"Я глупец, - подумал он, - чего я ждал? Ведь обвенчался я не с помощью,
а с заботой". В тот же вечер он сказал:
- Розамонда, до тебя дошли какие-то дурные вести?
- Да, - ответила она, отложив в сторону рукоделие, которым вопреки
обыкновению занималась рассеянно и без усердия.
- Что же ты слышала?
- Наверное, все. Мне рассказал папа.
- Меня считают опозоренным?
- Да, - отвечала она еле слышно и снова машинально взялась за шитье.
Оба молчали. Лидгейт подумал: "Если бы она в меня верила, если бы ей
было ясно, каков я, что собой представляю, она сразу же сказала бы, что во
мне не сомневается".
Но Розамонда продолжала вяло двигать пальчиками. По ее мнению, уж если
кто и должен был заговорить, так это Тертий. Ведь ей ничего не известно. К
тому же, если он совсем не виноват, то почему он не пытается защитить свою
репутацию?
Ее молчание еще больше обострило ту обиду, с которой Лидгейт твердил
себе, что никто ему не верит, даже Фербратер за него не вступился. Он стал
предлагать ей вопрос за вопросом, надеясь втянуть в разговор и рассеять
окутавший их холодный туман, но неприязненность Розамонды его
обескуражила. Как всегда, она одну себя считала несчастной. Муж в ее
глазах был совершенно посторонним человеком, неизменно поступавшим ей
наперекор. Он сердито вскочил и, сунув руки в карманы, принялся
расхаживать по комнате. В то же время в глубине души его не оставляло
сознание, что нужно овладеть собой, рассказать все Розамонде и развеять ее
сомнения. Он ведь уже почти усвоил, что должен приспособляться к ней, и
поскольку ей не хватает сердечности, обязан быть сочувственным вдвойне.
Вскоре он вновь пришел к мысли, что должен объясниться с нею откровенно:
когда еще представится такой удобный случай? Если он сумеет ее убедить,
что позорящие его слухи - клевета, с которой надлежит бороться, а не
бежать ее, и что причиной всему - их постоянная нужда в деньгах, ему,
может быть, также удастся внушить ей, как необходимо им обоим жить по
возможности скромно, чтобы переждать тяжелые времена и добиться
независимости. Он перечислит, что для этого нужно сделать, и она станет
его сознательной помощницей, сподвижницей. Попробовать необходимо - иного
выхода у него нет.
Он не заметил, долго ли метался по комнате, но Розамонда, находя, что
слишком долго, с нетерпением ждала, когда он, наконец, усядется. Она тоже
полагала, что пришел удобный случай внушить Тертию, как ему следует
поступить. Каким образом там все произошло, ей неизвестно, но одно
несомненно - их положение ужасно.
В конце концов Лидгейт сел - не на стул, где обычно сидел, а на тот,
что был поближе к Розамонде, и, прежде чем начать нелегкий разговор,
повернулся к ней, глядя пристально и серьезно. К этому времени он
совершенно овладел собой и говорить собирался веско, так, словно не
предвидел возражений. Он уже даже открыл рот, как вдруг Розамонда, уронив
на колени руки, повернулась к нему и сказала:
- Право, Тертий...
- Да?
- Право, тебе, наконец, пора понять, что нам нельзя оставаться в
Мидлмарче. Я больше не могу тут жить. И папа, и все говорят, что тебе
следует уехать. С теми невзгодами, которые мне придется переносить, я
легче справлюсь в любом другом месте.
Этого удара он не ждал. Вместо решительного объяснения, к которому он с
таким трудом себя подготовил, все вернулось на круги своя. Перенести это
он был не в состоянии. С изменившимся лицом он быстро встал и вышел.
Возможно, если бы у него хватило сил не отступиться от намерения
противопоставить ее духовной скудости свое великодушие, этот вечер
закончился бы более благотворно. Если бы он не обратился в бегство, ему,
быть может, удалось бы оказать воздействие на воображение и волю
Розамонды. Ведь даже взбалмошные и несговорчивые люди не всегда способны
противостоять влиянию более значительной личности. Под бурным натиском
могучей и пылкой души они могут, слившись с ней, отказаться от прежних
воззрений. Но беднягу Лидгейта терзала такая невыносимая мука, что
выполнить эту задачу у него не стало сил.
Общность мыслей и единство устремлений казались столь же
неосуществимыми, как прежде; и даже больше, ибо после неудачной попытки
Лидгейт окончательно разуверился в своих силах. Они жили бок о бок, чужие
друг другу. Преодолевая отчаяние, Лидгейт пытался работать, и при каждой
его резкости Розамонда все более утверждалась в сознании своей правоты.
Разговаривать с Тертием бесполезно, но, когда приедет Уилл Ладислав, она
непременно ему все расскажет. Всегда скрытная, и она нуждалась в друге,
который понял бы, как дурно с ней обходятся.
76
Мир, сострадание, любовь
Все в горе призывают,
И светом сладостным они
Нас в счастье озаряют.
Ведь мир, сходя к нам, облечен
В людское одеянье,
И человечен лик любви
И сердце состраданья.
Уильям Блейк, "Песни невинности"
Несколько дней спустя по приглашению Доротеи Лидгейт отправился в
Лоуик-Мэнор. Приглашение не явилось неожиданностью, поскольку ему
предшествовало письмо мистера Булстрода, в котором банкир сообщал, что
собирается, как и намеревался, покинуть Мидлмарч и должен напомнить
Лидгейту их недавний разговор по поводу больницы, о процветании которой
по-прежнему радеет. Перед тем как предпринять дальнейшие шаги, он счел
своим долгом еще раз обсудить этот предмет с миссис Кейсобон, которая
вновь выразила желание посоветоваться с Лидгейтом. "Ваши намерения,
возможно, несколько изменились, - писал мистер Булстрод, - но и в этом
случае желательно, чтобы вы известили о них миссис Кейсобон".
Доротея ждала его с нетерпением. Хотя из уважения к своим советчикам
она не стала, как выражался сэр Джеймс, "вмешиваться в булстродовскую
историю", тревога за Лидгейта не покидала ее ни на минуту, и, когда
Булстрод вновь напомнил ей о больнице, она почувствовала, что наконец-то
ей представился случай сделать то, что она давно уже замышляла. Живя в
богатом доме, прогуливаясь под раскидистыми ветвями деревьев, она
терзалась, вынужденная сдерживать порывы чуткого, отзывчивого сердца. Она
была одержима пылким стремлением помочь ближним делом, и, стоило ей узнать
о ком-то, нуждающемся в поддержке, бездеятельность становилась для нее
невыносимой, а собственное довольство казалось постылым. На встречу с
Лидгейтом она возлагала огромные надежды, не смущаясь тем, что слышала о
его сдержанности, не смущаясь также и тем, что она женщина и еще очень
молода. Ей представлялось крайне неуместным думать о своем возрасте и
поле, когда ее ближний нуждается в участии.
Поджидая Лидгейта в библиотеке, она перебирала в памяти все, что могла
о нем припомнить. Их прежние встречи и разговоры были связаны с ее
замужеством, с его печалями и опасениями... хотя нет, ей вспомнились два
случая, когда, отдаваясь в ее сердце щемящей болью, облик Лидгейта
сливался с обликом его жены и кого-то еще. Боль смягчилась, но ее
отголоски сделали Доротею прозорливой во всем, касающемся миссис Лидгейт,
и позволили ей догадываться о том, что представляет собой семейная жизнь
Лидгейтов. Эта мысль ее поразила, глаза ее засверкали, она замерла в
напряженном ожидании, хотя перед ее взором был только дерн да
распускающиеся почки, ярко зеленевшие на темном фоне хвои.
Когда вошел Лидгейт, ее ужаснула перемена в его лице, для нее особенно
заметная, ибо она не видела его целых два месяца. Он не выглядел
изнуренным, но постоянная раздражительность и уныние уже отметили его
черты печатью, которую они налагают даже на молодые лица. Доротея радушно
протянула ему руку, и, когда он встретил ее приязненный взгляд, выражение
его лица смягчилось, но, увы... печалью.
- Я давно уже горячо желаю повидать вас, мистер Лидгейт, - заговорила
Доротея, когда они сели, - но я откладывала нашу встречу до тех нор, пока
мистер Булстрод вновь не обратился ко мне с письмом по поводу больницы.
Мне известно, что возможностью учредить эту независимую от старой больницу
мы обязаны вам или, во всяком случае, той надежде на благотворные
результаты, которую мы питаем, зная, что попечительство над больницей
вверено вам. Вы, конечно, не откажетесь изложить мне подробно ваши
соображения.
- Вы хотите посоветоваться со мной, прежде чем решитесь оказать
больнице щедрую помощь, - сказал Лидгейт. - Если вы предполагаете при
этом, что больница останется в моем ведении, я не считаю себя вправе
давать вам такой совет. Возможно, я буду вынужден покинуть город.
Он ответил резко: невыносимо было сознавать, как он зависим от капризов
Розамонды.
- Но вы сделаете это не потому, что вам не доверяют? - звонким
взволнованным голосом спросила Доротея. - Я знаю, какие слухи о вас ходят,
и убеждена - это прискорбное заблуждение. Я ни минуты в вас не
сомневалась. На подлость вы неспособны. Вы никогда не совершали ничего
бесчестного.
У Лидгейта перехватило дыхание. Он впервые за последнее время говорил с
человеком, не усомнившимся в его порядочности.
- Благодарю вас, - сказал он и ничего больше не смог добавить. Нечто
необычное случилось с ним: прежде он не представлял себе, что несколько
слов, произнесенных женщиной, могут для него так много значить.
- Прошу вас, расскажите мне, как все произошло, - отважно продолжала
Доротея. - Я уверена, что правда поможет вам восстановить ваше доброе имя.
Лидгейт вскочил и быстро подошел к окну, забыв, где он. Он так часто
мысленно взвешивал, сумеет ли все объяснить, не упоминая тех наблюдений
своих и мыслей, которые бросили бы тень подозрения - возможно,
несправедливого - на Булстрода, и так часто по здравом размышлении решал,
что никого не сможет переуверить... и вдруг Доротея побуждает его
совершить попытку, признанную им совершенно безнадежной.
- Так расскажите же мне все, - с простодушной горячностью просила
Доротея, - и мы вместе подумаем, как быть. Когда есть возможность
вступиться за невиновного, бездействовать дурно.
Лидгейт пришел в себя, обернулся и увидел лицо Доротеи, которая
смотрела на него с милой и доверчивой серьезностью. В присутствии существа
благородного, чьи порывы великодушны, а действия - самоотверженны, мы все
видим в ином свете: начинаем оценивать окружающее без суеты, во всей его
широте и верим, что и о нас не будут судить однобоко. Все это ощутил
сейчас Лидгейт, давно уже пребывавший под впечатлением, будто он тщетно
пытается противостоять напору увлекающей его неведомо куда толпы. Он
опустился на стул и почувствовал, как в присутствии женщины, не считающей
его лицемером, вновь становится самим собой.
- Мне не хотелось бы, - сказал он, - говорить дурно о Булстроде, в
трудную минуту одолжившем мне денег, хотя лучше бы мне не пользоваться
этой услугой. Он несчастен, гоним, в нем еле теплится жизнь. Но я
предпочитаю ничего не опускать в своем рассказе. Так отрадно найти
собеседницу, которая заранее мне верит, знать, что рассказ мой не будет
выглядеть так, словно я пытаюсь кого-то убедить в своей порядочности. Вы
ведь и к Булстроду будете столь же справедливы.
- Доверьтесь мне, - сказала Доротея. - Без вашего позволения я никому
не скажу ни слова. Но по крайней мере я смогу утверждать, что после
разговора с вами мне стали ясны все обстоятельства и я уверена в вашей
полной невиновности. Мистер Фербратер поверит мне, и дядюшка, и сэр
Четтем. И не только они, я поеду в Мидлмарч и кое у кого там побываю; эти
люди мало меня знают, но они мне поверят. Они поймут, что я добиваюсь
только справедливости и у меня нет других побуждений. Я сделаю все, что в
моих силах. У меня ведь так мало обязанностей, а эту я считаю наиболее
достойной.
Почти невозможно было слышать голос Доротеи, так по-ребячески рисующей
свои планы, и не поверить в их осуществимость. Глубокая задушевность,
звучавшая в ее интонациях, свидетельствовала о решимости защитить его от
предубежденных обвинителей. Лидгейт не стал смущать себя мыслью, что она
сумасбродка; впервые в жизни он позволил себе, забыв о свойственной ему
самолюбивой сдержанности, полностью довериться сочувствию. Он все ей
рассказал, начиная с той поры, когда под давлением денежных затруднений
был впервые вынужден обратиться с просьбой к Булстроду; постепенно
разговорившись, стал входить в подробности: объяснил, что его метод
лечения противоречит принятой практике, объяснил и почему он в этой
практике усомнился, как мыслит себе врачебный долг, и поделился своей
тревогой, не сделала ли его излишне доверчивым оказанная ему Булстродом
услуга, хотя он ни в чем не нарушил общепризнанных обязанностей врача.
- Уже потом я узнал, - добавил он, - что Хоули посылал кого-то в
Стоун-Корт расспросить экономку, и она сказала, что дала больному весь
опиум из оставленного мною пузырька и большое количество коньяку. Но это
не противоречит предписаниям даже первоклассных врачей. Подозрения на мой
счет коренятся не здесь: они возникли, ибо известно, что я взял деньги и
что у Булстрода были веские причины желать смерти этого человека. Поэтому
предполагается, будто деньги он мне дал, чтобы подкупить меня и принудить
уморить больного... как плату за молчание по меньшей мере. Доказательств
нет, есть только подозрения, но опровергнуть их всего трудней, поскольку
людям хочется так думать, и переубедить их невозможно. Я не знаю, почему
не были исполнены мои распоряжения. Вполне вероятно, что Булстрод ничего
преступного не замышлял, возможно даже, он сам и не нарушил моих указаний,
просто не упомянул о недосмотре экономки. Но молве до этого нет дела.
Человек в подобных случаях заранее заклеймен - предполагается, будто он
совершил преступление, так как имел причину его совершить. А заодно с
Булстродом заклеймен и я, коль скоро взял у него деньги. Я оказался рядом
- грязь замарала и меня. Дело сделано, поправить ничего нельзя.
- Как это жестоко! - сказала Доротея. - Я понимаю, вам трудно защитить
себя. И надо же случиться, чтобы именно вы, предназначивший себя для
высших целей, искавший в жизни новых путей, оказались в таком положении...
Нет, я с этим не смогу примириться. Вы действительно не такой, как все. Я
помню, что вы сказали, когда впервые говорили со мной о больнице. Мне так
понятно ваше горе - ведь невыносимо тяжко поставить перед собой великую
цель, вложить в нее всю душу и потерпеть неудачу.
- Да, - сказал Лидгейт, ощутив, что, кроме Доротеи, ни в ком не
встретит столь глубокого сочувствия. - Да, у меня были честолюбивые мечты.
Я не предназначал себя для заурядного, я думал: я сильнее, я искуснее
других. Но самые непреодолимые препятствия - это те, которых, кроме нас
самих, никто не видит.
- Ну а что, если... - сказала Доротея. - Ну а что, если в больнице все
останется так, как задумано, и вы будете по-прежнему там работать,
пользуясь дружбой и поддержкой пока лишь немногих людей? Ваши
недоброжелатели со временем угомонятся, и люди признают, что были
несправедливы к вам, когда убедятся в чистоте ваших целей. Вы еще, быть
может, завоюете славу, как Луи и Лаэннек, о которых вы как-то упоминали, и
мы все будем гордиться вами, - с улыбкой заключила она.
- Все это было бы возможно, если бы я по-прежнему в себя верил, -
мрачно ответил Лидгейт. - Ничто меня так не бесит, как сознание полной
беспомощности перед злословием, полной зависимости от него. Поэтому я
никоим образом не могу просить вас выделить большую сумму денег на
проекты, исполнение которых зависит от меня.
- Нет, я рада буду это сделать, - возразила Доротея. - Вот глядите. Я
ума не приложу, что делать с деньгами: мне самой так много не надо, а на
мой излюбленный проект их, говорят, не хватит. Просто не знаю, как мне
быть. Я получаю в год семьсот фунтов своих, тысячу девятьсот фунтов -
оставленных мне мистером Кейсобоном, да еще в банке лежат три или четыре
тысячи наличными. Я собиралась взять большую сумму в долг, с тем чтобы
постепенно выплатить его из своего дохода, который мне не нужен, а на эти
деньги купить землю и основать деревню, которая станет школой разумного
труда, но сэр Джеймс и дядя меня убедили, что риск слишком велик. Так что
вы сами видите, как меня должна обрадовать возможность употребить мой
доход на полезное начинание, которое облегчит людям жизнь. Мне так неловко
получать эти ненужные мне деньги.
Сумрачное лицо Лидгейта осветила улыбка. Ребяческая горячность Доротеи,
соединявшаяся с тонким пониманием возвышенного, придавала ей неизъяснимое
очарование. (О низменном, играющем видную роль в этом мире, бедная миссис
Кейсобон имела весьма смутное понятие, и пылкая фантазия была мало
подходящим средством, чтобы его прояснить.) Впрочем, Доротея приняла
улыбку как знак одобрения ее планов.
- Я думаю, вы видите теперь, что проявили чрезмерную щепетильность, -
убежденно проговорила она. - Больница сама по себе доброе дело; возвратить
вам душевное равновесие - будет вторым.
Улыбка Лидгейта угасла.
- Вы и великодушны и богаты, - сказал он. - И в ваших силах осуществить
и то и то, если это осуществимо. Но...
Он замялся, рассеянно глядя в окно. Доротея молча ждала продолжения. Но
вот он повернулся к ней и выпалил:
- Стоит ли умалчивать? Вы знаете, какие оковы налагает брак. Вы все
поймете.
Сердце Доротеи забилось чаще. Так это горе ведомо и ему? Однако она не
решилась что-нибудь сказать, и он продолжил:
- Я теперь ничего не могу предпринять, ни единого шага, не думая о
благополучии моей жены. То, что я предпочел бы делать, будь я одинок,
стало для меня невозможным. Я не могу видеть ее несчастной. Она вышла за
меня замуж, не зная, что ее ждет, и, может быть, совершила ошибку.
- Я знаю, знаю, вы не смогли бы причинить ей боль, если бы вас не
вынудили обстоятельства, - сказала Доротея, в памяти которой ожила ее
собственная супружеская жизнь.
- А она решительно не желает здесь оставаться. Ей хочется уехать. Ей
надоели наши неурядицы, а с ними опротивел и Мидлмарч, - вновь перебил ее
Лидгейт, боясь, что Доротея скажет слишком много.
- Но когда она поймет, сколько добра вы сможете сделать, если
останетесь... - возразила Доротея и взглянула на Лидгейта, удивляясь, как
мог он забыть все, что они только что обсуждали. Он ответил не сразу.
- Она не поймет, - отозвался он угрюмо, предположив поначалу, что его
слова не нуждаются в пояснении. - Да и у меня самого уже нет больше сил
барахтаться в этой трясине. - Он немного помолчал и вдруг, поддавшись
желанию показать Доротее, как нелегка его жизнь, сказал: - Дело в том, что
моя жена довольно смутно представляет себе все случившееся. У нас не было
возможности о нем поговорить. Не могу сказать с уверенностью, как рисуется
ей дело: может быть, она опасается, не совершил ли я и впрямь какой-то
подлости. Виновен в этом я - мне следовало быть с ней более откровенным.
Но я мучительно страдал.
- Можно мне навестить ее? - с жаром спросила Доротея. - Она не
отвергнет мое сочувствие? Я скажу ей, что никто не вправе осудить вас и вы
ответственны лишь перед собой. Я скажу, что только низкие люди способны
вас подозревать. Я волью бодрость в ее душу. Вы у нее спросите, можно ли
мне к ней приехать? Мы с ней уже Однажды виделись.
- Разумеется, можно, - обрадованно отозвался Лидгейт. - Она будет
польщена, я думаю, ее ободрит доказательство, что хотя бы вы сохранили ко
мне некоторое уважение. Я не буду предупреждать ее о вашем приезде, не то
она решит, будто вы исполняете мою просьбу. Я отлично понимаю, что должен
был все рассказать ей сам, не передоверяя никому, но...
Он умолк, и на мгновение наступила тишина. Доротея не стала говорить о
том, как хорошо ей известны невидимые преграды, препятствующие объяснению
жены и мужа. Тут и сочувствие могло нанести рану. Поэтому, возвратившись в
более безопасные сферы, она оживленно произнесла:
- А когда миссис Лидгейт узнает, что у вас есть друзья, которые в вас
верят и не отступаются от вас, она, быть может, захочет, чтобы вы не
уезжали и не отказывались от давних надежд, а продолжали заниматься делом,
которое себе выбрали. И тогда вы, возможно, поймете, что нужно согласиться
на мое предложение и продолжить работу в больнице. Как же может быть
иначе, ведь вы по-прежнему считаете, что только там ваши знания принесут
наибольшую пользу.
Лидгейт на это ничего не ответил, и она поняла, что он колеблется.
- Я не требую от вас немедленного решения, - проговорила она мягко. - Я
вполне могу подождать несколько дней, прежде чем отвечу мистеру Булстроду.
Лидгейт еще немного помолчал, но когда заговорил, ответ его звучал
весьма решительно.
- Нет. Я предпочитаю не тратить времени на ненужное раздумье. Я потерял
уверенность в себе, точнее - не могу теперь определить, что мне будет по
силам при изменившихся обстоятельствах. Я считаю бесчестным вовлекать
кого-либо в серьезное предприятие, выполнение которого зависит от меня.
Ведь, возможно, мне все же придется уехать, у меня мало надежд на иной
исход. Все это слишком неопределенно, и я не могу допустить, чтобы из-за
меня вы раскаялись в своем великодушии. Нет, пусть сольются старая и новая
больницы и все идет так, как шло бы без меня. Со дня приезда я веду книгу,
куда записываю истории болезней, и собрал таким образом много ценных
сведений; я отошлю ее человеку, который ее использует, - закончил он с
горечью. - Сам же я теперь долгое время буду думать только о том, как
приобрести надежный доход.
- О, как больно слышать от вас такие мрачные речи - сказала Доротея. -
Ваши друзья, все те, кто верит в ваше великое будущее, были бы счастливы,
если бы вы позволили им вас защитить. Только подумайте: ведь у меня так
много денег, вы освободили бы меня от бремени если бы каждый год принимали
у меня какую-то их долю покуда не избавитесь от тягостной необходимости
тревожиться о заработке. Почему люди не поступают так всегда? Ведь так
сложно поделить все на равные доли. Это единственный выход.
- Бог да благословит вас, миссис Кейсобон! - с жаром воскликнул
Лидгейт, вскочив с большого кожаного кресла, а затем, облокотившись о его
спинку, продолжал: - Такие чувства делают вам честь, но я не вправе
пользоваться вашим великодушным порывом. Я не могу ручаться за успех и не
позволю себе пасть так низко, чтобы брать плату за работу, которой, может
быть, не выполню. Мне совершенно ясно, что единственный путь для меня -
как можно скорее уехать отсюда. В Мидлмарче я даже в лучшем случае еще
очень долго не смогу обеспечить семью и... вообще на новом месте легче
начинать сначала. Я должен поступать как все, искать способа угождать
свету и наживать деньги, устроиться в Лондоне и пробить себе дорогу,
обосноваться на водах или где-нибудь за границей, где томятся бездельем
богатые англичане, добиться, чтобы все расхваливали и превозносили меня, -
вот раковина, в которой я должен укрыться и не высовывать из нее носа.
- Но ведь это немужественно - отказываться от борьбы, - сказала
Доротея.
- Да, это немужественно, - согласился Лидгейт. - Но ведь боятся же
люди, скажем, паралича. - И совсем другим тоном добавил: - А все же, после
того как вы поверили в меня, я уже не ощущаю себя таким трусом. Теперь мне
будет легче все перенести, и, если вы сможете убедить в моей честности еще
несколько человек - в первую очередь Фербратера, я буду вам глубоко
благодарен. Я прошу только ни словом не упоминать о том, что не были
исполнены мои указания по поводу больного. Тут могут возникнуть
кривотолки. Ведь и мне могут поверить лишь потому, что люди заранее
составили себе на мой счет определенное мнение. В конце концов вы же
только повторяете то, что я сам о себе рассказал.
- Мистер Фербратер поверит, поверят и другие, - сказала Доротея. - Я
всем им объясню, как нелепо предполагать, будто вы способны совершить
гнусность и принять подкуп.
- Не знаю, - отозвался Лидгейт, и в его голосе послышалось нечто
похожее на стон. - Пока я не давал себя подкупить. Но подкупность
принимает разные обличья, и одно из них именуется преуспеянием. Так вы
согласны оказать мне еще одну огромную услугу и побывать у моей жены?
- Да, я к ней поеду. Она очень красива, - сказала Доротея, в чьей
памяти глубоко запечатлелось все связанное с Розамондой. - Надеюсь, я ей
понравлюсь.
Лидгейт думал по дороге домой: "Это юное создание добротой может
сравниться с девой Марией. Собственное будущее ее не тревожит, она хоть
сейчас готова расстаться с половиной своего дохода; видно, единственное,
что ей нужно - кресло, где она будет восседать, взирая ясными очами на
бедных смертных, возносящих к ней свои молитвы. Из всех знакомых мне
женщин она единственная полна такого дружелюбия к мужчинам - она могла бы
стать мужчине настоящим другом. Кейсобона, я думаю, она идеализировала и
принесла себя в жертву. Хотелось бы мне знать, способен ли мужчина внушить
ей увлечение другого рода? Ладислав? Их несомненно связывало взаимное
чувство. Кейсобон, возможно, об этом догадывался. Да, ну что ж, ее любовь
- опора более могущественная, чем деньги".
А Доротея немедленно составила план, как избавить Лидгейта от денежной
зависимости, которая, как она чувствовала, являлась одной из причин -
пусть далеко не главной - его угнетенного состояния. Под влиянием их
беседы она тотчас написала небольшое письмо, в котором ссылалась на то,
что имеет больше прав, чем мистер Булстрод, ссудить Лидгейта деньгами; что
с его стороны было бы невеликодушно отвергнуть ее помощь в этом мелком
деле, где заинтересованным лицом является только она, почти не имеющая
представления, на что употребить ненужный ей доход. Он может называть ее
своим кредитором или как ему угодно, если под этим будет подразумеваться,
что ее просьба уважена. Она вложила в конверт чек на тысячу фунтов и
решила взять письмо с собой, когда на следующий день поедет в гости к
миссис Лидгейт.
77
Твое паденье словно запятнало
Всех лучших и достойнейших. На них
Теперь взирают с подозреньем.
Шекспир, "Генрих V"
На следующий день Лидгейт собирался в Брассинг и сказал Розамонде, что
вернется лишь к вечеру. Все последнее время она сидела дома либо
прогуливалась в своем саду и выходила только в церковь да один раз к отцу,
которого спросила: "Если Тертий согласится уехать, ты ведь нам поможешь,
правда, папа? Мне кажется, у нас будет очень мало денег на переезд. Я,
конечно, только на то и надеюсь, что кто-нибудь придет нам на помощь". И
мистер Винси ответил: "Да, деточка, сотню или две я смогу выкроить. Эта
трата имеет смысл". Все остальное время она сидела дома, пребывая в томной
меланхолии и оживляясь лишь при мысли о появлении Уилла Ладислава,
которое, как ей почему-то представлялось, подвигнет Лидгейта немедленно
начать приготовления к отъезду в Лондон, так что в конце концов у нее не
осталось никаких сомнений в том, что приезд столичного гостя неминуемо
повлечет за собой долгожданную перемену в их жизни. Такие выводы из ложных
посылок столь часты, что несправедливо было бы приписывать его какому-то
особому безрассудству Розамонды. И никто не бывает так ошеломлен,
обманувшись в своих ожиданиях, как люди, склонные приходить к подобным
выводам: ибо представляя себе, каким образом может возникнуть тот или иной
результат, мы представляем себе также, что могло бы этому
воспрепятствовать, однако если мы видим только желанную цель, ждем лишь
желанного исхода, мы утрачиваем способность сомневаться и полностью
доверяемся интуиции. Именно в этом направлении работала мысль Розамонды и
когда она - столь же аккуратно, как обычно, только медленнее - расставляла
безделушки, и когда садилась за фортепьяно с намерением помузицировать, и,
передумав, продолжала сидеть, опираясь белыми пальчиками о деревянную
крышку и устремив в пространство скучающий взгляд. Лидгейт испытывал
непонятную робость перед этой возрастающей со дня на день меланхолией,
которая преследовала его как молчаливый укор, и глубокая жалость к этому
хрупкому созданию, чью жизнь он, по-видимому, испортил, сам не зная как,
побуждала его избегать ее взгляда и даже вздрагивать иногда при ее
появлении, ибо он боялся Розамонды и боялся за Розамонду, и чувство это
овладевало им еще сильнее после каждой вспышки раздражения.
Но в это утро Розамонда оделась для выхода в город и покинула свою
комнату на верхнем этаже, где иногда, если Лидгейта не было дома,
проводила целые дни. Она собиралась отправить письмо, адресованное мистеру
Ладиславу и написанное с обворожительной сдержанностью и в то же время
так, чтобы поторопить его приезд туманной ссылкой на свои невзгоды. Их
единственная служанка увидела ее в этом наряде и подумала: "Ну до чего же
она миленькая в шляпке!"
Тем временем Доротея обдумывала предстоящий визит к Розамонде и в
голове ее роилось множество мыслей о возможном будущем и прошлом,
связанных с этим визитом. До вчерашнего дня, когда Лидгейт приоткрыл перед
ней теневые стороны своей семейной жизни, всякое упоминание о Розамонде
неизменно пробуждало в ней мысль об Уилле Ладиславе. Даже в состоянии
крайней тревоги, даже когда миссис Кэдуолледер взволновала ее, с
безжалостной точностью пересказав местные сплетни, она старалась - нет,
даже не старалась, она просто не могла не защищать Уилла от гнусных
домыслов. И когда при их последней встрече Доротея сперва отнесла его
признание в запретном чувстве, которое он хочет побороть, на счет миссис
Лидгейт, она в тот же миг с печалью и сочувствием представила себе, что в
постоянных встречах с этим белокурым существом, с которым Уилла объединяет
и взаимное увлечение музыкой, и, вероятно, общность вкусов, есть для него
какое-то очарование. Но тут он произнес прощальные слова, несколько жарких
слов, которые ей показали, что предметом этой повергавшей его в ужас
страсти была она сама, что это в любви к ней он решил не открываться и
унести с собой в изгнание это чувство. После этого прощального разговора
Доротея поверила в любовь Уилла к ней, гордясь и восхищаясь, поверила в
его строгое чувство чести и в решимость не уронить себя ни в чьих глазах и
уже не тревожилась о том, какие отношения связывают его с миссис Лидгейт.
Она не сомневалась, что отношения эти безупречны.
Есть люди, которые, кого-то полюбив, словно освящают предмет этого
чувства чистой верой в любимых, они как бы обязывают их быть также
справедливыми и чистыми, и грехи наши становятся святотатством,
сокрушающим невидимый алтарь доверия. "Если ты нехорош - то все нехорошо"
- этот бесхитростный упрек вопиет к нашей совести, уязвляет раскаянием
душу.
Такова была Доротея - все ее заблуждения проистекали от пылкости нрава,
и если явные ошибки ближних вызывали ее сожаление, то по недостатку
житейского опыта она не умела распознать и заподозрить скрытое зло. Но это
ее простосердечие, этот свойственный ей дар создать, поверив в человека,
образец, которому он станет следовать, было в ней одной из самых чарующих
черт. На Уилла оно оказало огромное влияние. Расставаясь с ней, он
чувствовал, что скупые слова, которыми он попытался рассказать ей о своей
любви и о преграде, воздвигнутой между ними ее богатством, своей
краткостью только возвысят его в ее глазах: он чувствовал, что никто не
оценит его так высоко, как она.
И оказался прав. Вот уже несколько месяцев Доротея с печальной, но
упоительной безмятежностью вспоминала об их безгрешных отношениях. Она
бывала решительна и непреклонна, когда ей приходилось защищать идеи и
людей, в которых она верила. Обиды, нанесенные Уиллу ее мужем,
пренебрежение окружающих к молодому человеку, столь не похожему на них,
только усилили ее восхищение и любовь. А теперь, когда с разоблачением
Булстрода открылись новые обстоятельства, касающиеся происхождения Уилла,
Доротея с обновленным пылом возмущалась всем тем, что говорилось о нем в
ее мирке, замкнутом оградами парков.
"Ладислав - внук еврея-ростовщика, скупщика краденого", - восклицали в
Лоуике, Фрешите и Типтон-Грейндже каждый раз, когда там заходила речь о
Булстроде, и этот ярлык выглядел еще более оскорбительно, чем "итальянец с
белыми мышами". Достойный сэр Джеймс Четтем не считал зазорным ликовать по
поводу этого обстоятельства, сделавшего еще более непроходимой пропасть
между Доротеей и Ладиславом, а значит - еще более абсурдными его прошлые
тревоги на их счет. К тому же приятно было обратить внимание мистера Брука
на этот уродливый нарост на генеалогическом древе Ладислава и тем самым
еще раз продемонстрировать старику всю степень его безрассудства. Доротея
заметила, что при обсуждении злосчастной истории с Булстродом об Уилле
неизменно говорят с враждебностью, но в отличие от прежнего ни словом не
вступалась за него, сознавая, какой благоговейной сдержанности требуют
теперь их отношения. Впрочем, невысказанное возмущение разгоралось тем
ярче и горестная участь Уилла, за которую все почему-то чуть ли не
осуждали его, в Доротее вызывала еще более горячее сочувствие.
Ей никогда не приходило в голову, что их могут связать более тесные
узы, хотя она не давала себе никаких зароков. Отношения с Уиллом в ее
глазах были просто составной частью ее семейных невзгод, и она считала
греховным сетовать на то, что замужество ей принесло мало счастья,
предпочитая размышлять о том, чего оно предоставило ей в изобилии. Она
мирилась с тем, что самая дорогая ее сердцу радость заключена в
воспоминаниях, и все, что связано с браком, мыслилось ей только в виде
какого-то весьма нежелательного предложения от неизвестного ей пока
вздыхателя, чьи достоинства, заранее предвкушаемые ее родней, явятся для
нее постоянным источником терзаний: "Кто-нибудь, кто распорядится твоей
собственностью, дорогая" - так рисовался мистеру Бруку сей симпатичный
персонаж. "Я предпочла бы сама ею распоряжаться, если бы только знала, что
с ней делать", - возразила Доротея. Да, она твердо решила не выходить
второй раз замуж: бесконечная, однообразная перспектива расстилалась перед
ней, вех на своем пути она не видела, но направление ей будет указано, а в
дороге встретятся и попутчики.
Это ставшее привычным чувство к Уиллу Ладиславу сделалось еще сильнее
после того, как она вызвалась навестить миссис Лидгейт, и не отпускало ее
ни на миг, никоим образом не умаляя интереса и участия к Розамонде.
Несомненно, существует какая-то рознь, преграда, мешающая полностью
довериться друг другу, между этой молодой женщиной и ее мужем, хотя он
всем готов пожертвовать для ее счастья. Положение щекотливое, при котором
недопустимо вмешательство третьих лиц. Но Доротея с глубокой жалостью
представила себе, как одиноко должна чувствовать себя Розамонда после
того, как в городе стали шушукаться о ее муже. Выказав уважение к Лидгейту
и сочувствие к его жене, она, разумеется, ободрит Розамонду.
"Я поговорю с ней о ее муже", - думала по дороге в город Доротея.
Прозрачное весеннее утро, запах влажной земли, свежая зелень молодых, еще
сморщенных листиков, которые начинали выползать из полураскрывшихся почек,
- все гармонировало с радостным и светлым настроением, охватившим Доротею
после длительной беседы с мистером Фербратером, весьма обрадованным
непричастностью Лидгейта к темным делам банкира. "Я привезу миссис Лидгейт
добрую весть, и, может быть, мы с ней разговоримся и станем друзьями".
У Доротеи было еще одно дело на Лоуик-Гейт: купить новый, мелодично
звякающий колокольчик для сельской школы, и, так как лавка находилась
возле дома Лидгейтов, она велела кучеру подождать, пока вынесут свертки, а
сама перешла пешком на другую сторону улицы. Парадная дверь была открыта,
и служанка, стоя на пороге, глазела на остановившуюся так близко от дома
карету, как вдруг увидела приближающуюся к ней даму из этой самой кареты.
- Дома миссис Лидгейт? - спросила Доротея.
- Не могу вам точно ответить, миледи. Сию минуту посмотрю, а вам не
угодно ли будет войти, - сказала Марта, несколько конфузясь за свой
кухонный передник, но сохраняя достаточное присутствие духа, дабы
определить, что "сударыня" - неподходящий титул для молодой вдовы с
королевской осанкой, приехавшей в запряженной парой карете. - Благоволите
войти, а уж я схожу и посмотрю.
- Скажите, что я миссис Кейсобон, - проговорила Доротея, следуя за
Мартой, которая намеревалась проводить ее в гостиную, а затем подняться
наверх и взглянуть, не вернулась ли Розамонда с прогулки.
Они свернули из прихожей в коридор, ведущий в сад. Дверь в гостиную
была не заперта, и Марта распахнула ее не заглядывая в комнату, впустила
миссис Кейсобон и тотчас же ушла, едва дверь бесшумно закрылась за
гостьей.
В это утро Доротея была рассеяннее, чем обычно, - воспоминания о
прошлом и мысли о будущем целиком поглотили ее. Не заметив ничего
особенного, она переступила через порог, но тут же услыхала тихий голос и
с таким чувством, словно грезит наяву, сделала шага два и, выйдя из-за
стоявшего у дверей книжного шкафа, увидела картину, о смысле которой с
ужасающей ясностью говорил каждый штрих. Доротея замерла, не в силах
пошелохнуться и заговорить.
На кушетке, расположенной у той же стены, где была входная дверь,
спиной к Доротее сидел Уилл Ладислав; прямо перед ним вся в слезах, что
делало ее еще обворожительнее, и еще не развязав ленты шляпки, которая
свалилась с ее белокурой головки, сидела Розамонда, а Уилл сжимал руками
ее руки и что-то тихо и горячо говорил.
Розамонда была так взволнованна, что не сразу заметила бесшумно
приближающуюся к ним фигуру, но когда потрясенная Доротея в смущении
попятилась и на что-то наткнулась, Розамонда опомнилась и, высвободив
резким движением руки, взглянула на гостью, которой волей-неволей пришлось
остановиться. Уилл вздрогнул, обернулся и, встретив сверкающий взгляд
Доротеи, окаменел. Но она тотчас же перевела глаза на Розамонду и твердым
голосом произнесла:
- Простите, миссис Лидгейт, ваша служанка не знала, что вы здесь. Я
приехала с письмом к мистеру Лидгейту и хотела отдать его в ваши руки.
Она положила письмо на тот самый столик, который помешал ей незаметно
удалиться, затем, взглянув на Розамонду и Уилла, холодно кивнула обоим
сразу и быстро вышла. В коридоре она встретила удивленную Марту, которая
сказала, что хозяйки, к сожалению, нет дома, и проводила странную
посетительницу, дивясь, до чего же иногда нетерпеливы эти важные господа.
Доротея пересекла улицу энергическим упругим шагом и торопливо села в
карету.
- Во Фрешит-Холл, - сказала она кучеру, и у каждого, кто взглянул бы на
нее в этот миг, создалось бы впечатление, что, невзирая на бледность, она
полна уверенности и хладнокровной решимости. Впечатление это не было
ошибочным. Презрение всецело завладело ею, оно заглушило остальные
чувства. Только что увиденная сцена представлялась ей столь неимоверной,
что все ее чувства были в смятении и в душе царил полный сумбур. Что-то
нужно было делать, каким-то образом унять нестерпимое, жгучее возбуждение.
Она чувствовала, что могла бы работать весь день, весь день ходить пешком
и при этом не съесть ни крошки, ни глотка не выпить. Да, она выполнит то,
что наметила утром, - поедет во Фрешит и Типтон, расскажет сэру Джеймсу и
дяде все, что собиралась сообщить им о Лидгейте, чье одиночество,
представившись ей теперь в новом свете, сделало ее еще более пылкой его
защитницей. Во время столкновений с мистером Кейсобоном она ни разу не
испытывала таких приливов негодования - жалость к мужу умеряла ее гнев.
Сейчас ей показалось, что она обрела новые силы.
- Как у тебя блестят глаза, Додо! - сказала Селия, когда сэр Джеймс
вышел из комнаты. - Ты глядишь и ничего не видишь, даже Артура. Я уж
догадываюсь, у тебя на уме опять какая-то рискованная затея. Это по поводу
Лидгейта или еще что-нибудь произошло? - Селия привыкла ждать от сестры
всяких неожиданностей.
- Да, милочка, произошло, и очень многое, - ответила Додо глубоким
грудным голосом.
- Что бы это могло быть? - спросила Селия, спокойно скрестив руки на
груди и опираясь на локти.
- Лик земной полон людей, чьим горестям нет предела, - сказала Доротея,
закинув руки за голову.
- Ах, Додо, уж не придумала ли ты для их спасения новый план? -
спросила Селия, слегка встревоженная гамлетовским восклицанием сестры.
Но тут в комнату возвратился сэр Джеймс, чтобы сопровождать Доротею в
Типтон. Она с честью довела до конца свою миссию и лишь тогда возвратилась
домой.
78
О, если б я вчера сошел в могилу,
Ее любовью нежной осенен.
Розамонда и Уилл застыли в неподвижности - надолго ли, они не знали; он
- глядя туда, где только что стояла Доротея, она - неуверенно поглядывая
на Уилла. Розамонде, которая в глубине души была не столько раздосадована,
сколько довольна, показалось, что времени прошло очень много.
Поверхностным натурам мнится, будто они властвуют над чувствами людей, они
слепо верят, будто их куцему обаянию покоряется течение глубочайших вод, и
уверены в своей способности миленькими репликами и грациозными движениями
ручек сотворить нечто такое, чего на деле нет и в помине. Розамонда
понимала, что Уиллу нанесен жестокий удар, однако настроение других людей
ей представлялось только в виде материала, подвластного ее желаниям; кроме
того, она не сомневалась, что обладает даром укрощать и покорять. Даже
Тертий, упрямейший из мужчин, в конце концов всегда ей подчинялся;
обстоятельства порою складывались ей наперекор, и все же Розамонда и
сейчас повторила бы сказанные перед свадьбой слова: она никогда не
отказывалась от того, чего хотела.
Она вытянула руку и кончиками пальцев тронула рукав Уилла.
- Не прикасайтесь ко мне! - Он выкрикнул это так, словно хлыстом
стегнул, отшатнулся от нее, побледнел, затем вновь стал пунцовым.
Казалось, его пронзает невыносимая боль. Он бросился в дальний конец
комнаты, остановился лицом к Розамонде, вскинув голову, сунув пальцы в
карманы и устремив злобный взгляд - даже не на Розамонду, а на какую-то
точку, находящуюся в нескольких дюймах от нее.
Розамонда почувствовала себя глубоко уязвленной, но заметить это мог бы
только Лидгейт. Она тотчас же сделалась очень спокойной, села, развязала
ленты шляпки, сняла шаль, положила возле себя и с чинным видом скрестила
на коленях похолодевшие руки.
Самое благоразумное, что мог бы предпринять Уилл, это незамедлительно
взять шляпу и откланяться, но он не испытывал желания так поступать,
наоборот, он всеми фибрами души жаждал остаться и обрушить свой гнев на
Розамонду. Снести удар, который навлекла на него эта дама, и не дать
выхода гневу было для него так же невозможно, как для раненой пантеры не
прыгнуть на охотника и не вонзить в него клыки. И в то же время как
скажешь женщине, что тебе впору ее проклинать? Его вспышка перешла границы
дозволенного; услышав дрожащий голосок Розамонды, он не мог не признать в
душе, что вел себя неподобающе. С певучей мелодичностью, усугублявшей
сарказм этой фразы, она сказала:
- Никто вам не мешает догнать миссис Кейсобон и объяснить ей, кому вы
оказываете предпочтение.
- Догнать! - воскликнул он, кипя негодованием. - Неужели вы думаете,
что она пожелает бросить на меня хотя бы взгляд и что мои слова имеют для
нее теперь большую цену, чем сор, валяющийся на дороге?.. Объяснить! Как
можно что-то объяснить, унизив этим объяснением другую женщину?
- Вы можете сказать ей все, что вам угодно, - срывающимся голосом
проговорила Розамонда.
- Вы думаете, принеся вас в жертву, я возвышусь в ее глазах? Такие
женщины не чувствуют себя польщенными, если мужчина ради них готов на
гнусность, для нее не послужит свидетельством моей преданности то, что я
трусливо от вас отступился.
Он стал метаться по комнате, словно дикий зверь, который увидел добычу,
но не знает, как завладеть ею. Молчание его длилось недолго.
- Я и раньше не надеялся... почти... чтобы что-то изменилось к лучшему.
Но я в одном не сомневался - она верила в меня. Как бы ни отзывались обо
мне люди, как бы ни поступали они со мной, она в меня верила. Теперь
конец! Я буду выглядеть в ее глазах жалким притворщиком: так щепетилен,
что райское блаженство согласен принять лишь на лестных условиях, а сам
втихомолку продаюсь дьяволу. Для нее станет оскорбительным любое
воспоминание обо мне, начиная с той минуты, когда мы...
Тут Уилл осекся, словно спохватившись, что в пылу гнева чуть было не
бросил то, чем нельзя швыряться. Но желая дать выход ярости, вновь
обрушился на слова Розамонды, будто то были мерзкие гады, которых
следовало раздавить и отшвырнуть.
- Объяснить! Попробуй объясни, как ты свалился в преисподнюю! Объяснить
ей, кого я предпочитаю! Предпочитаю ее точно так же, как предпочитаю
дышать. Рядом с ней не существует других женщин. Если бы она умерла,
прикоснуться к ее руке было бы для меня большим счастьем, чем прикоснуться
к руке любой из живущих.
Под градом этих отравленных стрел Розамонда растерялась и утратила
представление о реальности, которая казалась ей теперь кошмарным сном.
Куда девалась та холодная враждебность, та сдержанная, но незыблемая
уверенность в своей правоте, которыми она во время споров с мужем всегда
парировала самые бурные его вспышки; она испытывала сейчас лишь одно -
ошеломляющую новизну боли; впервые в жизни подвергалась она бичеванию, и
ощущение это было ужасным, ни с чем не сравнимым. К ней относятся совсем
не так, как ей хотелось бы, эта мысль запечатлелась в ее сознании, словно
выжженная раскаленным железом. Но вот Уилл, наконец, умолк; Розамонда
поникла в глубоком унынии - побледневшие губы, сухие скорбные глаза.
Окажись сейчас на месте Ладислава Тертий, его растрогал бы убитый вид жены
и в порыве жалости он поспешил бы приголубить ее и утешить, невзирая на
пренебрежительность, которой Розамонда встречала эти полные сочувствия
порывы.
Не будем осуждать и Уилла за то, что он не испытал жалости. С этой
женщиной, которая лишила его самого сокровенного и дорогого, его не
связывали никакие узы, и он не считал себя виновным. Он знал, что был
жесток, но в нем еще не пробудилось раскаяние.
Замолчав, он продолжал рассеянно бродить по комнате, а Розамонда все
так же сидела не шевелясь. Наконец, он, казалось, опомнился, взял шляпу и
остановился в нерешимости. Трудно было бы произнести какую-нибудь
банальную вежливую фразу после того, что он ей только что наговорил, и в
то же время непростительной грубостью было уйти, ни слова не сказав. Его
гнев утих, вспышка погасла. Он облокотился на каминную доску и застыл в
ожидании... сам не зная чего. Взять свои слова обратно он не мог: обида
еще не прошла; в то же время его сознание не покидала мысль, что в этом
доме, где его всегда встречали с нежной дружбой, поселилось горе; он вдруг
ясно ощутил беду, разразившуюся и в стенах этого дома, и за их пределами.
Нечто вроде предчувствия защемило его как тиски - не придется ли ему
посвятить всю жизнь этой беспомощной женщине, открывшей ему беспросветную
тоску своего сердца? Но опасение едва мелькнуло, как он тотчас угрюмо
отверг вероятность такой перспективы и, бросив взгляд на померкшее лицо
Розамонды, пришел к выводу, что из них двоих он более достоин жалости.
Нужно сжиться с болью, чтобы из нее проросла способность к состраданию.
Шла минута за минутой, они все молчали, далекие друг другу, хотя их
разделяло всего несколько шагов; на лице Уилла написана была глухая
ярость, на лице Розамонды - глухая печаль. У бедняжки не хватило сил
ответить Уиллу гневной отповедью. Крах иллюзии, которой она тешилась так
долго, нанес ей сокрушительный удар: ее мирок превратился в руины, и мысль
ее потерянно блуждала среди них.
Уиллу хотелось, чтобы она заговорила, как-то смягчив этим жестокость
его слов, такую очевидную сейчас, что представлялась нелепой любая попытка
воскресить прежние дружеские отношения. Но Розамонда ничего не сказала, и,
сделав над собой отчаянное усилие, он спросил:
- Можно мне сегодня вечером зайти к Лидгейту?
- Как вам угодно, - еле слышно ответила Розамонда.
Уилл вышел, и Марта так и не узнала, что он был в доме.
Когда за ним закрылась дверь, Розамонда попыталась подняться и потеряла
сознание. Немного погодя она очнулась, но ей было слишком худо, чтобы
встать и позвонить, и она просидела на месте до тех пор, пока удивленная
столь продолжительным ее отсутствием служанка не отправилась искать ее во
всех комнатах нижнего этажа. Розамонда объяснила, что ей внезапно стало
дурно, что у нее был обморок, и попросила помочь ей перейти наверх. В
спальне она, не раздеваясь, рухнула на постель, впав в полное оцепенение,
как уже было в один памятный для нее печальный день.
Лидгейт возвратился домой раньше, чем ожидал, примерно в половине
шестого, и нашел жену в спальне. Ее внезапное нездоровье так его напугало,
что отодвинуло на задний план все другие заботы. Когда он щупал у нее
пульс, Розамонда задержала на его лице свой взгляд, и Лидгейт
почувствовал, что его присутствие ей приятно, чего давно уж не бывало. Он
сел на край кровати, нежно обнял жену и, склонившись к ней, сказал:
"Розамонда, бедняжка моя! Тебя что-то встревожило?" Прильнув к нему, она
истерически разрыдалась, и Лидгейт целый час успокаивал ее и отхаживал. Он
решил, что разговор с Доротеей, как видно побывавшей в этот день у
Розамонды, взволновал ее, открыв глаза на многое, и побудил вновь
потянуться к мужу,
79
И мне снилось далее, что, кончив
беседовать, они приблизились к вязкому
болоту, расположенному посреди равнины,
и оба с безрассудной неосторожностью
вдруг упали в трясину. Называлось это
болото Унынием.
Беньян
Но вот Розамонда успокоилась, и Лидгейт, надеясь, что под воздействием
болеутолительного она вскоре уснет, отправился в свой кабинет, а по пути
зайдя в гостиную взять оставленную там книгу, увидел на столе письмо от
Доротеи. Он не отважился спросить у Розамонды, не заезжала ли к ней миссис
Кейсобон, но узнал об этом из письма, в котором Доротея упомянула, что
собирается привезти его лично.
Явившийся несколько позже Уилл Ладислав, судя по удивлению, с которым
встретил его Лидгейт, заключил, что тот не знает о его предыдущем визите,
и не осмелился спросить как ни в чем не бывало: "Разве миссис Лидгейт вам
не говорила, что я уже был у вас утром?"
- Бедняжка Розамонда захворала, - сказал Лидгейт, едва они успели
поздороваться.
- Надеюсь, ничего серьезного? - сказал Уилл.
- Да, небольшое нервное потрясение - очевидно, ее что-то взволновало. В
последнее время на ее долю выпало много тяжелых переживаний. Говоря по
правде, Ладислав, я оказался неудачником. После вашего отъезда мы прошли
через несколько кругов чистилища, а совсем недавно я попал в ужасное
положение. Вы, вероятно, только что приехали - у вас порядком измученный
вид, - так что не успели еще ни с кем повидаться и не слыхали наших
новостей.
- Я провел всю ночь в дороге и к восьми утра добрался до "Белого
оленя". Там заперся в своей комнате и весь день отдыхал, - сказал Уилл,
чувствуя себя жалким трусом, но не считая в то же время возможным дать
более правдивый ответ.
Затем Лидгейт поведал ему о невзгодах, которые Розамонда на свой лад
уже описала Уиллу. Но она не упомянула, что в громкой истории, о которой
толковал весь город, фигурировало и имя Уилла - эта подробность не
задевала ее непосредственно, - и Уилл узнал о ней лишь сейчас.
- По-моему, вас следует предупредить, что вы замешаны в скандале, -
сказал Лидгейт, как никто иной понимавший, насколько это известие огорчит
Ладислава. - Едва вы появитесь в городе, вам несомненно это сообщат. Я
полагаю, Рафлс действительно разговаривал с вами?
- Да, - сардонически отозвался Уилл. - Буду считать себя счастливцем,
если молва не объявит меня главным виновником скандала. Очевидно, самая
свежая версия состоит в том, что я сговорился с Рафлсом убить Булстрода и
с этой целью удрал из Мидлмарча.
"Меня и прежде чернили перед нею кто во что горазд, - подумал он, -
теперь добавилась еще одна пикантная подробность. А, да не все ли равно?"
О предложении, сделанном ему Булстродом, он не сказал ни слова. Уиллу,
откровенному, беспечному во всех делах, которые касались его самого, были
свойственны душевная тонкость и деликатность, побудившие его промолчать.
Мог ли он рассказать, как отверг деньги, предложенные ему Булстродом, в
тот момент, когда узнал, что Лидгейту пришлось стать его должником?
Не во всем был откровенен и Лидгейт. Он не упомянул о том, как
восприняла их общую беду Розамонда, а насчет Доротеи сказал лишь: "Миссис
Кейсобон была единственной, кто заявил, что не верит злопыхательским
слухам". Заметив, что Уилл изменился в лице, он постарался больше не
упоминать о Доротее, ибо, не зная, какие отношения их связывают, побоялся
задеть его неосторожным словом. У него мелькнула мысль, что Доротея была
истинной причиной возвращения Уилла в Мидлмарч.
Оба от души сочувствовали друг другу, но Уилл яснее представлял себе
тяжесть положения Лидгейта. Когда тот заговорил о своем намерении
перебраться в Лондон и со слабой улыбкой сказал: "Там мы снова встретимся,
старина", - Уилл почувствовал невыразимую грусть и ничего не ответил.
Утром Розамонда умоляла его убедить Лидгейта в необходимости этого шага, и
сейчас перед Уиллом предстало, как по волшебству, его собственное будущее,
он увидел, как его затягивают будничные заботы и он уныло покоряется
судьбе, ибо гнет повседневности гораздо чаще приводит нас к гибели, чем
одна-единственная роковая сделка.
Отказавшись от мечтаний юности и решив влачить бессмысленное
существование обывателя, мы вступаем на опасный путь. Сердце Лидгейта
надрывалось, ибо он на этот путь уже вступил, и Уилл был близок к тому же.
Ему казалось, что его безжалостность в объяснении с Розамондой налагает на
него какие-то обязательства, и он страшился их, его страшила доверчивая
благожелательность Лидгейта, страшило предчувствие, что, удрученный
неудачами, он бездумно покорится судьбе.