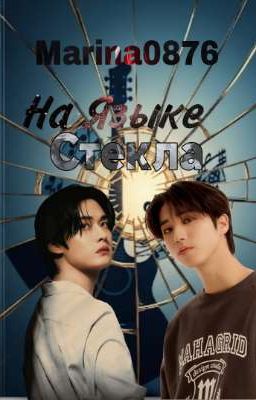Глава 18
Банчан и Чанбин: Тихий Ужас Наутро
Солнце резало глаза. Банчан лежал на боку, лицом к стене, и делал вид, что спит. Каждая клетка его тела помнила. Грубые губы Чанбина. Привкус крови. Осколки стекла, впивающиеся в спину сквозь ткань дивана. И ярость. Не на Чонина. Не на разбитую люстру. На себя. За то, что не оттолкнул. За то, что на миг захотел этого безумия.
За спиной послышалось шуршание. Чанбин ворочался. Дыхание его было неровным, прерывистым – не сон, а притворство. Банчан чувствовал его взгляд на своей спине. Горячий. Стыдливый. Вопрошающий.
— Я... — голос Чанбина прозвучал хрипло, как после долгого молчания. — Я не...
— Замолчи.
— Но...
— Замолчи.
Резко. Жестко. Как ножом отрезая.
Банчан встал, не оборачиваясь. На полу, в пыли и осколках, лежали обломки люстры – жалкие, острые напоминания о вчерашнем пиздеце. Он переступил через них, пошел к крошечной кухне, чтобы вскипятить воду. Руки дрожали. Он сжал их в кулаки.
Ошибка. Пьяный бред. Адреналин. Ярость. Всё что угодно, только не...
Чанбин тоже поднялся. Молча. Он начал подметать осколки. Каждое движение – резкое, злое. Метла скребла по полу, звук резал слух.
— Я куплю новую, — пробормотал он в тишину.
Банчан не ответил. Просто налил кипяток в две чашки. Черный кофе. Крепкий. Горячий. Как удар по лицу. Он поставил одну чашку на край стола рядом с Чанбином. Не глядя.
— Спасибо, — Чанбин прошептал так тихо, что Банчан почти не расслышал.
Они пили кофе стоя. Спиной друг к другу. В комнате пахло пылью, стеклом и невысказанным.
Иногда молчание – самая громкая ссора. И самый громкий крик о помощи, который никто не слышит.
Чонин: Цена Люстры и Покаяние
Магазин осветительных приборов напоминал лабиринт из хрусталя и хромированного металла. Люстры висели рядами – холодные, бездушные, ослепительно дорогие. Чонин чувствовал себя идиотом. Его ладонь, затянутая белым пластырем, ныла. Но боль в кошельке обещала быть острее.
— Вам помочь? — Продавец смотрел на него с вежливым безразличием.
— Та люстра... — Чонин показал на фото в телефоне – обломки на фоне знакомой комнаты. — Была такая.
Продавец скривился.
— Винтаж. Италия. Снята с производства.
— Есть аналог?
— Есть дороже.
Чонин сглотнул. Гонорар за последний концерт таял на глазах. Он кивнул.
— Покажите.
Новая люстра была тяжелой коробкой в его руках. Дорогой гроб для его глупости. Он тащил ее к общежитию, чувствуя, как каждый шаг отдается эхом в пустом желудке и стыде.
Дверь комнаты Чанбина была приоткрыта. Чонин постучал костяшками пальцев.
— Войди.
Чанбин сидел на диване, смотря в пустоту. Осколков не было – только идеальная чистота и гнетущая пустота в углу, где висела люстра.
— Я... — Чонин поставил коробку на пол. — Купил. Похожую. Почти.
Чанбин медленно поднял взгляд. Не злой. Усталый. Пустой.
— Зачем?
— Чтобы извиниться. Я был пьяным идиотом. И... — он посмотрел на Банчана, стоявшего у окна. — И за вчерашнее.
Банчан не повернулся. Его плечи напряглись.
— Принято, — Чанбин махнул рукой. — Ставь куда-нибудь.
Не "спасибо". Не "ладно, забудем". Просто... "принято". Как товар на складе. Чонин почувствовал, как стыд накрывает с новой силой.
— Я помогу установить.
— Не надо.
— Чанбин, я...
— Я сказал, не надо! — Голос Чанбина сорвался, в нем мелькнула вчерашняя ярость, тут же погасшая. Он провел рукой по лицу. — Просто... уйди. Ладно?
Чонин замер, потом кивнул. Он вышел в коридор, прислонился к холодной стене. Из комнаты Сынмина доносились приглушенные голоса. Он пошел туда. Не зная, зачем.
Сынмин: Лабиринт без выходов
Сынмин сидел на полу, окруженный схемами и проводами. Он пытался собрать новый микшерный модуль, но пальцы не слушались. Они помнили. Помнили теплоту кожи Чонина под рубашкой. Помнили его вздох, когда их губы встретились не в гневе, а в чем-то другом. В чем-то страшном и желанном.
Дверь открылась. Чонин стоял на пороге, бледный, с огромными глазами.
— Он меня ненавидит.
— Кто? Чанбин? — Сынмин не поднял головы.
— Да. И Банчан... он даже не посмотрел.
— Они не ненавидят тебя. Они ненавидят ситуацию.
— А ты?
Сынмин замер. Провод выскользнул из пальцев.
— Я что?
— Ненавидишь меня? За вчерашнее? За... за то, что я полез?
Сынмин поднял глаза. Чонин стоял, съежившись, как провинившийся щенок. Порез на ладони выделялся красным под пластырем.
— Я не ненавижу тебя, — сказал Сынмин тихо. — Я... не понимаю тебя.
— Что не понять? — Чонин шагнул ближе. — Что я влюбился в самого сложного, закрытого и ебанутого парня в группе?
Тишина.
Слова повисли в воздухе, тяжелые, как гири. "Влюбился". Не "нравится". Не "зацепило". Влюбился.
— Ты пьян? — спросил Сынмин, но голос дрогнул.
— Трезв как стеклышко. Или как осколок той люстры. — Чонин горько усмехнулся. — И знаешь что? Мне похер. На Чанбина, на люстру, на твои схемы. Я устал ходить по осколкам.
Он упал на колени перед Сынмином, схватил его руки.
— Скажи, что это не ошибка. Скажи, что я не ебусь с головой. Скажи... что я тебе не безразличен.
Сынмин смотрел на их сплетенные руки. На белый пластырь. На дрожь в пальцах Чонина. Его собственная грудь сжалась.
— Ты... идиот, — прошептал он.
— Да. Твой идиот.
И Сынмин потянул его к себе.
Не для поцелуя.
Для объятия.
Жесткого. Нервного. Неуклюжего. Но искреннего.
Чонин ахнул, уткнулся лицом в его шею. Его плечи затряслись.
— Блять, Сынмин...
— Заткнись. Просто... заткнись.
Они сидели на полу среди проводов и микросхем. Один – плача от облегчения. Другой – сжимая его так, будто боялся, что он рассыплется в осколки.
Объятие – это белый флаг. Капитуляция перед чувствами. И первая попытка склеить разбитое.
Джисон и Минхо: Сумерки и Ирония
Кинотеатр пах попкорном и дешевым парфюмом. Джисон тащил Минхо за руку к их ряду, ухмыляясь.
— Смотри, Мини! Настоящие вампиры! Не то что наши психы!
— Наши психы реалистичнее, — буркнул Минхо, разглядывая плакат с бледным Паттинсоном.
Они уселись в кресла. Темнота поглотила зал. На экране зазвучала меланхоличная музыка, закрутились кадры с дождливого Форкса.
— Боже, она же полный лузер, — Джисон шептал на ухо Минхо, пока Белла спотыкалась в кафетерии. — Хотя... не хуже тебя, когда ты пытаешься не смотреть на меня в студии.
— Убью, — прошипел Минхо, но пальцы его сжали попкорн так, что хрустнул стаканчик.
— Смотри! Он же просто мудак! — Джисон тыкал пальцем в Эдварда. — Вечно хмурый, вечно страдает... Прямо как Банчан!
Минхо фыркнул.
— Не дразни. Он и так, наверное, рвет волосы на жопе после вчерашнего.
— А Чанбин? — Джисон хмыкнул. — Тот вообще выглядел, как вампир после завтрака на солнечном пляже. Весь красный.
— От злости.
— Или от поцелуя?
Минхо толкнул его локтем. На экране Эдвард сверкал на солнце, как бриллиант.
— Бля, — Джисон захихикал. — Надо Банчана так выгулять. Может, он тоже засверкает?
— Он сверкнет кулаком тебе в челюсть.
— Оно того стоит!
Кино – это побег. Даже если на экране – вампирская любовная история, а в голове – воспоминания о том, как твои друзья рвут друг другу глотки и целуются среди битого стекла.
Минхо незаметно положил руку Джисону на колено. Тот прикрыл ее своей ладонью. Тепло. Тихо. Нормально. На два часа они могли забыть про разбитые люстры, пьяные поцелуи и неловкие объятия.
После сеанса они вышли на улицу. Вечерело. Первые фонари зажигали желтые круги на тротуаре.
— Ну что? — Джисон потянулся. — Теперь я понял, почему девчонки рыдали.
— И почему?
— Потому что Эдвард – мудак. А мудаки – это вечная любовь. — Он обнял Минхо за плечи. — Как мы.
— Мы не мудаки.
— О, Мини, — Джисон рассмеялся. — Мы – короли мудаков.
Минхо не стал спорить. Просто прижался к нему, слушая, как смех Джисона растворяется в вечернем воздухе.
Нормальность – это иллюзия. Как вампиры в «Сумерках». Но иногда, в чьих-то объятиях, можно на минуту поверить, что она возможна.
Финал: Осколки и Тишина
Вечером Чанбин один возился с новой люстрой. Провода, крюк, инструкция на китайском. Руки дрожали. Он чувствовал на себе взгляд Банчана. Тот сидел за столом с ноутбуком, но экран был темным. Он просто смотрел, как Чанбин борется с хрупким хрусталем.
— Помощь нужна? — Банчан спросил неожиданно. Голос был глухим.
— Нет.
— Осторожно. Разобьешь – не куплю новую.
— Я не Чонин.
Тишина. Их взгляды встретились на долю секунды. В глазах Банчана мелькнуло что-то – боль? Досада? Чанбин не понял. Он отвернулся, затягивая гайку так, что пальцы побелели.
Новая люстра зажглась. Холодный, искусственный свет залил комнату. Он был ярче старого. Бездушнее.
— Красиво, — пробормотал Чанбин, глядя на хрустальные подвески.
— Да, — Банчан встал. — Как новенькая. Как будто ничего не было.
Он вышел, не глядя на Чанбина.
Чанбин остался один под ослепительным светом. Он поднял руку, тронул холодный хрусталь.
"Нет," – подумал он. – "Не как новенькая. Потому что я знаю, что под ней – следы от осколков. И в моей памяти – след от твоих губ."
В комнате Сынмина горел только настольный светильник. Чонин спал, уткнувшись лицом в подушку Сынмина. Его дыхание было ровным. Сынмин сидел рядом, глядя на его затылок. Он осторожно дотронулся до всклокоченных волос.
"Ты – идиот", – подумал он без злости.
"Но ты – мой идиот."
Осколки можно подмести. Люстру – заменить. Но трещины, которые они оставляют в душах – невидимы. И только время покажет, станут ли они шрамами... или узорами на новом стекле.