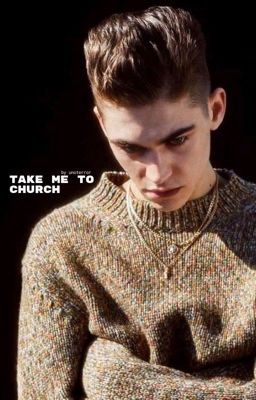first hit: rabastan
Он умирал, он знает, каково это. Это страшно. Все инстинкты, все внутри начинает бороться, цепляться за жизнь, хочется жить, дышать, смотреть и видеть, ощущать и просто быть. Когда живешь — принимаешь это как должное. Когда умираешь — все это становится высшей ценностью. Он спасал от смерти, вырывал у нее и вчерашних мальчишек, и взрослых мужчин, прикрывал их от заклинаний, освобождал из плена, вытаскивал из-под обстрела. Он видел раскуроченные тела, разобранных на части людей, с которыми делил свою жизнь ежедневно, ежечасно, всегда. Он же и убивал, резал, колол, разряжал в живое тело ярость, пытал, мучил и издевался. Он знает, как продлить мучения на часы, дни, чтобы допрашивать человека и чтобы он не умер раньше времени. Он знает о смерти все. Он знает, что они чувствуют. Он сам был на их месте. И он может сказать точно — он не хотел умирать. Он не хотел, чтобы умирала она.
Он вскочил с кровати посреди глубокой ночи — его глаза горели, а тело охватил холодный пот. Он не мог дышать. Рабастан стал судорожно хватать ртом воздух, но его будто и не было вовсе — он рухнул на колени и едва не задохнулся, схватившись одной рукой за горло, а второй царапая паркет, когда в коридоре послышались шаги и на его плечи не опустилась шершавая ладонь старой женщины. «Дыши, мой мальчик, ну же» — услышал он в своей голове прежде, чем понял — он уже второй раз за эту неделю просыпается среди ночи от ужаса, будто малец, напрудивший в штаны. И первый — задыхается от страха.
Что его пугало? Он не смог бы ответить вам на этот вопрос и под страхом смерти, и не потому, что стыдился — в какой-то мере он и сам не понимал природу своих ночных страхов, хоть старая Мара и твердила с самого начала, что это неотвратимое последствие того счастья, что он принес ей.
Шел тысяча девятьсот девяносто восьмой год. Рабастану Лестрейнджу, родившемуся глубокой зимой пятьдесят четвертого, было всего семнадцать. Он был жив, но не был собой. Его глаза не были больше темно-карими, а волосы — иссиня-черными, на руках отчетливо проявлялись паутинки острых вен, но не было и следа от старых шрамов и мозолей. Он был слишком юн и слишком жив — и это убивало его во второй раз. Шла пятая ночь с того дня, как он впервые проснулся в этой комнате — над ним стояла Мара Лестрейндж, с которой он едва не столкнулся лбами, вскочив с постели. Он оказался здесь в самом пылу сражения, он помнил, отчетливо помнил, как гасла жизнь в глазах ведьмы с отвратительно-фиолетовым цветом волос, помнил, как уже плел невербальное заклинание, меняя положение, чувствовал вкус крови во рту! А теперь его внимательно изучают бесцветные глаза матери его отца. Он едва помнил их. Он едва помнил её. Что она делает здесь? «Тише, дитя» —прозвучал ее ветхий голос в его голове прежде, чем ладонь опустилась уже на его глаза и он вновь забылся сном.
* * *
Холодная сентябрьская ночь навалилась на изломанную, провалившуюся в нескольких местах крышу тяжелым чёрным полотном. Луна и звезды скрылись за грязно-серыми облаками, и силуэт дома стал казаться искореженным и неправильным. В окнах первого этажа горели огни. Отбрасывая подрагивающие желтые квадраты света на землю, они выхватывали из сумрака цветочные клумбы, усеянные битым стеклом, осыпавшейся черепицей и обломками карнизов. Второй этаж тонул во мраке и глухой, мертвой тишине.
Пустота и одиночество — вот, что ему нужно. Это и есть его молитва. Его гребаная жизнь.
Ночь густая, закрывает своим темным покрывалом весь город, зажигает печальные, яркие огоньки в небе. Горящий диск луны низко висит над заброшенными зданиями, погруженными во мрак. Как и его душа. А может и нет никакой души? Только вязкая, черная жижа в груди, давит, вытесняет все человеческое. За что ему был дан второй шанс? Закончить начатое? Исправить свою жизнь? Или и вовсе не было никаких шансов, только любовь. Чистая, неоспоримая любовь старой ведьмы.
Рабастан затягивается сигаретой, проводя рукой по растрепанным волосам, вдыхает оттенки вкуса сгорающего табака и выпускает тонкой струйкой сизый дым. Он рывком выбивает старую, дребезжащую раму, впуская прохладный свежий воздух в помещение и смотрит в окно. Мир замер. Он жил здесь когда-то. Еще вчера, кажется. Полная незримых звуков темнота наводит чувство безотчетной опасности и усиливает обостренное чутье. Но сильнее всего чувствуется слепая ярость, заглушающая все вокруг.
И хоть Мара и говорит, что воспоминания о старой жизни померкнут, забьются в самый дальний уголок сознания и в конце концов покинут его, ведь это противоестественно — прожить две жизни, — Лестрейндж помнил все. До последнего мгновения, каждый взгляд, каждую пару глаз, в которой меркла жизнь, каждое лицо, каждый день, проведенный в Азкабане, своего безумца-брата и его чокнутую стерву-жену, боль, страдания, безнадежность, чьи-то слова, вырывающий из грудной клетки сердце крик, отца, мать, ту пуффендуйку, что они загоняли на шестом курсе, взгляд из-под очков-половинок Дамблдора, крики съедаемых оборотнями студентов, зелено-красные вспышки, сквозивший страх, смерть, зловоние, слезы. Все это калейдоскопом металось в его голове, не давая нормально соображать и разговаривать — создавалось впечатление, будто его привязали к стулу, зафиксировав голову, и заставляли смотреть одну и ту же пленку сотни раз — видит бог, он недолго так выдержит.
Но его всё еще ждал проклятый Хогвартс.