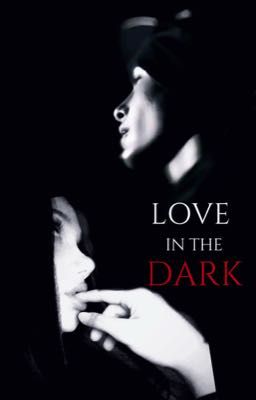8. Cold Hands, Colder Hearts
Он начал с малого. Не резко, не вызывающе, не так, чтобы кто-то — особенно она — мог это обозначить как «изменение». Всё происходило мягко, как туман, проникающий в рассвет. Слово за словом, жест за жестом, Том приближался к Вивиан — так, что даже самые внимательные не заметили, как дистанция между ними исчезла. На переменах он не уходил сразу после совета, как раньше, — теперь оставался чуть дольше, перекидывался шуткой с Сэмом, поддерживал разговор с Николь, но взгляд чаще скользил по Вивиан. Иногда — когда она слишком увлечена работой, иногда — когда она делала глоток чая и взгляд её становился рассеянным, будто где-то далеко, в мире, который никто, кроме неё, не видел.
За эту неделю Том сумел выстроить пространство, в котором их взаимодействие стало естественным. Как будто они всегда были на одной волне, просто раньше кто-то мешал это заметить. Он знал, когда появиться и когда исчезнуть. Он не писал ей назойливо, но мог прислать короткое сообщение в 22:47 — с одной строчкой, точной и своевременной, такой, что она удивлялась, почему это попало в настроение.
Он не делал комплиментов напрямую — но мог отметить, как она переформулировала сложный дипломатический пункт в проекте. Он не спрашивал о семье — но однажды, стоя с ней у окна, где мерцал город, как сотни крошечных сигарет в ночи, будто случайно заметил:
— Странно, что тебя вообще отпускают в такую школу. С твоим уровнем контроля — ты должна была управлять собственным фондом, а не парламентом.
— Я и управляю, — усмехнулась Вивиан, не отрывая взгляда от улицы.
— Серьёзно? — Он приподнял бровь, и голос его звучал не как допрос, а как лёгкое восхищение.
— Нет. Но ты не первый, кто так думает. Папа говорит, я была президентом ещё в детском саду.
— Значит, это у вас семейное.
— Что именно?
— Быть на шаг впереди.
Она посмотрела на него с тем выражением, в котором было и подозрение, и интерес, но не тревога. Пока — не тревога.
И так происходило всё чаще. Он знал, как выстроить фразу, чтобы вопрос звучал как восхищение. Он подбирал слова, чтобы под маской лёгкости пряталась разведка. Информация, которую он собирал, стекала в его сознание не как отчёт, а как музыка: тонкая, на грани слуха. Он знал, в какой день её отец отсутствует в городе. Знал, что её мать не выносит лаванду. Что в детстве у Вивиан была собака по кличке Лито, и что она умерла на её руках. Эти вещи она рассказывала, не замечая, как много говорит. Том просто слушал. Слушал так, как будто ему это было действительно важно. Потому что, возможно, это и было важно.
Он ни разу не упомянул слово «мафия». Ни разу не сказал ничего прямого. Но однажды, когда они вместе вышли с поздней тренировки по дебатам и шли вдоль старой стены академии, облитой мягким золотом от фонарей, Том не удержался:
— Ты когда-нибудь думала, что у твоей семьи... слишком много охраны?
Она замерла. Лишь на миг. Потом усмехнулась:
— Слишком много — это если бы за мной ходил вертолёт.
— Я серьёзно. Иногда у меня ощущение, что тебя охраняют как... что-то, что нельзя потерять.
— Может, меня и нельзя.
Он не стал давить. Не стал уточнять. Он только кивнул, будто соглашаясь с этим как с очевидным. Но запомнил: она это не отрицает. Просто прячет.
И всё это время — весь этот фальшиво-обычный, тщательно отрепетированный спектакль сближения — внутри Тома происходило нечто опасное. Он понимал, что начал чувствовать к ней нечто, что не укладывалось в конструкцию «миссии». Он чувствовал её голос, даже когда она молчала. Он ловил себя на том, что видит её движения даже с закрытыми глазами. И что, когда она смотрит не на него, ему чего-то не хватает.
А главное — он стал бояться того момента, когда придётся сдать отчёт. Когда придётся превратить то, что стало живым, в строку в файле. Она уже не была просто объектом. Она была человеком. А человек — это риск.
Гюнтер говорил: «Не лги. Просто направляй её. Просто слушай. Просто используй».
Но Том всё чаще спрашивал себя — кто здесь кого использует?
И пока Вивиан, казалось бы, доверяла — он начинал бояться, что настоящая игра только начинается. И он уже в ней — пешка, думающая, что она ферзь.
***
Ночь в Гамбурге выдалась тихой — слишком тихой для города, где даже в три утра гудят порты и где в любую минуту можно услышать вой тормозов дальнобойщиков на развороте. Но именно в эту ночь — словно по заказу — ветер стих, а в воздухе стояло что-то плотное, тугое, будто сам воздух затаил дыхание перед чем-то необратимым. Промзона была пуста. Железные ворота, ведущие к логистическому терминалу, дёрнулись от сквозняка, и на секунду показалось, что они вот-вот сами по себе раскроются. Но нет — всё оставалось на своих местах. И всё шло по плану.
Он стоял в тени, не издавая ни звука. Не один — рядом был второй. Третий ждал в фургоне с выключенными фарами, дальше по улице, за углом. На часах — 03:36. До взрыва оставалось шесть минут.
План составлялся неделями. Никто из них не принадлежал к фамилии. У них не было герба, не было кольца, не было крови, впаянной в истории двух династий. Но был замысел. Острый, ледяной, расчётливый. Это не была месть. Не демонстрация силы. Это было движение фигуры. Перемещение ладьи на доске, где короли слишком давно смотрят друг на друга через поле мёртвых пешек. И они — эти тени — были не пешками, нет. Они были игроками за пределами доски.
Сигнал прошёл через гарнитуру. Один короткий щелчок. Второй — ответ. Контейнер номер четыре, центральный ряд. Он давно стоял мёртвым — будто забытым. Но внутри уже несколько дней ждал своё время самодельный заряд, собранный из переработанных компонентов: нитраты, пластид, металлокомпозиты — всё добытое с грязного рынка в Роттердаме, доставленное в Гамбург через фальшивые транспортные документы. И всё — под видом запасных частей. Установлен внутрь — под ложный слой мешков с героином, в точке, где его не достанет ни один инспектор. Всё было просчитано до секунды.
Человек у двери бросил взгляд на часы. 03:38. Он наклонился, медленно и методично закрепил последний элемент фиксации на двери, что вела в восточное крыло склада. Отпечатков не будет — перчатки из новой синтетики, не оставляющей ни микроволокон, ни пота. Он не торопился. Главное — уйти до хлопка.
— Они не поймут сразу, — проговорил голос в гарнитуре. — Думать будут друг на друга.
— Естественно, — ответил второй. — Там внутри — и их товар, и чужие руки. Всё пересечено.
— Если Морретти спросят, мы были в Неаполе. Если Каулитц спросят — мы вообще не работали.
— И никто не спросит. Завтра у всех будут свои мёртвые.
03:39. Снизу, под бетонной платформой, детонатор уже активирован. Но взрыв запрограммирован с задержкой — чтобы они успели уйти за два квартала, смешаться с молчаливыми улицами припортовой зоны. Это не должна быть быстрая смерть. Это должна быть история. Новость. Громкий сигнал в эфире мира, где слух — куда страшнее, чем удар.
Он шагнул в сторону, взглянул через плечо — на склад, где неоновая лампа всё ещё мерцала где-то внутри, отражаясь в лужах, на которых играли отсветы окон. Всё выглядело обыденно. Слишком. И в этом был весь вкус.
03:42.
Они уже были далеко. Первый звук — не гром, а дрожь. Земля качнулась под ногами, словно город на мгновение потерял равновесие. А потом — вспышка, срезавшая горизонт. Пламя вырвалось из центра склада, ударив вверх, как дыхание зверя, и поглотило весь комплекс — старые металлоконструкции треснули, крыша взлетела, обломки посыпались на асфальт, а сигнализация захлебнулась ревом. Где-то вдалеке залаяли собаки. Окна в домах задрожали.
Он не обернулся.
Сигнал в гарнитуре замолчал.
Они ушли в ночь.
На складе осталась только пыль, пепел и дым — а ещё героин, обугленный металл, взорванные контейнеры, тела и одна идея, запущенная в сердце старой войны: теперь ни Каулитцы, ни Морретти не смогут игнорировать — их снова столкнули лбами.
И пока они займутся обвинениями — настоящие игроки начнут следующий ход.
В Нью-Йорке была ночь. Не та, которую принято изображать на рекламных буклетах с огнями Таймс-сквер и безудержным гулом мегаполиса, а вязкая, живая, почти домашняя ночь для тех, кто давно научился слушать тишину сквозь бетонные стены. Стрелки часов медленно приближались к десяти, и воздух снаружи стал еще прохладнее.
В этом всём был свой, только ему присущий ритм: ритм города, который не спит, но дремлет на грани пульса. И в этой тёплой, почти уютной атмосфере, где даже неоновый свет переставал резать глаз, Том растянулся на кровати, положив одну руку за голову, а второй неторопливо набирал ответ на экране телефона. Над ним светила не лампа, а мягкое, едва золотистое сияние из угла комнаты — дизайнерский ночник, выбранный не им, а кем-то из обслуживающего персонала, который решил, что "в комнате молодого господина должно быть рассеянное освещение". Сам Том, впрочем, на это давно не обращал внимания. Он был сосредоточен — но не на освещении, и даже не на новости, которая спустя минуты перевернёт ночь. Он был сосредоточен на переписке. На коротких, язвительных репликах, которые обменивались он и Вивиан с той лёгкой, почти ленивой интонацией, как будто в их диалоге не было важности, хотя под поверхностью всегда что-то скрывалось.
Tom K.
Ты вообще спишь, или как обычно делаешь вид, что занята, пока просто листаешь статьи для дебатов?
Vivian M.
Ого, ты прямо как учитель, который застукал меня на перемотке Википедии.
Но если хочешь знать — нет, не сплю. И да, я читаю статьи. А ты, конечно же, занят серьёзными государственными делами?
Tom K.
Очевидно. Переговоры с собственной ленью в самом разгаре.
Кстати, ты в курсе, что в последней статье, которую ты кинула на собрании, была ошибка в хронологии?
Vivian M.
Нет. И если ты сейчас скажешь, что Рим пал в 1453-м, я сотру тебя с лица Земли.
Tom K.
Нет, но ты сослалась на речь Макиавелли, которую он, кажется, никогда не произносил.
Хотя звучала ты убедительно. Может, тебе вообще уйти в политику?
Vivian M.
Если я уйду в политику, ты первым будешь моим пресс-секретарём. Потому что врёшь красиво.
Tom K.
Я? Вру?
Ты только что оправдала несуществующую цитату, и всё равно выглядела, как будто ты родилась на кафедре истории.
Vivian M.
Родилась на кафедре, выжила в палате лордов, возглавила студсовет. Классика.
Tom K.
Звучит как резюме для дешевой драмы.
Ты вообще понимаешь, что если бы ты была чуть менее пугающей — мы бы с тобой даже дружили?
Vivian M.
А ты понимаешь, что если бы ты был чуть менее самодовольным — ты бы не писал мне каждый вечер?
Tom K.
...
Хорошо, сдаюсь. Но только потому, что ты поймала меня.
И да, я всё ещё не выучил текст для завтрашнего выступления. Так что будь добра — скажи, что ты тоже не выучила.
Vivian M.
Я не выучила.
(Это ложь. Я всё выучила, конечно.)
Tom K.
Звучишь убедительно.
(Это ложь. Я тебе не верю ни на секунду.)
Vivian M.
Ты должен быть благодарен, что я хотя бы притворяюсь ради тебя.
Tom K.
О, я благодарен. Каждый вечер. Даже когда ты игнорируешь мои сообщения пять минут.
Vivian M.
Пять минут — это мало. Хочешь, научу, как игнорировать по-настоящему?
Tom K.
Ты и так учишь меня этому каждый день.
Vivian M.
Вот и пригодился твой талант к страданиям.
Tom K.
Ага. Мученик парламентского крыла, том 1, глава Вивиан.
Vivian M.
Смотри, не забудь процитировать меня в своей речи завтра. Ссылку укажешь?
Tom K.
Конечно. В разделе «источники бесконечного раздражения».
На экране, среди темной тишины, всплыло её очередное сообщение. Что-то про завтрашнее заседание — про то, что если он снова будет опаздывать, она сделает вид, что не знает его. И добавила смайлик, которого обычно не ставила.
Он уже собирался ответить — что-то лениво-саркастичное, как в их стиле, вроде «признай, тебе скучно без моего опоздания», — когда дверь тихо скрипнула, будто не хотела нарушать тонкую ткань ночи. За ней стоял охранник. В чёрной рубашке, расстёгнутой на одну пуговицу, и с тем самым выправленным лицом, которое не терпит шуток.
Том даже не сел сразу — только оторвал взгляд от экрана, на котором ещё мигало её имя, и медленно перевёл глаза на вошедшего.
— Том, ваш отец ждёт вас, — произнёс тот ровным голосом, без паузы, без объяснений. И, как всегда, с чуть заметной тенью ожидания. Как будто такие вызовы не обсуждаются.
Он только кивнул — не спеша, будто бы лениво. Хотя внутри что-то уже замерло. Он не знал, зачем зовёт отец. Но таких визитов в его комнату просто так не было.
В тот же момент, за океаном, в другой временной зоне — когда вечерний Нью-Йорк ещё шумел под окнами, а его комната казалась оторванной от всех миров — в далёком Гамбурге, в 03:43, небо внезапно вспыхнуло над промышленной зоной. Будто кто-то в разгар сна ударил по воздуху раскалённым молотом. Молчаливые здания, серые стены, контейнеры и бетон — всё вздрогнуло от внезапного света и звука, который ещё мгновение никто не мог назвать взрывом: он казался слишком чудовищным, чтобы быть реальным.
Но Том ничего об этом не знал. Он только встал, опуская телефон на край дивана, так и не закончив сообщение, и прошёл мимо охранника, на секунду бросив взгляд на экран.
Последняя строка, мигнувшая на дисплее:
«Ты опять проиграл спор».
Он ничего не ответил. Только закрыл дверь.
Том шёл по коридору, будто сквозь удушливую плотную вату, в которой не было ни одного звука, кроме собственных шагов. Мягкий ковёр приглушал гул, но всё равно казалось, что каждый его шаг слышен на другом конце здания. В этом доме всё было так устроено: чтобы ты помнил, что за тобой всегда наблюдают. Чтобы ты не расслаблялся. Чтобы помнил, кто здесь власть.
Он знал, куда идёт. Ему не надо было задавать вопросы.
Охранник больше ничего не говорил, только шёл позади, и это — молчание, шаги в унисон — нервировали больше, чем если бы он произнёс хоть одно слово.
Отец ждал его в кабинете.
Дверь была приоткрыта. Том вошёл без стука, намеренно. Он не боялся. Или, по крайней мере, делал вид, что не боится.
Гюнтер стоял у окна. Сигарета между пальцами догорала, вторая уже ждала в пепельнице. Занавески отодвинуты, но за окном — только тьма. Он всё равно смотрел туда, как будто мог разглядеть взрыв на расстоянии шести тысяч километров. Или услышать, как рушатся чьи-то склады.
— Зашёл, наконец, — процедил он, не оборачиваясь. — Хоть что-то в этой семье работает по команде.
Том ничего не ответил. Закрыл за собой дверь.
— Ты слышал? — голос Гюнтера был ровным, почти спокойным. Это было хуже, чем если бы он кричал. — Взрыв. В Гамбурге. В три сорок три по местному. Промышленная зона. Один из наших складов. Пепел. 52 килограмма героина, который был готов к отправке в Испанию. 9 миллионов евро наличными. Все сгорело.
Том опёрся на спинку кресла перед столом, не садясь.
— И ты думаешь, это Морретти? — спросил он, стараясь не показывать, что сердце уже забилось быстрее. — У них бы не было смысла...
Гюнтер резко повернулся.
— Смысла?! — перебил он. — Ты думаешь, они нуждаются в смысле? Это Морретти. Собаки, которых мы слишком долго оставляли живыми. Ты думаешь, они не могли этого сделать?
— Но они потеряли бы тоже, — медленно сказал Том. — Это промзона, где были и их поставки. Часть договоров — общих. Это не похоже на их стиль. Это скорее... хаотично.
— Или показательно, — отрезал Гюнтер. Он подошёл к столу, обошёл его и встал прямо перед сыном, слишком близко, чуть выше по росту, с запахом дорогого табака, которого Том терпеть не мог. — А может, ты забыл, с кем имеешь дело?
— Нет, — спокойно ответил Том, глядя ему в глаза.
— Тогда объясни мне, почему ты всё ещё ничего не добился? — голос стал резким. — Сколько ты там рядом с ней, а? Сколько недель? И что? Она что-то рассказала? Ты вытащил хоть каплю информации?
— Она не идиотка, — глухо сказал Том. — Она ни при каких условиях не начнёт выкладывать мне мафиозные схемы своей семьи просто потому, что я сидел с ней на одном уроке истории.
Гюнтер усмехнулся. Глухо. Зло. Как волк, который вот-вот вцепится в горло.
— Тогда сделай так, чтобы выкладывала. Не будь просто мальчиком из её класса, Том. Стань для неё кем-то, без кого она не сможет дышать.
Он сделал шаг ближе, и Том ощутил, как напряглась каждая мышца в теле.
— Ты хочешь, чтобы она тебе доверилась? — продолжил Гюнтер. — Переспи с ней. Привяжи. Сделай всё, что нужно. Пусть она думает, что ты — её укрытие. Что ты — её выход. А потом, когда она выложит всё — кто, где, что, когда и зачем — тогда можно будет выбирать, что оставить в живых.
Том молчал. Пальцы дрожали, но он держался.
— Тебе не кажется, — медленно выдавил он, — что это слишком?
— Слишком? — в голосе Гюнтера зазвенел металл. — Слишком — это когда я позволил тебе вырасти с мягким нутром, с этим взглядом, будто ты можешь выбирать. Но ты не выбираешь. Ты исполняешь.
Он резко схватил Тома за воротник футболки, притянул к себе.
— Ты мне должен. За всё. За имя. За кровь. За эту семью. И если я говорю — трахни эту девку, чтобы она тебе доверилась, — ты идёшь и делаешь это. Понял?
— Она не такая, — тихо сказал Том, зубы сжаты. — Она не поведётся.
— Тогда сделай так, чтобы повелась, — бросил Гюнтер, оттолкнув его. — Придумай. Ты же у нас умный, да? Слова умеешь подбирать. В глаза заглядывать. Бабы любят таких. Так вот: пусть влюбится. Пусть потеряет голову. А потом — делай своё дело.
Он отошёл к окну. Взял вторую сигарету.
— Потому что, если ты этого не сделаешь, — его голос стал тише, но от этого страшнее, — я пошлю другого. И тогда она не просто расскажет нам всё. Она расскажет это в слезах. На коленях. С кляксой крови на губах.
Том стоял, не двигаясь.
Ненависть поднималась в нём, как прилив.
Но он ничего не сказал.
Он только повернулся и вышел.
Без звука.
Без взгляда назад.
Он вошёл в комнату и сразу закрыл за собой дверь, на этот раз — бесшумно, не хлопая, но с тем же напряжением в плечах, как будто вся злость, которую он не высказал в кабинете, теперь распирала грудную клетку изнутри. Пространство казалось слишком тесным. Тихим. Даже слишком. Он не включал свет, только прошёл к кровати, тяжело опускаясь на матрас, уронив себя в полумрак, словно тело было не из плоти, а из камня.
Телефон был в руке — он машинально разблокировал его, глянул на экран. Сообщение. Vivian M.
«Вижу, ты занят. Спокойной ночи.»
Он ничего не написал в ответ. Просто смотрел на экран, пока тот не потемнел. И даже тогда ещё несколько секунд сидел в тишине, уставившись в пустоту, в темноту. Потом убрал телефон на тумбу, откинулся на спину, закинул руки за голову, посмотрел в потолок. Задержал дыхание. Выдохнул медленно, срываясь на шёпот:
— Чёрт...
Пальцы вцепились в ткань постели. Мысли не останавливались. Он знал, чего от него хотят. Знал, зачем был нужен этот разговор. Знал, почему отец повышал голос, сжимал пальцы в кулак, смотрел так, как будто Том — винтик, инструмент, часть большой схемы. Но... он не будет этого делать. Не будет спать с ней. Не будет втираться в доверие через постель, через нежности, через ложь, прикрытую притворной заботой. Даже если Гюнтер будет беситься, угрожать, давить, отрекаться. Даже если поставит ультиматум — или ты, или семья. Даже если решит, что Том предатель. Он не сделает этого. Не через неё. Никогда.
Он найдёт другой путь. Обойдёт всё. Сам доберётся до правды. Узнает, кто стоит за взрывом, кто передал информацию, кто мог так тщательно всё подстроить. Будет копать. Будет использовать связи, выискивать слабые места — но сам. Не через неё.
Потому что Вивиан — не просто часть семьи Морретти. Не просто дочь врага. Не просто мишень. Она — умная. Сильная. Осторожная. У неё острый язык, хорошая память, она слышит то, что другие пропускают, и запоминает даже то, что не говорит вслух. Она не позволяет никому обращаться с собой как с игрушкой. Не терпит снисхождения. Не боится смотреть в глаза. Умеет говорить жёстко, но не теряет достоинства. И даже если он только недавно узнал, кто она на самом деле — это ничего не меняет. Ни в том, как он её видел раньше. Ни в том, как видит теперь.
Он понимал, что должен отстраниться. Что должен видеть в ней цель. Проблему. Угрожающую переменную в уравнении. Но он не мог. Потому что уважал её. Потому что, чёрт побери, ценил. За её характер. За её твёрдость. За то, как она ведёт себя перед учителями. Как держит лицо, даже когда явно устала. Как не унижает других и не позволяет унижать себя. Всё это — было слишком... настоящим, чтобы разрушить это приказом. Слишком живым, чтобы уничтожить ради отчёта отцу.
Он прикрыл глаза, сжал пальцы в кулаки, будто только так мог удержать себя от желания всё упростить. Он не упростит. Он усложнит. Но сам. По-своему.
***
Утро было промозглым и влажным — октябрь держался за последние тёплые остатки осени, но воздух уже знал про зиму. В саду, за окнами, стелился лёгкий туман, облепиха на аллее казалась потускневшей, листья кленов налипали на каменные ступени, и весь этот пейзаж отдавал затухающей жизнью. В доме было тихо. Только скрип тонких ложек о фарфор прерывал утреннее молчание. Завтракали, как обычно, втроём — за большим овальным столом в столовой, где тёмные панели стен и старинные люстры делали даже утро торжественным.
Моника сидела с прямой спиной, в кремовом кардигане, сдержанная, как всегда. У неё был этот безупречный вид женщины, для которой чувства — слабость, особенно в стенах собственного дома. Вивиан молча ковырялась в тарелке с омлетом, отрешённо слушая, как отец перебирает что-то в телефоне, вздыхает. С утра он был странно напряжён, слишком молчалив, даже для него. По нему было видно — что-то случилось, и он всё ещё решал, стоит ли говорить.
Альдо наконец положил вилку, отодвинул тарелку и выдохнул, глядя в стол. Затем поднял глаза на обеих.
— Склад взорвали, — произнёс он ровно. — Сегодня ночью. Гамбург. Рейхштрассе 14. Примерно в 3:30 по местному. Ударная волна достала соседние здания. Никто из наших не пострадал, потому что склад пустой... ну, почти пустой.
Вивиан замерла. Она медленно отложила приборы и посмотрела на отца.
— Что там было?
Альдо потер пальцами лоб, как будто пытался стереть напряжение.
— Остатки, — сухо сказал он. — То, что мы оставили ещё тогда. Когда был мир. Это был один из тех складов, где лежало общее. Мы не трогали его, потому что... договор. Пока всё оставалось относительно спокойно. Там было около двадцати килограммов героина и два миллиона евро — всё в наличке. Это — наша часть. Часть, которую Гюнтер не тронул, потому что знал, что это хрупкий баланс.
— Но теперь... — пробормотала Моника, медленно качая головой. — Теперь кто-то решил его разрушить.
— Именно, — глухо сказал Альдо. — Это уже не намёк. Это — акт.
Вивиан облокотилась локтями о стол, будто бы зябко обхватила себя руками. Она молчала несколько секунд, прежде чем заговорить, низким, спокойным, но сосредоточенным голосом:
— А ты уверен, что это — они?
Альдо вскинул брови.
— Кто — они?
— Каулитцы, — отчётливо произнесла она. — Ты сам сказал: часть в том складе была их. Им было бы невыгодно подрывать его. Зачем им сжигать свои же деньги? Или наркотики?
— Они могли пойти на это, чтобы показать, что им плевать. Или, чтобы обвинить нас.
— Или это был кто-то третий, — Вивиан смотрела отцу в глаза. — Кто-то, кто знал, что именно в том складе лежат остатки договора. Кто-то, кто хотел, чтобы мы подумали на Каулитцев. И наоборот.
Моника презрительно фыркнула и поджала губы.
— Не начинай, Вивиан. Опять свои теории. Мы уже обсуждали письма. Это всё...
— Нет, мама, послушай, — Вивиан резко посмотрела на неё. — Тогда, когда пришло первое письмо... ты сказала, что оно не в их стиле. Что они не пишут так. И я согласна. Это не их язык. Не их структура угроз. Каулитцы — прямолинейны, грубы. Они не прячутся за поэтикой и тонкими намёками. А эти послания... Они были написаны человеком, который слишком хорошо нас знал. Который знал, как говорить, чтобы задеть. И знал, на что надавить. Это не был стиль Каулитцев.
Альдо пристально посмотрел на дочь, и на миг в его взгляде промелькнуло что-то — может быть, признание, может быть, тревога.
— Письма, склад... — тихо произнёс он. — И ты думаешь, это кто?
Вивиан помедлила, потом медленно проговорила:
— Я не уверена. Но я думаю, что за всем этим кто-то один. Кто-то, кто помнит старое. Кто-то, кто был частью всего этого. Потому что в письмах были детали... которые знал только один человек.
Моника сжала губы, явно не желая втягиваться.
— Ты опять, — устало выдохнула она. — Ты опять всё усложняешь, ищешь заговоры. Всё проще, Ви. Это Каулитцы. Это всегда они.
— Нет, мама, — холодно ответила Вивиан. — Не всегда. И если ты меня не слушаешь — это не значит, что я не права.
Альдо медленно поднялся, подошёл к окну, глядя на серое, хмурое утро за стеклом. Он долго молчал, прежде чем сказать:
— Надо назначить встречу. Через посредников. Я хочу услышать Гюнтера лично. Или он потеряет не только склад.
Пальцы сжались за спиной в замок, и в этой позе было столько усталости, что даже Моника, обычно равнодушная к эмоциям мужа, невольно взглянула на него внимательнее.
— Подберу переговорщиков, — наконец сказал он, всё так же, не оборачиваясь. Его голос прозвучал низко и твердо, будто решению требовалась физическая опора, чтобы не пошатнуться. — Не тех, кто известен. Не тех, кого можно перехватить или заранее вычислить. Это будут старые люди. Старые контакты. Те, кто уже когда-то делал это.
Он повернулся и подошёл к столу, вновь занял своё место, но уже не прикасался к еде. Его пальцы перебирали кольцо на мизинце — ту самую фамильную вещь, которую он носил лишь в моменты, когда нужно было напомнить себе, кем он является, и какой вес несёт его слово.
— Я направлю к нему посла, — продолжал Альдо, теперь обращаясь не только к Монике, но и к дочери, прямо, почти будто проверяя её на реакцию. — Неофициально. Без записей. Он появится в доме Гюнтера без предупреждения — к вечеру. Это будет напоминание. Не просьба, не мольба. Мы не умоляем о встрече. Мы её обозначаем. И посмотрим, как быстро Каулитц вспомнит, что в старых правилах были пункты, которые никто не отменял. Даже он.
— Кто будет этим послом? — спросила Вивиан тихо, пристально глядя на отца.
— Марко, — коротко ответил Альдо. — Он служил посредником ещё при твоём деде. Когда Каулитц был моложе, а я только начинал. Он знает, как войти, не разозлив. И как сказать достаточно, не сказав ничего.
— И после этого? — медленно уточнила она. — Вы встретитесь?
Альдо кивнул.
— После визита Марко, когда ответ будет получен... мы отправим второго — для согласования точки. Они тоже выведут своего человека. Это будут два переговорщика — их и наш. Марио, если всё пойдёт как надо, поедет в Гамбург. С ним свяжутся через тех, кого знают обе стороны. Место — нейтральное. Возможно, Швейцария, возможно, старая вилла в Комо, которую до сих пор держат в тени. Там — только два представителя, никакой охраны внутри. Только взгляд, только разговор.
Он замолчал, смотря прямо перед собой. Моника что-то тихо сказала про риск, но её голос утонул в гулкой тишине комнаты.
Альдо всё ещё смотрел в пустоту, будто видел этот разговор уже в голове: как они будут сидеть друг против друга — или, точнее, как их люди будут сидеть. Как пойдут первые слова. Как от этих слов может зависеть не только исход конфликта, но и дальнейшая жизнь их детей, домов, фамилий. Потому что теперь речь уже не шла о деньгах. И не только о наркотиках. Это было о балансе. О достоинстве. О грани.
— Если он откажется, — добавил Альдо уже холоднее, — то, значит, мира больше нет. Значит, всё, что было до этого, — мертво.
Вивиан чуть приподняла подбородок, будто эта фраза вызвала в ней неожиданный отклик. Она не была ребёнком. И слишком хорошо понимала, что за этим последует.
Альдо встретился с её взглядом.
— А значит, тогда уже не письма будут. А огонь.
Наступила короткая пауза, натянутая, как шелковая нить на грани разрыва. Вивиан не отводила взгляда от отца, будто запоминая эту последнюю каплю — спокойную, ледяную — после которой всё, как она понимала, уже никогда не станет прежним. Она выпрямилась, коротко кивнула.
— Ладно, мне пора. Иначе, я могу опоздать.
Отец посмотрел на неё сдержанно, но в голосе всё же проскользнула мягкость, редкая, почти забытая.
— Удачи, Виви. Будь осторожна.
Она снова кивнула — быстро, как будто боялась, что если задержится хоть на мгновение, то сломается. Направляясь к выходу, она слышала, как Моника переворачивает страницу газеты за своим бокалом чёрного кофе. Ни взгляда. Ни слова. Как будто дочь была пустым местом. Это не ранило — больше не. Она давно уже научилась не ждать от матери ничего, кроме молчаливого равнодушия. И всё же, внутри на миг сжалось. Всё равно сжалось.
Она вышла на крыльцо одна, без Сильвии. Был конец октября, и воздух был прохладным, влажным от ночного дождя, с тонкой терпкой горечью увядающих листьев. На ней тёплое укороченное пальто глубокого чёрного цвета с высоким воротом и аккуратной застёжкой, подчёркивающее талию. Тёмно-коричневая мини-юбка из плотной ткани красиво сочеталась с высокими кожаными сапогами на устойчивом каблуке. На запястье — изящные золотые часы, в ушах — небольшие серьги в форме бантиков. Волосы аккуратно уложены мягкими волнами, зафиксированы тёмным ободком, подчёркивающим открытое лицо. Губы — глубокий бордовый оттенок. В руках — тёплая кожаная сумка цвета шоколада с золотистой фурнитурой.
Шофёр открыл для неё дверь, и Вивиан без слов села на заднее сиденье. Машина тронулась почти сразу, и всё, что осталось позади, растворилось в зеркале заднего вида — особняк, колонны, тень матери в окне, и фигура отца у дальнего окна кабинета.
Она прижалась лбом к холодному стеклу. Всё казалось каким-то нереальным. Переговоры. Угрозы. Письма. Кто-то наблюдает. Кто-то тянет нити, пока она притворяется обычной ученицей, обычным президентом элитной академии. Но она не была обычной. И не чувствовала себя в безопасности ни на секунду.
Иногда, когда шофёр тормозил у светофоров, Вивиан ловила своё отражение в стекле. В нём — всё такая же уверенная в себе, немного отстранённая девушка. Ни капли страха. Ни капли тревоги. Но только она знала, как крепко сжимает пальцы в перчатках. Как трудно удерживать ровное дыхание.
И всё-таки, всё чаще её мысли возвращались к Тому. Он появился рядом резко, слишком вовремя, слишком близко. Поначалу она списывала это на совпадение — они всегда работали вместе, он был в парламенте, он был в её кабинете. Но сейчас... Сейчас всё это стало слишком плотным, слишком частым.
Эти ночные переписки — лёгкие, будто бы ни о чём, но иногда пугающе глубокие. Том знал, когда не надо шутить. Знал, когда она молчит — не просто так. Он знал, когда её голос звучал натянуто, даже если улыбка была безупречной. Он мог вбросить случайную фразу вроде «ты сегодня смотришь так, будто бы выносишь приговор» — и это было так точно, так хлёстко, что Виви приходилось прятать лицо, чтобы не выдать дрожь.
Он умел видеть. Видеть людей — такими, какие они есть. Сквозь стекло, сквозь маски, сквозь броню. А Вивиан привыкла быть бронёй. Привыкла быть тем, кого не читают. Но он — читал.
И в этом было... страшно. Уютно. И непонятно.
Она не доверяла никому, но Том... Том будто бы говорил на её языке, даже если она не учила его. И от этого — становилось только тревожнее.
***
Вечер в особняке Каулитцев опускался медленно, как бархатный занавес в оперном театре. Все шумы стихли. Лишь редкие звуки шагов охраны за стенами да слабое потрескивание поленьев в камине нарушали тишину, которая здесь была почти культом. Том стоял чуть в стороне от отца — у колонны в приёмной, под тенью тяжелой барочной скульптуры, с руками в карманах, с насмешливо-отчуждённым взглядом. Но он слушал. Он всегда слушал, даже когда делал вид, что его всё это не касается.
Гюнтер сидел в широком кресле, спиной к окну, заложив ногу на ногу. Его белая рубашка была чуть расстёгнута у горла, пиджак — небрежно накинут на спинку кресла. Он не демонстрировал силу — она просто из него исходила, как тепло от камня, лежавшего на солнце целый день. Перед ним — гость. Посланник Морретти.
Это был человек без возраста. Лицо с холодными, блекло-зелёными глазами и выразительной складкой между бровей, будто его всю жизнь раздражали вопросы без ответа. Он не был охраной, не был телом — он был умом. Его звали Марко Д'Анджело, и в былые годы он уже сидел в этих стенах, за этим же столом, но по другую сторону — когда семьи ещё вели переговоры о временном распределении южного порта. С тех пор многое изменилось. Кроме его взгляда.
— Какая смелость, — Гюнтер сказал это без тени сарказма. Скорее, как проверку.
— Какая необходимость, — спокойно ответил Марко, снимая перчатки. Его пальцы были длинные, почти музыкальные, но на костяшках виднелись старые шрамы. — Я пришёл не умолять, не угрожать и не торговаться. Я пришёл предупредить.
Том даже не дёрнулся. Он смотрел на Марко, на отца, на пламя за решёткой камина, и чувствовал, как в этой комнате сгущается воздух. Он знал — если бы Гюнтер не захотел, этот человек не пересёк бы порог.
— Предупреждение обычно идёт перед предложением, — лениво бросил Гюнтер.
— Вы правы, синьор Каулитц. Но в этот раз — нет.
— Допустим. Что же ты предупреждаешь?
Марко не сел. Он остался стоять — не из вежливости, из принципа. Его голос был глубок, размерен, в нём не было привычного огня итальянской речи. Только контроль.
— То, что мы оба теряем людей. То, что обе семьи страдают, но ни одна не признаёт вины. То, что за последние недели исчезли двое наших посредников и один ваш. А потом — взрыв. И только идиот поверит, что это — совпадение. Я здесь, чтобы вы поняли: есть третий. Кто-то, кто дышит нам в спины.
Пауза повисла, словно всё замерло. Том невольно поднял глаза на отца. Тот не шевелился. Только взгляд стал чуть глубже, опаснее, будто в тёмной воде начал медленно подниматься кто-то тяжёлый.
— Ты утверждаешь, что Морретти не виновны? — спросил он наконец.
— Я утверждаю, что это слишком просто. Мы слишком хорошо знаем, как работает ваш гнев. Как работает наш. Это не наш стиль. И не ваш. Кто-то хочет, чтобы вы это забыли.
Том вдруг понял — сейчас решается нечто важное. Не только между двумя семьями. Сейчас отец сделает выбор: либо принять эту версию, либо затопить её под цементом своих амбиций.
— Что ты хочешь? — Гюнтер прищурился.
— Временное соглашение. Не
перемирие, нет. Пока нет. Но встреча. Без фамилий. Без прямых наследников. Только доверенные. Наш переговорщик. Ваш. Нейтральная зона. И короткий, но честный разговор. Пока ещё можно говорить.
Гюнтер встал. Медленно. Весь рост, вся тяжесть власти — нависли над комнатой.
— Пусть будет. Один вечер. Один человек. Ты услышишь имя завтра. Но если ты врёшь — Марко, ты не выйдешь из этой комнаты в следующий раз.
— Я никогда не вру, Гюнтер. Ни друзьям, ни врагам.
Он знал, что отец молчит не потому, что не знает, что сказать. Гюнтер Каулитц не был человеком промедлений. Он умел делать больно в двух движениях — взглядом и решением, — и каждое его молчание было чем-то больше, чем пауза: это было взвешивание жертвы, расчёт, куда ляжет вес удара, и как долго будет держаться эхо. Том стоял чуть поодаль, не вмешиваясь — не потому, что боялся, а потому, что чувствовал: это не тот момент, где имеет значение его голос. Это был старый ритуал — когда мир между семьями снова шатался на хрупких стыках, и каждое слово, каждое движение могли обернуться началом новой войны.
Посланник Морретти не стал затягивать. Он лишь отдал короткий кивок в сторону отца, произнёс несколько гладких, политически выверенных фраз, в которых читался ультиматум, но звучала дипломатия. Речь была построена как письмо — уважаемая сторона, в свете недавних событий, желала бы обсудить... Не обвинение, но вопрос. Не угроза, но намёк. Не требование, но приглашение — к тому, чтобы ответить.
И в этом «ответить» Том уловил тонкую, почти беззвучную нотку: не промолчать не получится.
Когда дверь за посланником закрылась, в комнате на несколько долгих секунд стало настолько тихо, что можно было услышать, как стрелка на массивных часах двинулась на шаг вперёд. Гюнтер продолжал сидеть за столом, с тем выражением лица, с каким обычно смотрел на незакрытые досье — как на вещь, в которой явно не хватает одной страницы, и если эту страницу не найти, всё, что написано остальное, просто бумага.
— Сколько прошло с последней встречей? — глухо спросил Том, глядя на отца.
— Десять лет. — голос его был хрипловатым — от усталости или от внутреннего напряжения, — После того как на юге сожгли погрузку и три тела вернули без рук.
Том лишь коротко кивнул. Гюнтер это помнил. Он помнил и то, что после той встречи Морретти вычеркнули одно имя, а Каулитцы — два. Помнил, как сожгли старый склад, и как через три дня в Сицилии пропал человек, чьё имя никогда не называли вслух. Это была не месть. Это была арифметика. Чистый баланс.
— Тогда они тоже «хотели говорить», — буркнул он, вставая. — И тогда тоже выбрали не того, кто умеет слушать.
Он прошёлся по комнате. Длинные шаги, руки в карманах брюк, плечи напряжены, но не сгорблены — как у человека, который не стареет, а накапливает холод. Том следил за ним взглядом, не вмешиваясь. В этом было что-то почти мистическое — наблюдать, как отец вникает в политический пульс, как ощущает, что это не только Морретти, что кто-то стоит за ними, толкает их, подкидывает угли в костёр, который те сами боялись разжечь.
— Это не их почерк, — вдруг резко сказал Гюнтер. — Не Альдо. Не Моника. Не этот... как его, мальчишка, с которым твоя подруга ходила. Это не Морретти. Не они начали. Но они будут играть.
— Кто тогда?
— Кто-то, кому нужен пожар между нами, — мрачно бросил он. — Третья сторона. Кто-то, кто не ведёт старую игру, а просто хочет разнести доску к чёрту.
Он резко остановился, повернулся к двери и бросил в сторону охраны:
— Найдите Хельмута. Немедленно.
Том поднял голову.
— Хельмута?.. — он не успел даже удивиться как следует. Имя прозвучало так, словно достали старый запечатанный конверт, покрытый пылью.
— Он ещё жив?
— Он не умирает. Он просто уходит, когда всё слишком грязно. А сейчас, — Гюнтер посмотрел прямо в глаза сыну, — грязь возвращается в дом.
Том не ответил. Но сердце сжалось. Это значило только одно: Гюнтер действительно чувствовал угрозу, и если он зовёт Хельмута — значит, война возможна. Или уже началась.
Хельмут приехал не как советник. Он приехал как призрак, чьё имя вычёркивали из всех архивов, но которого всегда держали в уме. Его привезли в старом BMW с тонированными окнами. Вышел он сам, без сопровождения, одетый в глубокий, почти монашеский чёрный костюм. Седой, сухой, с холодным взглядом. Он шёл как человек, который ничего не боится не потому, что силён, а потому, что давно знает все исходы.
В кабинете он сел первым. Гюнтер кивнул ему с уважением, каким не удостаивал даже ближайших союзников. Том — стоял. Он не мог сесть, не рядом с этими двумя.
— Всё начинается заново, — произнёс Хельмут, и в его голосе не было удивления. — Я думал, мы получили достаточно уроков. Видимо, кто-то решил, что пора повторить.
— Это не Морретти, — сразу сказал Гюнтер. — Или они играют слишком дерзко. Но я в это не верю. У них нет повода. Нет мотива. Но их кто-то ведёт. Это видно.
Хельмут медленно кивнул. Он вытянул руку, взял из лежащей на столе пепельницы сигарету, закурил.
— Если третья сторона хочет войны, — тихо сказал он, глядя в дым, — мы должны договориться о холоде.
— Холоде?
— Мир — это красивое слово. Но он слишком громкий. Его все слышат. А холод — это тишина. Это когда ни один из нас не делает лишнего шага, потому что знает, что шаг может стать последним. Холод — это не перемирие. Это соглашение: мы не хотим замёрзнуть. Никто из нас. Даже они.
Он перевёл взгляд на Тома. И тот вдруг понял — это было о нём тоже. Хельмут знал. Может, не всё. Но знал достаточно.
— У Морретти есть дети. У тебя — сын. Если мы не остановим это сейчас, они сгорят. На наших ошибках. На чужой жадности.
Гюнтер опёрся локтями о стол, сложил руки перед собой.
— Ты поедешь?
— Я поеду. — Хельмут кивнул. — Назначь день. Пусть они тоже приведут старого. Без оружия. Без камер. Только мы. Кто помнит цену, а не только славу.
И воздух в комнате стал другим. Словно зазвучал металл, не вытащенный ещё из ножен, но уже сдвинутый с места.
***
Иногда, чтобы удержать мир на грани, нужно просто замереть и сделать вид, что ты не слышишь, как срываются предохранители. Семьи договариваются, враги подают руки, но мы-то знаем: это не перемирие — это затишье. Хрупкое, натянутое, как улыбка на лице того, кто только что предал.
А пока переговорщики говорят за закрытыми дверями, в зале уже расставляют стулья.
Для тех, кто должен будет встретиться лицом к лицу.
Для тех, кто однажды уже выбрал сердце — и проиграл.
Скоро вечер, который всё изменит.
Скоро глаза встретятся снова.
И кое-кто поймёт, что холод — это ещё не зима.
А пока — игра продолжается.
Следите за руками.
И не забывайте: я вижу всё.
XOXO...
___________
задержала я чутка главу, извините.
дописывала главу под утро, поэтому прошу вас, если есть ошибки, пишите об этом🙏🏻