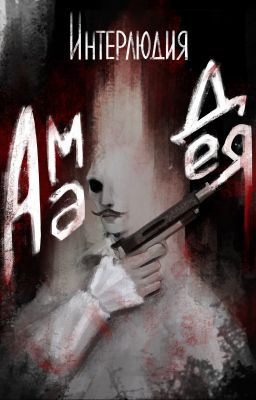Глава первая. Возвращение
Поезд издал громкий гудок, возвещающий о прибытии, выпустил из трубы длинный хвост сероватого дыма, оглушительно заскрежетал и вскоре замер у полупустой платформы. В полупрозрачной пелене утреннего тумана силуэты немногочисленных встречающих напоминали расплывчатые чёрные тени. Шёл дождь, и подошедший к поезду человек вздрогнул, когда крупные капли, упав на его лысину, скатились на лоб и повисли на кончике крючковатого носа.
Эль хорошо его знала. Это был немой слуга из поместья фон Ляйнингенов, и увидеть его здесь она не ожидала: старик почти не выходил из дома, предпочитая заниматься домашним хозяйством и ухаживать за просторным розовым садом.
Стерев влагу с запотевшего окна рукой в перчатке, Эль задумчиво присмотрелась к осунувшемуся лицу слуги. Бледное и измученное, оно не выражало ни одной эмоции, кроме безмерной печали, и одно это явственно говорило о том, что в о́круге Кюнендорф произошло нечто ужасное.
Эль усмехнулась: по другой причине её сюда бы попросту не пригласили. А даже если бы и пригласили, она вряд ли бы решилась приехать.
Слуга заметил её и учтиво поклонился. У него не было при себе зонта, и тяжёлый шерстяной плащ промок до нитки, что делало старика ещё более несчастным, однако Эль не спешила выходить наружу.
Сказывались последствия затяжного путешествия: не успела она сойти с корабля, как сразу же пересела на поезд. Он ехал медленно, будто бы совсем нехотя, как полумёртвый червь, ползущий из последних сил; выпускал в воздух густые хлопки пара и дребезжал внутренностями, угрожая развалиться на части в любую минуту. В вагоне стояла духота, приправленная резким запахом раскалённого железа и машинного масла, и все десять часов Эль прятала лицо в платке, чтобы не довести себя до серьёзного приступа астмы.
Когда кондуктор аккуратно дотронулся до её плеча, заискивающе проговорив что-то неразборчивое, она поднялась, подхватила пузатый кожаный саквояж и спустилась на каменную платформу. Слуга услужливо протянул руку, чтобы забрать поклажу, но Эль перехватила его запястье.
— Там важные инструменты, — твёрдо произнесла она.
Слуга вопросительно промычал что-то в ответ. Эль нахмурилась. В детстве, как ни странно, она хорошо понимала, что пытается сказать старик, несмотря на отсутствие у него языка. Впрочем, в те времена и южно-немецкий говор не вызывал у неё такой сильной головной боли, как в эту минуту, но прошедшие годы давно оказались погребены под тяжестью других воспоминаний, и от былых навыков не осталось ни следа.
— Так, Готтвальд, подожди... —Эль поморщилась. — Я попытаюсь понять, что ты спрашиваешь.
Распознать слово по глухому молчанию ей так и не удалось, поэтому она решила прибегнуть к средству, которому её обучил отец и которое ни разу не подводило ни его, ни её. Первым делом следовало осмотреться — быстро и вдумчиво, — чтобы запечатлеть всё, что происходит вокруг, затем — объединить увиденное в целостную картину и при необходимости снова разобрать всё на мелкие детали.
К удивлению отца, Эль освоила это умение за первую неделю и теперь использовала его в любой удобный момент. Она не стала рассматривать унылую платформу и проходящих мимо пассажиров: то, к чему Готтвальд хотел привлечь внимание, находилось где-то поблизости.
Спустя короткое мгновение Эль заметила, что узловатый палец старика, чуть подрагивая, указывал на её саквояж. Прокрутив в уме все возможные варианты, она уточнила:
— Ты про одежду? Или... Как вы здесь говорите? Gewand*?
Она специально сказала «вы», чтобы провести границу и показать, что в её новой жизни нет места старым привычкам, и ожидала, что тем самым заденет Готтвальда, но старик — мудрый, внимательный и всё всегда понимающий — тепло улыбнулся, согласно кивнув.
— Я не вожу с собой лишнего, — холодно сообщила Эль. — Где ты привязал лошадей?
Положив ладонь на её предплечье, слуга сделал шаг в сторону. В глубине угольной тучи, расползшейся по половине неба, сверкнула острая белая молния. Раздался раскатистый гром, напоминающий оглушительную череду пушечных выстрелов. Отдёрнув руку, Эль прижала её к себе. Собственная слабость раздражала, вызывая жжение где-то в груди, но старый страх был сильнее, и против него не существовало лекарства.
Готтвальд обеспокоенно посмотрел на неё. Эль покрепче перехватила ручку показавшегося пудовым саквояжа и повторила:
— Куда идти? Мы и так потратили время на бессмысленные разговоры...
Чёрные, как смоль, жеребцы лихо скакали по разъезженной грязи, вскидывая головы, украшенные чисто вымытыми, расчёсанными чьей-то заботливой рукой гривами. В карете Эль находилась в полном одиночестве: Готтвальд всегда предпочитал брать на себя роль извозчика, забывая про свои больные колени. Старого слугу не пугал никакой труд, и он с готовностью выполнял всё, что было в его силах.
Дождь намеревался превратиться в бурю. Хлёсткие порывы ветра стремительно проносились мимо, по крыше кареты бил град — крупный, размером с перепелиное яйцо. Удары грома сотрясали и небо, и землю, а молнии всё чаще и чаще разрезали опухшие тучи на части. В окружении свинцово-фиолетовой темноты и без того мрачные горы казались неприступным забором, что отделял мир людей от преисподней, и нетрудно было представить, что где-то между скал прячется проход в огненную бездну.
Любоваться природой округа Кюнендорф Эль не хотела: виды этой местности ещё двадцать лет назад засели в её разуме раскалённым гвоздём, когда отец привёз её сюда, чтобы спрятать в поместье фон Ляйнингенов, не зная, к чему приведёт его решение. Совсем недавно она начала забывать о произошедшем, но предала саму себя, согласившись вернуться из-за одного-единственного письма. Если бы не оно, Эль не ступила бы на земли Кюнендорфа, будучи в здравом уме: слишком много душевных мук возникало при упоминании округа, да и дел в стране, где она проживала, у неё было предостаточно.
От отца Эль достались не только любовь к расследованиям и целый ворох методов, которыми предполагалось пользоваться во время погони за убийцами, но и несколько важных правил. Главное — из всех преступлений выбирать те, что вызывают неподдельный ужас и, вместе с ним, искреннее желание разобраться, нырнув как можно глубже в омут, полный крови, страданий и потерь. Всё прочее, говорил отец, можно оставить инспекторам и комиссарам: им по зубам мелкие кражи, бытовые убийства, зачастую случайные, и последствия пьяных драк, а для всего остального есть они, фон Штернфельсы, ведь к представителям их рода вот уже пару столетий обращались за советом и поддержкой в самые непростые часы.
Их семье доверяли и полицейские, когда у них не оставалось надежды на успешное раскрытие преступления, и те, кого нельзя было назвать законопослушными гражданами. Умело лавируя между разными представителями человечества, фон Штернфельсы сохраняли некое подобие мира как и в высшем обществе, так и за его кулисами. После смерти родителей и пропажи брата Эль эта чётко выстроенная система начала рушиться: все заботы в одночасье легли на её плечи, и справиться с ними ей поначалу не удавалось, — пока на помощь не пришёл лучший друг отца, барон Дитрих фон Ляйнинген.
Империя фон Штернфельсов, державшаяся одновременно на законе и его нарушении, была спасена, а репутация Эль укрепилась, позволив ей распространить своё влияние далеко за пределами Германии. Но наряду с успехом её настигло и разгромное поражение — правда, в делах любовных, и тоже благодаря Дитриху. Разрубив все отношения с бароном колкими, как толчёное стекло, словами, Эль не нашла ничего лучше, как укрыться в чужой стране, перепоручая большинство задач надёжным помощникам, и долгие месяцы не показываться ни на подпольных приёмах, которые так любил отец, ни в «родных» краях.
Поёжившись, Эль плотнее укуталась в белую шерстяную шаль и уставилась на пустое сиденье напротив. Она не могла сосчитать, сколько раз давала себе обещание не возвращаться в Хакелиц, этот чудесный, прянично-сказочный город с красными крышами домов, цветущими садами и мелкими речушками, хотя и понимала, что рано или поздно наступит момент, когда ей всё же придётся вернуться.
И вот он наступил. Потому что Дитрих впервые за шесть лет прислал ей письмо. В нём барон сухо сообщил, что недалеко от его поместья, под старым дубом, было найдено тело девочки, которая крепко сжимала в окоченевшей руке послание, предназначенное отцу Эль. «Я пойму, если ты не захочешь приезжать, — писал Дитрих. — Но, думаю, ты сама не позволишь кому-либо другому заняться делом, имеющим отношение к Вильхельму и его доброму имени — пусть и косвенно».
Он был прав, и это разозлило Эль больше всего. Прочитав письмо, она порвала его на мелкие клочки, швырнула их в камин, разбила некстати подвернувшуюся под руку чашку, об осколки которой и порезалась, после чего опрокинула подставку для десертов — крошечные вишнёвые пирожные рассыпались по полу, словно драгоценные камни — и опустошила целый бокал коньяка.
Без разрушения — внешнего или внутреннего — Эль никогда не бралась за проблемы. Оно являлось для неё своеобразным ритуалом с тех самых пор, как она поняла, что ею управляет гнев, — и позволила ему это делать, не забивая пылкую ярость глубоко внутрь себя. Пускай посуда превратится в пыль, бумага — в пепел, а душевное спокойствие испарится без остатка: если это поможет разобраться с тем, с чем нужно, то и беспокоиться не о чем.
Ответ барону Эль писать не стала. В своём письме Дитрих чётко указал время отплытия корабля и отправления поезда, на которых она — при желании — могла бы прибыть, и приписал, что её обязательно встретят. Он наверняка хотел показаться заботливым и чутким, хотя прекрасно знал, что Эль в силах дойти до места преступления на своих двоих, если убийство её действительно заинтересует; однако в его искренность и доброту она не верила.
Не верила — и всё равно приехала. Потому что всего-навсего одной весточки от Дитриха хватило, чтобы всколыхнуть в её сердце угасшее влечение — к злости самой Эль, вовсе не к расследованию.
По приказу Эль Готтвальд остановил коней у высокой кованой изгороди. Из окна она увидела тот самый дуб, жухлые листья под которым стали последним в жизни ложем для убитой девочки. Недалеко от дерева резвились мальчишки, судя по всему, играющие в сыщиков: они то поднимали коряги, разглядывая их с серьёзными лицами, то передавали друг другу круглое стекло, выполняющее роль лупы, то отвлекались от «расследования», чтобы поваляться в траве.
Завидев карету, принадлежащую фон Ляйнингенам, мальчишки замерли на минуту и бросились врассыпную с громкими визгами. Подождав, пока они скроются вдалеке, Эль решительно толкнула дверцу и вышла наружу. С собой она взяла небольшую книгу записей и остро заточенный карандаш: особые инструменты понадобятся позже, когда ей покажут тело, по просьбе Дитриха спрятанное в надёжном месте.
Отыскать какие-либо видимые следы рядом с дубом было невозможно, поэтому Эль, не задумываясь, настроилась на невидимые — те, что ни рядовые инспекторы, ни учёные комиссары, по её мнению, заметить уж точно не могли.
Взгляд мгновенно зацепился за странную насечку на сухой коре дуба. Её — идеально ровную, с чётким наклоном влево — безусловно вывела сильная рука взрослого человека, а не замызганная, дрожащая от волнения ручонка одного из мальчишек, что шатались по округе без дела.
Сосредоточившись, Эль перерисовала насечку на чистый лист. Почему-то эта линия — или, скорее, способ её нанесения — показалась ей знакомой, но углубляться в отголоски далёкого наваждения она не стала: раздумывать об уликах и их значении лучше всего было наедине с собой.
«Крови на траве и листьях нет. Значит, жертву убили где-то в другом месте, а сюда принесли уже мёртвой». Эль переступила с ноги на ногу и сделала шаг влево. Под её сапогами неслышно хрустнули мелкие ветки, почва чуть прогнулась: в некоторых местах она была топкой, как на болоте.
Вновь собравшаяся неподалёку ребятня с любопытством вытягивала шеи, но приблизиться к таинственной гостье, не походящей на местных добропорядочных фрау, никто из них так и не решился. Мельком посмотрев на них, Эль занесла карандаш над листом с пометками.
Вряд ли мальчики собирались здесь впервые: они, несомненно, знали окрестности как свои пять пальцев и могли увидеть что-то, о чём сейчас боялись или не хотели сообщать полицейским. Эль не встречала ни одного инспектора, которому удалось бы с лёгкостью найти общий язык с детьми. Обычно полицейские разговаривали с детворой, как с равными, не чураясь методов запугивания и устрашения, так что добиться правды у них не получалось, — и именно поэтому Эль опять придётся взять беседу с младшими на себя.
«Насечка на дереве. Это начало рисунка или особый знак?» «Отсутствие крови. Где была убита жертва?» «Расспросить детей (без взрослых и полиции)». «Вязкая почва. Имеет значение?» «Почему тело оставили около поместья фон Ляйнингенов?» «Что в письме отцу? Изучить детально».
Прикусив кончик карандаша, Эль помрачнела. Записка, адресованная Вильхельму фон Штернфельсу, беспокоила её больше всего: все дела, так или иначе связанные с её семьёй, в большинстве случаев заканчивались плачевно для всех причастных, и переживать что-то подобное в очередной раз ей не хотелось. С другой стороны, преступления такого рода казались ей наиболее привлекательными и захватывающими, пусть даже во время расследования и после него она тонула в кошмарных чёрных мыслях, едва ли не сходя с ума, — но и в настолько жутких кошмарах, раздирающих сердце и разум на части, скрывалась своя болезненная прелесть.
— Что же ещё здесь есть? — задумчиво проговорила Эль. Дуб напряжённо молчал, тихо шелестя оставшимися листьями. — Что я должна увидеть?
— О друг мой, друг мой, всё прошло, — раздался позади хрипловатый мужской голос. — Мне жизнь не жизнь, а скорбь и зло.
Эль вздрогнула. Строчки из «Леноры**» Бюргера глухим эхом отозвались у неё в висках и застыли там, прокручиваясь по второму, третьему и десятому кругу — медленно и лениво, как старый мельничный круг.
Она обернулась. Человек, застывший на дороге рядом с каретой, легко усмехнулся и сощурил серые, почти прозрачные глаза. Раньше эти самые глаза напоминали маленькой Эль любимые леденцовые конфеты и до глубины души поражали её тем, что отражали цвет всего, что видели: они становились карими в окружении мебели отцовского кабинета, зелёными — во время прогулок по яркому летнему лесу, синими — рядом с равнодушными морскими волнами. Скорее всего, это была глупая детская фантазия, однако и ей удалось оставить ощутимый след в судьбе Эль.
Она любила эти самые глаза, невзирая на то, что отчётливо ощущала приближающийся конец. Пожалуй, любовь и помогла ей выстоять, — или же не сама любовь, а её остатки, корчащиеся в пламени всё того же привычного разрушения. Она думала, что сможет совладать с собой и в ту минуту, когда увидит глаза-леденцы спустя долгое время, думала, что прошло уже достаточно лет, чтобы никаких чувств не осталось, но по спине всё же прошёлся предательский холодок
Человеку, что смотрел на неё, было почти пятьдесят лет, но возраст не имел над ним власти: чёрные, как гривы у жеребцов, волосы блестели в тусклых лучах осеннего солнца, в походке по-прежнему отражалась многолетняя военная выправка, а бледности кожи и форме широких бровей могла позавидовать любая девушка, следующая за последними веяниями моды.
Отсалютовав длинной тростью с серебряным набалдашником, барон Дитрих фон Ляйнинген произнёс:
— Тебя, наверное, разозлят мои слова, но на секунду мне показалось, что я вижу перед собой Вильхельма. Ваше сходство просто поразительно.
Вместо ответа Эль скрестила руки на груди и вздёрнула подбородок.
Дитрих улыбнулся.
— Рад тебя видеть, Амелия.
* Одежда. Слово используется в разговорной речи на юге Германии, в Австрии и некоторых областях Швейцарии.
** «Ленора» (Lenore, 1773) — баллада Готфрида Бюргера (Gottfried August Bürger, 1747-1794), первый образец данного жанра в немецкой литературе.