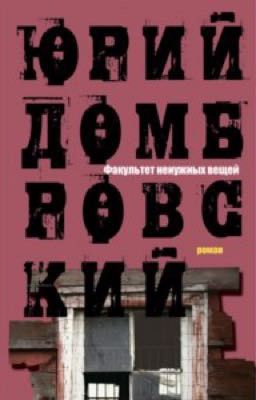Часть пятая. Глава 1
За золотыми и перламутровыми стеклами в парке играл оркестр: труба,
саксофон и мелкие-мелкие тарелочки.
Зыбин шел по лестнице между двумя конвойными и как ни старался, а все
равно отставал. Развилась, как говорил дед-столяр, нога, и каждый шаг был
болезнен. В камере он этого не замечал, его уже месяц не выводили гулять.
"Тут не положено, - объяснил ему дежурный, - вот переведут в
следственный..." В каком же корпусе или коридоре он был тогда? Дежурный на
этот вопрос не ответил, но он уже и сам стал замечать кое-что. Например,
начиная с его камеры, коридор был зачем-то обтянут плотным серым
брезентом. Однажды, идя с оправки, он нарочно привалился к нему плечом и
почувствовал тугие отбрасывающие тенты. Да, к такой стене уж не прижмешься
спиной!
- Пощупай, пощупай! Вот я тебе пощупаю! - крикнул на него солдат.
А утром во время обхода сдающий дежурство сказал:
- Предупреждаю: еще раз так сделаете, - получите карцер.
- Или пойдете в те же камеры, - добавил принимающий.
- В какие - те же?
Опять ничего не ответили. Повернулись и вышли.
А те камеры находились в другом конце. В них-то и вел коридор,
обтянутый брезентом. Днем оттуда всегда доносился глухой гул большого
людского присутствия. Очевидно, кроме одиночек, там были еще и общие. Туда
три раза в день по звонкому плиточному полу пропихивали круглые бачки и
огромные медные чайники. Раза же три в неделю после отбоя мимо его двери
проходило какое-то молчаливое шествие. Прижавшись к двери, он
прислушивался: шагали четыре пары сапог и пара ботинок. Дальше шаги сразу
пропадали - там лежали дорожки. Пауза. Где-то щелкала дверь. Гул сразу
обрывался. Тишина. Потом дверь щелкала вторично, и все опять смолкало.
Теперь уж до утра. Значит, кого-то выкликнули, велели собираться и увели.
Куда? Зачем? Почему ночью? Он скоро понял зачем, куда и почему? Однажды
испортилась канализация, и его на оправку повели в другую уборную. Она
находилась в противоположном конце - огромная, цементная, похожая на баню
с душевыми щитками в потолке и деревянными решетчатыми плахами на полу. В
стену была врезана железная дверь, заложенная засовами, и из-под нее несло
ледяным ветром. Вот куда, значит, уводили этих людей! Его сбивало только
то, что он никогда не слышал криков, - значит, можно заставить человека
идти на смерть, как на оправку. Или просто приравнять смерть к оправке. Он
догадывался, что даже очень можно, только не понимал, что для этого нужно.
И однажды понял. Его тогда для чего-то перевели в соседнюю одиночку
(справа и слева его камеры почему-то всегда пустовали). Он вошел в нее, и
у него все так и оборвалось. Было утро, а в этой камере стояли редкие
сырые сумерки. Вместо окна под потолком мутно желтела решетчатая полоска
света шириной в кирпич. Деревянная кровать уходила ножками в цемент.
Параша сидела на цепи и на замке. Из стены торчала дощечка - стол.
Четверть камеры занимала массивная, как русская печка, выпяченная
кирпичная стена. Ходить было негде. Он сел на кровать, поднес к лицу руку
и не увидел ладони. Через час ему казалось, что он провел тут уже много
часов, еще через час он потерял счет времени. Когда его наконец вечером
перевели в прежнюю камеру с книгами, миской, с кружкой и ложкой, он
взглянул на них и чуть не заплакал от тихой радости. Да, понял он, проведя
в таком ящике месяц, и на смерть пойдешь посвистывая. Чья-то умная башка
позаботилась об этом.
...Труба за золотым окном вдруг рявкнула и замолкла, и сейчас же мерзко
зазвенели тарелочки.
- "Тили-тили-тили бом, загорелся кошкин дом"! - пропел он и
остановился, чтоб передохнуть. - Что там?
- Разговорчики! - прикрикнул разводящий и даже постучал ключом о ключ.
Но сейчас же и посочувствовал: - К врачу надо проситься! Что же ты так?
Ведь вот еле идешь.
- Ничего! - ответил он. - Уже прошло. Пошли!
Пошли.
- Праздник там, - сказал солдат виновато. - Бал с призами.
Они поднялись на площадку и вышли в коридор. Там шел ремонт. Стояли
ведра и банки. Пахло мокрой известью и олифой. Щит со стенгазетой "Залп"
стоял у стены. "Руки назад", - шепнул разводящий и постучался в кожаную
дверь.
- Войдите, - ответили ему.
Они вошли. Задний конвойный остался стоять. Очевидно, его еще только
натаскивали.
Нейман - такой же, как и месяц назад, - румяный, культурный, чисто
выбритый, - сидел за столом и смотрел на него.
- Здравствуйте, - сказал Нейман. - Пожалуйста, вот сюда. - И указал на
стул в углу.
Он подписал пропуск, отпустил солдата и поднял на Зыбина голубые
круглые глаза, и опять Зыбин подметил в них то же выражение глубоко
запрятанного страха и тревоги, но само-то лицо было ясно и спокойно.
- Как вы себя чувствуете? - спросил он.
- Ничего, спасибо.
- Не стоит благодарности. Но сейчас-то вы отдохнули, окрепли? Мы же
нарочно вас не тревожили столько времени и перевели в наш самый тихий
уголок. И следователя вам тоже сменили. Так что теперь у вас будет... да!
Войдите.
Вошла та высокая, красивая, черноволосая секретарша, которую Зыбин уже
видел у Хрипушина. Не глядя на подследственного, она подошла сбоку к столу
и положила перед Нейманом какую-то тонкую и голубую папку. Тот открыл,
посмотрел, радостно сказал "ну и отлично" и встал.
- Я буду у себя, - сказал он выходя. - Позвоню.
Секретарша подождала, пока дверь закрылась, потом отодвинула кресло и
села. "Да, распустилась сучка! - подумал Зыбин. - Только она, конечно, не
Неймана, а кого-то повыше. У Неймана до таких штучек еще нос не дорос.
Небось какой-нибудь зам из Москвы прихватил. Но хороша! До черта хороша!
Или мне с отвычки все уже кажутся красавицами? Да, и так может быть. Ах ты
канальство!"
Черноволосая сидела прямо, молчаливо улыбалась и давала себя разглядеть
со всех сторон. Да на нее и следовало поглядеть, конечно. Все в ней было
подобрано, подтянуто, схвачено: жакет в крупный бурый кубик, талия,
манжеты, прическа, тугие часы-браслетка. Кажется, не русская, но и на
еврейку, пожалуй, не похожа. Розовый маникюр. Лицо смугловатое, почти
кремовое, с какой-то неуловимой матовой лиловостью у глаз; брови вычерчены
и подчищены. Синие загнутые ресницы. Взгляд от этого кажется каким-то
мохнатым. Зато рот стандартный - такие выкроенные из малинового целлулоида
губы можно увидеть в любой мало-мальски порядочной парикмахерской. В
общем, отличная модель - года 23, да тертая. Интересно бы смотаться с ней
в горы. Хотя нет, такие на меня не клюют. Я всегда у них в замазке. Вот
Корнилов, тот сразу бы ее разобрал по кирпичикам. А сейчас он небось Лину
обрабатывает. Ах ты дьявол!
- Здравствуйте, Георгий Николаевич! - вдруг ласково и очень отчетливо
сказала секретарша, но он думал о Лине, смешался и ответил невпопад:
- Здравствуйте, барышня.
Она улыбнулась.
- Да не барышня я, Георгий Николаевич.
"Да неужели ей еще и такое разрешают?! Ну Нейман! Ну болван! Сломаешь
ты на ней себе умную голову", - изумился он и сказал любезно, на штатских
нотах:
- Извините, но не столь опытен, чтобы мог...
- Я ваш следователь, Георгий Николаевич, - мягко сказала она.
"Вот это номер, - ошалел он. - Ну, теперь держись. Мишка, начинается!
Первая - психическая. Для слабонервных. Сейчас станет материться. Но
против той, московской, наверно, все равно не потянет".
Про ту, московскую, он слушал года четыре назад. Рассказывали, что она
не то начальник СПО - секретно-политического отдела, не то его
заместитель, во всяком случае, не простая следовательница. Говорили также,
что она из старой интеллигентной либеральной семьи. Красива, культурна,
утонченна, может и о Прусте поговорить, и Сельвинского процитировать. А ее
большие и малые загибы потрясали молодых воров. Они визжали от восторга,
цитируя ее. Он же, слушая их, не восторгался и даже не улыбался, а просто
верил, что она действительно сестра одной известной талантливой советской
писательницы, специализировавшейся на бдительности, жена другого
литератора, почти классика - его проходят в седьмом классе - и свояченица
генерального секретаря Союза писателей.
- Я просто вне себя от восторга, - сказал он, - видеть в этих мрачных
стенах такую очаровательную женщину, слушать ее! Говорить с ней! О!
- Да уж вижу, вижу, Георгий Николаевич, - улыбнулась она почти
добродушно. - Вижу ваш восторг и понимаю, чем он вызван. Ну что ж? Я тоже
думаю, что мы столкуемся. Я человек нетребовательный, и много мне от вас
не надо.
- Буду рад служить, если только смогу, - сказал он.
- Сможете, Георгий Николаевич, вполне сможете. Ничего
сверхъестественного от вас мне не надо. Ваших интимных дел касаться не
буду. В случае нашего доброго согласия могу даже устроить свидание в своем
кабинете. А вы расскажите мне только о вашей поездке на Или. Вот и все.
Сговорились?
- Буду рад...
- Ну, может быть, и не очень рады будете, но придется. И знаете почему?
Потому что ругаться я с вами не буду: во-первых, не научилась, а
во-вторых, как я понимаю, это не больно-то на вас и действует. Так?
- Святая истина, гражданочка следователь, святые ваши слова! Я...
простите, вот не знаю вашего имени-отчества.
- Да, да! Давайте познакомимся, - улыбнулась она. - Следователь
Долидзе. Так вот, Георгий Николаевич...
- Извините, а имя-отчество?
- Да ни к чему оно, пожалуй, вам, мое имя-отчество-то? В наших же
отношениях будет фигурировать только моя фамилия. Лейтенант Долидзе. Этого
вполне достаточно. Так вот, Георгий Николаевич, говорить правду вам
все-таки придется. Потому что если я увижу, что вы лжете или вертитесь, то
попросту, не ругаясь и не нервничая, тихо и мирно отправлю вас в карцер,
понимаете?
Он улыбнулся мягко и снисходительно.
- Вполне понимаю, гражданочка следователь, лейтенант Долидзе. Какое же
это следствие без карцера? Это что, у тещи в гостях, что ли?
Она добродушно засмеялась.
- Знаю, знаю, как вы это умеете. Только не надо пока. С Хрипушиным еще
это было хорошо, а со мной ни к чему...
- Слушаюсь, лейтенант... Нет, как хотите, а это невозможно. Вы меня вот
называете по имени-отчеству, как милая и культурная женщина, а я вас
должен, как хам какой-то, звать по фамилии да по званию! Нехорошо. Я
человек деликатный, это меня травмирует. Я смущаюсь.
- Ну хорошо, - сдалась она. - Тогда Тамара Георгиевна.
- Вот это уже другое дело. Прекрасное у вас имя и особенно отчество,
Тамара Георгиевна. Мы, Георгии, чего-то стоим. Была бы у меня дочка, тоже
была бы Георгиевна. Так вот, в карцере я, Тамара Георгиевна, уже сидел.
Десять суток там провел. Всю жизнь свою там продумал. Выйду - роман
напишу.
Она покачала головой.
- Да нет, Георгий Николаевич, в таком вы еще не были. Я ведь вас в
темный, в холодный отправлю. С мокрым полом, так что не ляжете и не
сядете. И дует! В таком больше пяти суток не держат. Вот я вас через пять
суток вызову и спрошу: "Ну что, будем говорить правду?" И тут может быть
два случая: или вы скажете "нет" - и тогда я вас отправлю снова на пять
суток, и вы там, как говорится, дойдете, или вы скажете "да", и мы с вами
начнем по-деловому разговаривать, но тогда к чему же были вот эти пять
суток? Ведь они тогда просто как налог на глупость.
"Ну, если ты сейчас поддашься, - сказал он себе - за этот месяц он
научился разговаривать сам с собой, - если ты сейчас скривишься или
состроишь морду, я просто, как горшок, расшибу тебя о стену, дурацкая
башка! И будет тебе конец! Это совершенно серьезно, слышишь?" "Слышу, -
ответила ему его дурацкая башка, - не беспокойся, не подведу. Все будет
как надо".
- Ну что ж, - сказал он, - буду все эти пять суток думать о ваших
черных глазах и вспоминать нашего великого поэта: "Прекрасна, как ангел
небесный, как демон, коварна и зла". Она была ваша тезка и
соотечественница.
Она поморщилась.
- Всякая историческая параллель рискованна, Георгий Николаевич, данная
параллель - просто бессмысленна, известно вам, чьи это слова? Тамара -
феодальная царица, я - советский следователь, она избавлялась от
любовников, я расследую дело преступника, ею двигала похоть, мной - долг.
Так что, видите, ничего общего нет.
Ее кроткий деловой тон сбил его, и он впервые не нашелся.
Она посмотрела на него и сняла трубку.
- Да, вот так! В 350-ю комнату за арестованным Зыбиным! Ну, во всяком
случае, мы теперь познакомились. Для нас обоих будет лучше, если мы и
сговоримся. Во всяком случае, запомните: и не зла и не коварна. И если что
обещаю, то выполняю. Но если за что взялась, то выполню. Вот мне поручили
ваше дело - и я его закончу. Даю вам в этом честное слово, Георгий
Николаевич!