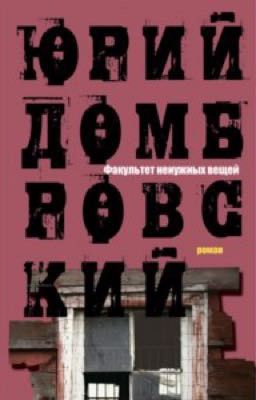Часть вторая. Глава 4
...В тот день я все-таки достал краба. Директор не соврал, был такой
грек. Он жил у моря в какой-то развалюхе и ловил всякую всячину: таскал
курортникам звезд, морских ежей, змей, скорпионов, крабов. Когда мы
подошли к его лачуге, он как раз возвращался с ловли. В одной руке у него
была острога, в другой жестяное ведрышко. Увидев нас, поставил ведрышко,
вытянулся и козырнул острогой. Высокий, загорелый, почти совершенно черный
грек с острым лицом и усами.
- Здравия желаю, господа хорошие, - сказал он четко и насмешливо, - или
теперь так не говорят? Да, граждане, граждане теперь говорят! - Он,
видимо, уже здорово хватил и теперь смотрел на нас влажными веселыми
глазами. - Здравствуйте, граждане, чем могу услужить?
Я взглянул на директора.
- Да вот, Сатириади... - начал он неуверенно.
- А, это вы, товарищ директор, - как будто только что узнал его
Сатириади. - Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, пожалуйста, Иван
Никанорович. Вот по вашей-то части ничего что-то и не попадалось! Так,
черепки всякие нестоящие есть. Зайдите, загляните?
- Да нет, нам краб нужен, - ласково сказал директор.
- Кра-аб? - как будто даже удивился старик. - А что же, на базаре их
разве мало? Вон их сколько там, любого хорошего бери, хошь красного, хошь
желтого.
- Да нет, нам такие не нужны, - сказал директор.
- Ну а каких же вам? Таких, что ли? - И он поставил ведрышко на землю.
Я посмотрел. В ведрышке была только желтоватая вода да черное выпуклое
донышко. На донышке лежали две красных гальки, вот и все.
- А где же краб? - спросил я.
- А вот, - сказал директор и поддел ведро носком ботинка. И тут что-то
двинулось, поднялась муть, я увидел, что черное - это не дно, а спина
краба. Он был страшно большой и плоский, и, наклонившись, я разглядел на
нем бугры и колючки, какие-то швы, края панциря, зубчатые гребешки.
Директор еще раз слегка встряхнул ведро, и тут краб шевельнулся, и в
одном месте, очевидно возле усов, вдруг закрутились песчинки, словно ключ
забил.
- Какой же он огромный, - словно сокрушенно покачал головой директор, -
а ведь он, пожалуй, больше моего.
- Ну, сравнили! - качнул головой Сатириади. - Такого лет пять не было!
Видишь, как палец проколол! Наскрозь! Теперь неделю ни за что не возьмусь!
- Большой палец его, верно, был обмотан серой тряпицей. - А вам что, для
себя или еще куда требуется?
- Да не мне, а вот этому молодому человеку, - кивнул на меня директор.
- В Москву хочет увезти. Для науки. Если не очень подорожишься, конечно.
- Да что мне дорожиться! Дороже водки не возьму! Мне теперь водки много
надо! Конпрессы спиртовые на палец буду класть. Может, разобьет кровь, а
то - беда! - Он поднял ведрышко. - Ну, пойдем, коли так, в хату, не на
пороге же рядиться!
Взял он, однако, с меня довольно дорого. Я отдал ему все, что имел, да
еще у директора призанял полтинник. Но все равно мы считали, что сделали
хорошее дело, и обратно не шли, а летели.
- Ну, пять не пять, - говорил весело директор, - но далеко, далеко не
каждый год такие попадаются, тут он вам не соврал! Ладно, а что вы с ним
делать-то будете? Ну, положим, вылущить я вам его помогу, а вот как его
усыплять? Эфир ведь, пожалуй, его не возьмет - уж больно здоров! Придется
хлороформировать, а где хлороформ взять? Может быть, у ваших докторов он
есть?
- Ничего, - ответил я (теперь, когда краб сидел у меня в ведре, мне все
казалось легче легкого), - я вот сейчас его посажу под кровать, а к утру
он сдохнет. Они же без воды не живут.
- Пожалуй, - согласился директор.
И только мы поднялись на высокий берег, как сразу на нас налетела ты,
Лина. Ты была в белом платье и черных очках, помнишь? Какая же ты была, а?
Ах, Лина, Лина!
Он погрозил ей пальцем, хохотнул, повернулся на бок, и тут стерильно
белый, ужасный свет наотмашь ударил его по лицу. Под утро свет этот
набирал силу и становился таким пронзительным, что пробивал все: веки,
ладонь, подушку - все, все! Зыбин ненавидел его. Сон был волей, а свет
тюрьмой, и тюрьма эта присутствовала во всех его снах. Вот и сейчас -
счастливые, свободные, веселые, они стояли на высоком берегу над морем,
болтали, смеялись, а белый мертвенный свет, пробившийся из яви, горел над
ним, и он все равно был в тюрьме.
Так у него всегда начинался кошмар; то и это мешалось, сон и явь
перебивали друг друга, разрывали его на части, и он бился, бредил и
вскакивал. Но сейчас он не бредил, сейчас он просто стоял и смотрел на
Лину. А Лина взяла его под руку и сказала:
- Вот, Иван Никанорович, взгляните на рыцаря! Раньше рыцарь спасал даму
от разбойников и увозил ее к себе. А этот вот рыцарь спас от разбойников и
смылся! Слушайте, спаситель, ведь это же бессовестно, а?
Она говорила и держала его за ладонь, улыбалась и глядела прямо в
глаза. Это было так хорошо, что он опять тихонько захихикал в подушку.
...Нога у нее, видно, Александр Иванович, прошла, а тогда на берегу она
лежала как мертвая, на боку; вот так она лежала, смотрите, Александр
Иванович, я покажу, вот так она лежала, и руки у нее были раскинуты,
видите как? Как-то через голову. И такая восковая выгнутость и
неестественность. Ведь и мертвые тоже лежат так. Вот почему я ее принял за
мертвую. Но все это продолжалось не больше минуты, нет, меньше, меньше!
Какая там минута, секунды какие-то! Она вдруг подняла голову и завопила на
кого-то: "Бери и уходи! Бери и уходи! А то сейчас наши придут!"
И только он крикнул это, как белый свет, как из опрокинутого ведра,
опять хлынул на него.
- Тише! - шикнул на него Буддо. - А ну проснитесь! Опять набьете синяк!
А ну лягте как следует быть! Ну!
Зыбин открыл глаза, увидел прямо перед собой прокуренное, закопченное
какой-то желтой копотью лицо Буддо, и его мгновенно передернуло от
отвращения: "машина ОСО - две ручки, одно колесо", буро-сизая щетина,
табачный кадык, шея, как у столетней черепахи, и устоявшийся крепкий запах
собачины и махорки.
- Что с вами такое? - спросил Буддо сердито. - Опять пригрезилось? А
все оттого, что лежите не по-человечески. Вот видно, что никогда не
работали физически. Лежать надо свободно, отдыхая, а вы свернетесь крюком,
и, конечно, легкие стиснуты, сердце работает с перебоями, ну и лезет
всякая дрянь.
- Да, да, да, извините! Я знаю! - поспешно забормотал Зыбин. - Я
сейчас... - И опять закрыл глаза. Но море уже ушло. Не было ни моря, ни
солнца, ни ветра, ни чаек - была только розовато-желтая мгла под веками да
этот проклятый свет. Тогда он вытянулся, закрыл глаза и стал считать до
тысячи. И через десять минут, верно, свет ушел, и они опять были вдвоем.
Вдвоем они поднимались на гору, туда, где стоит памятник. И она слегка
сомневалась, надо ли сейчас идти, и спрашивала:
- А не поздно мы идем? Здесь очень быстро темнеет, а я ведь такая
трусиха.
А хромать она все-таки немного хромала.
...Вы понимаете, Александр Иванович, почему она хромала, она в море
вывихнула ногу. Ну, это же очень просто - там ее вывихнуть, ведь там везде
эти глыбины, они плоские, скользкие, нога так и едет, - ну вот, она
встала, поехала, поскользнулась и вывихнула колено. Хорошо, что было
совсем мелко, а то захлебнуться могла. Тут на пляже были уж такие случаи.
Так вот, было-мелко, она выползла из воды и доползла до одежды. А на
платочке лежали ее вещички - золотые дамские часики, аппарат "лейка",
перламутровый бинокль, портмоне. Если бы это случилось на пляже и не так
рано, то, конечно, беда была бы не больно велика, сразу бы и помогли, но
ведь вообразите: дикий высокий каменистый берег, никто на него не ходит,
купаться тут нельзя, а время часов шесть, наверно. Значит, лежи - и жди!
Вот тут к ней и подкатил этот орел - их там в это время до черта, подошел,
посмотрел и с ходу: "Мадам, что с вами? Не могу ли чем-нибудь помочь?" Она
думала, что человек попался, обрадовалась, просит его: "Сходите в такой-то
санаторий, попросите кого-нибудь прийти, я вот, видите, ногу вывихнула,
идти не могу". "О чем разговор, мадам, сейчас!" Подошел, хвать портмоне и
часы и бежать!
Вот если бы он, Александр Иванович, не побежал, а пошел себе просто, я
бы, пожалуй, не сразу сообразил бы как и что, я сначала тогда бы бросился
к ней, ну а он с концами бы, конечно, но как он побежал, то я сразу и
припустился за ним. А он пробежал еще метров сто, видит, что не уйдет, что
догоню, и швырнул все в песок. Ну, конечно, дальше гнаться я за ним не
стал. Вернулся, подошел к ней. Она лежит. Длинная, белая-белая, лицо
мокрое от слез и пота, губу закусила - лежит. "Что с вами?" - "Да вот
нога!" И больше ничего. Вы знаете, Александр Иванович, я до сих пор
удивляюсь: что же меня такое осенило? Откуда оно взялось? Я никогда раньше
с такими вещами и дела не имел, ну читал что-то подобное у Джека Лондона
или Майн Рида, не помню уж точно, у кого и что прочитал. "Подождите", -
говорю. Сел на песок, взял ее ногу в руки, посмотрел, пощупал коленную
чашечку - она лежит, только зубы стиснула и постанывает, - я приподнял
ногу да как крутанул ее! И еще раз, и еще! Щелкнуло там что-то и,
чувствую, стало все на место. Посмотрел на нее, а она без памяти, и голова
в песок ушла. Боль-то, конечно, страшенная. Губу прикусила, и все лицо
мокрое от пота. Опустил я ее ногу, сел с ней рядом, Александр Иванович,
взял ногу, положил ее себе на колени...
Он хохотнул и слегка потряс головой. Из всех самых дорогих воспоминаний
самое-самое дорогое было вот это. Он берег его, как сокровище, и все снова
и снова возвращался к нему, поворачивал так и этак, разглядывал все до
мельчайших подробностей и прибавлял еще новые, каких не было.
Потом она снова пришла в себя, и он стал поднимать ее с песка. Сначала
это у них никак не выходило. Тогда он сказал: "Стойте-ка, попробуем так".
Обнял ее за пояс, посадил и придержал за спину. Она села, перевела
дыхание, облизала губы, поправила с боков волосы и сказала: "Тут у меня
фляжка с холодной водой, дайте, пожалуйста". Он подал - простая
алюминиевая фляжка. Она развинтила ее, стала пить, пила, пила, потом
положила на песок, поглядела на него, улыбнулась и сказала: "Вот ведь
история, а? Глупее ничего и не придумаешь". "Ничего, - ответил он, -
бывает! Вот как пойдем-то? Идти вы не можете, а одну я вас не оставлю
тут". Он был страшно серьезен, мрачно-серьезен. Почему-то на шутки его не
хватало. "Вы встать можете? - спросил он. - Держась за меня, а?" Она
поглядела на него и мученически улыбнулась. "Попробую, только держите меня
крепче за пояс". Но ничего из этого не получилось. Она несколько раз
пыталась встать, но только приподнималась и тяжело оседала опять. "Нет,
так не пойдет, - сказала она, - знаете что, подхватите меня пониже и
хорошенько подтолкните. Тут уж ничего не поделаешь". Он понял, одной рукой
обнял ее за пояс, а другой подтолкнул вверх. И еще раз. И еще несколько
раз. И она встала. Она встала и стояла на одной ноге, обняв одной рукой
его за шею и пошатываясь. Другой - больной - ногой она только чуть
касалась земли. "Ну как?" - спросил он. "Да вот привыкаю, - ответила она.
- Знаете что, спустите меня опять, я оденусь". Он осторожно опустил ее и
подал платье. Она повертела его в руках, подумала и сказала: "Нет, так
его, пожалуй, не наденешь. Давайте опять встанем". Опять встали. Она
собрала платье складками, подняла над головой и сказала: "Пожалуйста,
держите меня за пояс. Только осторожно, я боюсь делать резкие движения".
И так она оделась, но опять как-то неосторожно двинулась, разбередила
ногу и застонала. Потом он опустил ее на песок, и она надела тапочки.
После этого она сказала: "Теперь дайте мне полежать спокойно минут пять, и
пойдем". Она легла и вытянулась, а он сидел около нее, смотрел на море. А
она лежала с закрытыми глазами, легко дышала и такая была... такая...
Наконец он сказал: "Тут, видите, крутой подъем - придется мне донести вас
на руках до дороги. Там уж пойдете сами". "Хорошо, - сказала она послушно,
- только давайте минутки две отдохнем". Минут через пять он сказал: "Ну,
берите меня за шею. Крепко держитесь? Держитесь крепче! Оп-ля!" Оторвал ее
от земли и понес на руках. (Это опять-таки было его самое-самое дорогое.)
...Ну а потом она пошла. Хромала очень, но все равно нести ее я уже не
решался - ведь город же! Представляете себе зрелище! На улицах еще никого
не было, но все равно я не решался. А она молодец, шла и даже не стонала,
только, когда нога подвертывалась, - вскрикивала. Но плечо у меня три дня
потом болело. Тогда я ничего не замечал. "Больно?" - спрашиваю. "Ничего,
ничего, идемте, идемте". - "А может, отдохнем? Вот лавочка". - "Нет,
пошли, пошли, тут уж недалеко - вот за углом". А как свернули за угол, так
вылетела целая толпа - парни, девушки, кто с надувными поясами, кто с
мячами, и сразу к ней: "Лина, что с вами? Что случилось?" Окружили,
подхватили за спину, посадили на скамейку. Кто-то за сестрой побежал, ну а
я сбежал, конечно. Вот и вся история, Александр Иванович, видите, какой я
спаситель.
- Да, - ответил Александр Иванович. - Вижу, чувствую. А зачем вы с ней
в гору поднимались? Там что-то было?
На гору они поднялись уже под вечер. Когда-то сюда была проложена
настоящая дорога, сначала лесенка, потом что-то вроде шоссе - сейчас же
ничего не было: осталась только неверная, все время осыпающаяся под ногами
тропинка, и идти по ней надо было осторожно, держась за кусты и выбирая
место, куда встать, а то сразу ухнешь по колено в бурьян или частый
крапивник. А крапива здесь вырастала несокрушимая: черная, высотой с
человека, с нежными желтыми сережками, вся осыпанная серой цветочной
пылью, и от нее таинственно пахло. И вообще все, что находилось ниже
тропинки, на склонах горы, все было таинственным: черные круглые колючие
кусты, бело-желтые, в ржавых пятнах камни; козьи кости, собачий скелет с
раскрытой к небу частой решеткой ребер. Сидит на тоненькой осине кобчик и
смотрит желтым кошачьим глазом; взмахнешь рукой, крикнешь, он только для
приличия пригнется, как на пружинах, и опять сидит. Идешь и думаешь: а что
же делается в этой гуще? В колючем кустарнике, в желтых и пустых дудках, в
этих мощных лопухах и репейнике, в крапивных зарослях - что там? Кто здесь
ходит, кто живет и почему на пустой дудке висит вон насквозь промасленный,
как блин, серый брезентовый картуз? Кто его сюда повесил? Зачем? Когда?
- Постойте, спаситель, - сказала Лина, отпуская его руку, - я сниму
тапочки, а то ноги скользят. Постойте-ка там, вверху.
Она возилась долго, что-то снимала, надевала, и, когда подошла к нему,
вдруг солнце зашло за тучку и как-то внезапно стемнело. То есть небо над
ними было еще светлое и море сверкало нестерпимо для глаз, они видели его
в прорези горы, но по склонам уже легли прозрачные сумерки. Блин на дудке
теперь казался совсем бурым. А рядом была настоящая пропасть. Он как-то не
так ступил, и посыпалось, камень оборвался из-под его ноги и мягко по
травам поскакал по склону, докатился до репейников и застрял там.
- Ну, еще с десяток шагов, - сказал он бодро, - еще один поворот, и
пришли!
Он говорил, только чтоб ее подбодрить, но действительно получилось так,
как он сказал. Они поднялись еще несколько шагов и сразу очутились на
прямой широкой дороге, а прямо перед ними зеленел спокойный, как в сказке,
ровный лужок, поросший невысокой травкой, и белела кладбищенская стена.
- Ну вот, дошли, - сказал он, - может, отдохнем?
Стена была невысокая, по грудь человеку, из-за нее виднелись кресты и
склепы - странные кубы и прямоугольники из желтого известняка. Так строят
только для покойников. Но рядом стояли черные кипарисы, и все равно было
красиво. Он посмотрел на все это, затененное легкими прозрачными
сумерками, похожими на дымчатое стекло, и подумал: "И дернул меня черт
притащить ее сейчас. Ведь минут через двадцать совсем стемнеет. Уж
подождать бы утра и подняться с другой стороны".
- Садитесь, отдохнем, - сказал он и сел на придорожный камень. Он лежал
тут на дороге - большая четырехугольная мраморная глыба.
Она тоже села, тяжело вздохнула и закрыла глаза. Он посмотрел на глыбу:
с одной стороны она была обтесана, ее, видно, тащили сюда, но почему-то не
дотащили до стен кладбища и бросили. Почему? Может, революция подошла и
живым стало уже не до мертвых?
Он вынул из кармана ее плоскую фляжку и сказал:
- Предложил бы вам водки, но... - Она слегка поморщилась.
- Воды бы...
- Что ж, поищем и воды, - сказал он бодро, - какая-нибудь труба здесь
да торчит. Что ж, пойдем, пожалуй?
- Еще минутку, - попросила она, но просидела долго, пока совсем не
стемнело, тогда она поднялась и сказала: "Идем".
И только они прошли несколько шагов, как белая стена оборвалась, и они
увидели в этом провале ночь. В ней перемешалось все: и чернота земли, и
густота кустарников, и лиловатость мрамора, и ангелы, и небо с крупными
синими звездами, и верхушки деревьев, и за деревьями как бы наискось
повешенное море, а по небу быстрые лиловатые вспышки. Он вынул из кармана
фонарик - лиловый лучик скользнул по траве и рассеялся, не долетев до
стены.
- Пойдемте, - сказал он.
Встали и снова пошли, но только прошли несколько шагов и наступили на
первую могилу, как что-то ухнуло и застонало. Она сдавила его ладонь. Он
тихо засмеялся и похлопал ее по руке.
- Ну, ну, - сказал он, - ничего особенного, сова. Их в этом хозяйстве
должно быть до черта. Вон ведь какие апартаменты. - Он осветил овальное
узорное окошко с разноцветными стеклами и бронзовыми пальмами вместо
решетки. И вдруг его рука дрогнула: высокий худощавый старик в синем
комбинезоне появился из-под земли, стоял перед ними и неподвижно смотрел
на них.
- Доброй ночи, - сказал Зыбин несколько ошалело.
- Добрый, добрый вечер, - ответил старик благодушно, - какая же сейчас
ночь? Вечер! А я вот что смотрю: вы ведь с этой стороны поднимались?
- Да. А что?
- Как что? Как же вы так рискнули? Там же рогатины стоят. Здесь же
никак ходить нельзя. Свалишься - костей не соберешь. В прошлом году двое
насмерть расшиблись. Милиция нам строжайше запретила! Здесь все скрозь
сыпется.
Он говорил, а сам как будто улыбался.
- Да никаких рогаток мы, дедушка, не видели. - Лина прижалась к Зыбину
и слегка потерла подбородком его плечо.
- Да это как же нет, когда я сам и ставил, - покачал головой старик. -
Нет, они есть, да вы ими пренебрегли. Вот что! Ну а если свалились и на
дороге лежат, то все равно. Там надпись черным по белому: "Проход
воспрещается".
- Да совсем там ничего не было! - воскликнул Зыбин.
- Да неужели кто опять сбросил? - спокойно удивился старик. - Да,
наверно, что так! Это третью мою заграду они ниспровергают! Ну, хулиганы!
Ну, подлодочники! До всего-то им дело! Стоит памятник. Так он, может, сто
лет тут простоял. Его ни белые, ни красные, ни зеленые не трогали, так
нет, пришел герой из ваших, ученый в белом костюме, сел под него, вынул
бутылку, хватил стакан-другой, и - все! Растянулся! Встал через два часа,
уставился, как баран, смотрит: ангел с крестом. Смотрел, смотрел да как
швыркнет башмаком - стоит! Он его - спиной! Стоит! Так он задом уперся,
пыхтел, пыхтел, аж посинел - здоровый ведь боров, пьяный! Все стоит ангел.
Тут уж такое горе его взяло - такое горе! Повернулся от памятника и не
знает, что же ему делать? И выпить нет! - хоть плачь! Увидел меня: "Дед,
достань поллитра!" "Нет, - говорю, - водки у нас нет: покойникам не
подносим и сами не пьем. А что ж, - говорю, - вы остановились-то? Спиной
его лупили, задницей перли, давай теперь лбом - вон он у вас какой! может,
свалится". "А, - говорит, - все равно все это на снос!" Вот какие
попадаются ученые! А что это вы так припозднились? Сюда надо приходить,
пока солнышко высоко. Вы что, так гуляли и забрели или посмотреть пришли?
Странный это был старик, он и расспрашивал, и рассказывал все одним и
тем же тоном - легким, смешливым, добродушно-старческим, и было видно, что
ему на все про все наплевать, и на то, что кто-то пойдет по такой дороге,
а потом и костей своих не соберет. Зыбин ответил, что нет, они не гуляли и
забрели, а пришли специально взглянуть на кладбище.
- Ну, ну, - как будто по-настоящему обрадовался старик. - Здесь есть
что посмотреть. Ну как же? Здесь один такой выдающийся памятник есть, что
его в музей хотят взять. - Зыбин сказал, что именно из-за этого памятника
они пришли сюда. - Так вы не туда идете! Вы сейчас совсем заплутаетесь!
Стойте-ка, я вас сейчас провожу.
Он отделился от стены и сразу же исчез, был и нет, не то в стену ушел,
не то в землю провалился. Лина стиснула руку Зыбина, но старик уже вылезал
откуда-то из-под земли. В руках его был большой закопченный фонарь. "Ну,
пойдем", - сказал он. Фонарь он нес, как ведро, махал им, и тени от этого
шарахались в разные стороны. Освещалось только то, что под ногами: трава,
земля, а впереди была все равно темнота.
Они миновали несколько крестов и ангелов и поравнялись со склепом,
большим, длинным, похожим на склад. Одно окно горело снизу желтым
керосиновым светом.
- Да тут живут! - удивилась Лина.
Старик махнул фонарем.
- А как же! - ответил он, с удовольствием вглядываясь в ее лицо. - Тут
вот и живем. Там у меня инструменталка, а тут жительство. Двое нас: я да
садовник Митрий Митрич, такой же старичок, как и я. Тому уже восьмой
десяток давно пошел.
- Садовник? - удивилась Лина.
- Садовник, гражданочка, садовник. Митрий Митрич. Знаменитый человек
был. Когда-то на островах у графа Полюстрова служил и на все высочайшие
банкеты цветы доставлял. Его в Царское сманивали - не пошел. Мол, тут и
дед мой кости сложил, и отец, и я тут же с ними. Да вот видишь, не вышло.
Как в гражданскую тут застрял, так и остался. Вот вместе теперь живем.
И опять голос у старика был легкий, шутливый и чуть ли не
издевательский, как будто он рассказывал и в то же время приглашал
посмеяться над рассказом.
- И не страшно вам? - спросила Лина.
Это так понравилось старику, что он даже остановился.
- А кого ж тут бояться-то? - спросил он весело, и глаза его насмешливо
заморгали. - Злым людям тут делать, гражданочка, нечего. Чем тут
поживишься? Вот только уж алкоголик затешется с пьяных глаз - это да!
Такое приключение бывает! А так - все больше парочки, - и он слегка мигнул
фонарем на них обоих.
Лина сжала пальцы Зыбина и спросила неуверенно:
- А вурдалаки?
- Что-о? - нахмурился старик. - Вурдалаки? Вона что! Это которые,
значит, из могил выходят да кровь сосут! - Он вдруг засмеялся и покачал
головой. - Нет! Оттуда, гражданочка, никто не выйдет. Там дело вполне
крепкое! Зароют, камнем придавят, и все! Как не жил на свете! Мертвый
человек - он самый безвредный! Это живые все шебаршатся, хватают, к себе
тянут, и все - "мало, мало, дай еще! Давай мне еще и это!". А мертвый сам
с себя все раздает. А как останется один скелет - это уж, значит, точно,
раздал все нажитое - одну основу себе оставил. Она уже его собственная! От
матери! Вот так, молодые люди! - Он говорил и весело глядел на них обоих.
Зыбин заметил, как Лину вдруг передернуло, у нее сейчас было осунувшееся и
сразу как-то похудевшее лицо. Старик, видимо, был дока - он знал толк в
таких разговорах и любил их.
- Все равно страшно, - сказала Лина и плотно прижалась к Зыбину. Тот
слегка обнял ее сзади. Она прильнула еще ближе.
- Страшно! Да что вы, помилуйте! - почти по-светски воскликнул старик.
- Природа! Закон! Закон-с природы! Из земли создан, в землю и отойдешь.
Чего ж страшиться-то? Удивляюсь! Особенно вам, ученым, удивляюсь! Учатся
всякому природоведенью, синтаксису, а ведь доведись что - хужее самого
черного мужика. Ей-богу, хужее! Вон внучок у меня в седьмой класс зимой
пойдет, журналы читает, как что - "ты, мама, отсталая, сейчас так уж не
говорят". Такой научный! А был он у меня раз, припозднился - я аккурат ему
силок мастерил - и лег тут. Утром выбег по своему делу, смотрю, через
сколько-то бежит - лица на нем нет! Что такое? "Деда, деда, там мертвяк
из-под земли вылез!" - "Где мертвяк? По какому случаю? А ну, пойдем,
взглянем". - "Нет, нет! Я не пойду!" Вон какой ученый! - старик опять
засмеялся. - Вышел я, верно, кто-то скребется, решетку у могилы
раскачивает. Подошел, а он уже весь облевался и на памятник лезет. А
грязный, а страшный, а весь в земле! Ну правда, вурдалак! Это он, значит,
тыкался, тыкался, тыкался в решетку, только башку расшиб. Так он сообразил
- на памятник полез, чтоб, значит, оттуда, сверху за решетку сброситься.
Вот до чего допиться можно! Такие приключения тут - да, случаются. А все,
что вы говорите... - Он с улыбкой поглядел на Лину и слегка махнул рукой.
- Ну вот мы и подошли. Вон он, памятник, смотрите!
...Вы понимаете, Александр Иванович, эта статуя была действительно
замечательной. Когда мы осветили ее фонарем, то она прямо взмыла перед
нами - такая страшная легкость! Пьедестал-то из черного гранита, его не
видно. А внизу-то, Александр Иванович, и были все эти надписи - ночью-то
гранит невидим, конечно, но только тронешь его фонарем - он так и
вспыхнет, так и обдаст голубыми искрами. И вот когда мы его так со всех
сторон обшаривали, и появилась эта старуха...
Не старуха, конечно, она была, ей еще и пятидесяти лет, наверно, не
стукнуло. Они ее сначала точно не заметили. Просто поднялись к памятнику -
и вдруг из темноты послышался спокойный, густой и какой-то очень
полнозвучный голос:
- Здравствуй, Михеич! С кем это ты?
И старичок вдруг засуетился.
- А, это вы, Дора Семеновна, - заблеял он. - Что ж не повестили-то?
Ростислав-то Мстиславич где? Тоже с вами? Вот видите, молодые люди
захотели Юлию Григорьевну проведать да заплутались в могилках-то. Вот я и
взялся их проводить по случаю ночи.
- Положим, у тебя сейчас и днем заплутаешься, - спокойно сказала из
темноты женщина. - Я давно тут хожу - никакого порядка нет. Не смотрите
вы! Ни ты, ни тот обломок империй!
- Да какой же тут может быть полный порядок, Дора Семеновна, - махнул
фонарем старик. - Помилуйте! Все ведь в море рушится. Вон дорога
обвалилась, ходить нельзя. Вчера милиционер был, так объявил: последнее
лето, а там запретят тут жить.
- Да уж скорее бы гнали вас отсюда, что ли! Все равно толку нет! -
вздохнула женщина и подошла к ограде. Была она высокая, плотная, с пестрой
шалью на плечах.
- Здравствуйте, - слегка поклонился ей Зыбин. - Вот пошли, не
рассчитали, темнота застала. В первый раз тут - трудная дорога!
- Если правильно идти, то она не трудная, - ответила старуха. - Надо
вон оттуда идти, тогда легко. Лучше всего утром сюда приходить или при
полной луне, а так, при фонарике-то, что увидишь? Ну, посмотрите,
посмотрите.
Она вышла из ограды и оказалась высокой, крепкой, еще не старой
брюнеткой с крупным, грубоватым, но красивым лицом, черными, очень
правильными бровями и бархатным взглядом. Когда она подняла руку, убирая
со лба и висков черные тонкие волосы, блеснул браслет.
- Да уж лучше бы закрывали, - сказала она. - Никому сейчас мы не нужны!
Вот до нынешнего лета фотография здесь была - так стекло разбили,
фотографию дождем смыло. А решетку с той стороны свалили и вон куда
оттащили. Зачем? Кому надо? И жаловаться некому! Ну, решетка еще ладно, а
вот памятник жалко. Больших денег он стоит! Музейная же вещь! Ее в Эрмитаж
бы!
- Запрещено, Дора Семеновна, - вздохнул старик. - Приказ будто такой
есть особый - культ будто это!
- Знаю, что культ! Ну, смотрите, молодые люди, хорошенько смотрите! А
то придете и ничего не увидите: на известку отдадут. Это сейчас просто!
Культ. Отец ставил, думал, будет триста лет стоять, а он и двадцать пять
лет не простоит! Встал бы покойник, посмотрел на дело рук своих! Вот он
тут как раз рядышком лежит. Фамильное место-то!
- Скажите, а вы ее знали? Вот эту девушку? - спросил осторожно Зыбин.
- А как же! Моя ж это кузина Юленька! На два года я ее старше. С
детства ее знаю. Мы с ней все эти горы облазили. Тогда тут курзал
грузинский стоял с музыкой. Шашлыки и красное вино. А в этом месте
скамейки были. Она любила сюда приходить утром, пока еще народа нет. Вот
сядет тут и рисует все в альбом море - она хорошо красками рисовала.
- А как она умерла? - осторожно спросила Лина.
Женщина ответила не сразу. Она сначала немного как будто подумала.
- Смерть пришла, вот и умерла, - ответила она равнодушно. И вдруг
заговорила часто и резко: - Не от любви! Нет! Это все курортные байки.
Рыбак! Маяк! Глупость это! Ничего подобного! Она еще, что такое любовь,
как следует и не понимала. Обожала нашего кузена-кадета - и все! А стихи
эти, что сейчас на камне, - она их в особый альбом списывала. Думала потом
ему поднести. Будто она его любит, а он ее нет - она готова за него
умереть, а он над ней только смеется. Вот такую любовь себе вообразила. И
письма ему такие писала. После смерти ее все их в шкатулке нашли. А умерла
обыкновенно. Глупо то есть умерла. От стрептококковой ангины. Лазала по
горам и простудилась. А потом эта зараза пристала - и все! В неделю
сгорела.
Она плотнее накинула платок на плечи и подошла к ним. Очень хорошо
сохранившаяся сорокапятилетняя женщина с крупным лицом, сочными губами и
каким-то большим, спокойным и в то же время глубоким и проникающим
взглядом, и от этого взгляда Зыбину стало вдруг не по себе. Ему в голову
пришло что-то совершенно сумасшедшее. "Вот она сейчас уйдет, и мы никогда
не узнаем, кто она такая и откуда взялась, - остро подумал он,
всматриваясь в лиловые тени около ее насурьмленных глаз и в беспощадный
разлет бровей. - Придем сюда завтра, и окажется, что никакого тут Михеича
нет, то есть, может быть, он и был, но умер сорок лет назад, а склеп стоит
забитый, и тут яма, кости и памятник". Он думал так и чувствовал, что
цепенеет от страха. Вот откуда она взялась? Ведь не было же ее здесь, и
вдруг появилась. И старик откуда-то из-под земли вылез и свел их сюда к
этой старухе.
Он посмотрел на Лину. Она не отрываясь смотрела на женщину.
- А знаете, я где-то вас видела, - сказала она вдруг.
- Так и я вас тоже, - охотно ответила женщина и слегка улыбнулась. - На
пляже. Мы раз с вами даже вместе купались. - Она протянула руку. -
Разрешите представиться, артистка московской госфилармонии Дора
Истомина-Дульская. Может, видели афишу с моим портретом? Всегда месяца два
мы гастролируем в этих местах. Нам, кажется, по пути? Пойдемте! Свети нам,
Михеич!
"Старый могильщик, старый могильщик, куда же ушел ты, старый могильщик?
Зарой меня в землю, старый могильщик, чтобы я уж не видел, мой старый
могильщик..." - он бормотал, ворочался с боку на бок, а над ним стоял
солдат, тряс его за плечо и повторял: "Вставайте, вставайте! На допрос, на
допрос..." Наконец он вскочил. Горел желтый свет - значит, было еще не
поздно. Койка Буддо пустовала. Он поднялся, пригладил волосы, выпил воды,
оделся и спросил солдата: "Так ведь отбой уж?" "Идем", - ответил солдат.
И они пошли. У него, наверно, была температура. Идя по коридору, он
хватался за стенки, его шатало. Наконец они остановились перед той же
знакомой дверью, что и вчера. "Подтянись, - прошипел солдат, - что ты весь
расхристанный?"
Дверь отворилась сама. Хрипушин стоял посередине кабинета. Он поглядел
на Зыбина и усмехнулся. Видно, тот был в самом деле хорош: растрепанный,
расстегнутый, башмаки без шнурков. Потом взял квитанцию, подошел к окну и
подмахнул ее. Солдат вышел.
- Как вы себя чувствуете? - спросил Хрипушин мимоходом.
- Спасибо, хорошо, - ответил Зыбин, усаживаясь на свой стул в углу.
Хрипушин тоже прошел к столу, плотно уселся и положил кулаки перед собой.
Он был отлично выбрит, выглажен, начищен и подтянут.
- Ну, а без спасибо можно? - спросил он.
- Можно, - ответил Зыбин и провел рукой по лицу: кажется, точно жарок,
вот и разламывает. Еще не хватало, чтоб здесь разобрало. А как зарос-то!
Жаль вот, зеркала нет.
- У вас нет зеркала? - спросил он.
И тут произошло что-то совершенно непонятное. Хрипушин вдруг взревел,
как бык. Он бахнул кулаком по столу. Из чернильницы взлетели чернила,
посыпались карандаши, что-то зазвенело.
- А ну встать! - заревел Хрипушин, вскакивая. - Да я тебя! Встать, вам
говорят!
Но Зыбин продолжал сидеть. Теперь он понимал, что его точно лихорадит.
Мысль работала очень туго, он даже хорошенько и не осознал, что произошло.
Тогда Хрипушин как-то сразу очутился около него (через стол он
перепрыгнул, что ли?) и вцепился ему в ворот.
- Вставай, проститутка! - прохрипел он в ухо, раскачивая его и почти
душа. - Встать, тебе говорят!.. Зеркало ему! Ты у своей курвы его спроси!
Все это произошло настолько внезапно и нелепо, что Зыбин и верно
поднялся. Тогда Хрипушин отпустил его.
- Ах ты, - проговорил он как-то даже горестно. - Ведь совсем обнаглел,
вражина! Зеркало ему подавай! Да где ты находишься? Ты что? Ты к своим
проституткам пришел, гад, враг, сволочь? Забыл, где ты?
Зыбин молча смотрел на него. "Ну вот и все, - подумал он. - Сейчас он
ударит меня, а я дам ему по скуле и вышибу челюсть. И еще поддам ногой в
морду, когда он упадет. Сейчас, сейчас! Вот сию секунду!" Он знал, что это
точно будет, что после этого сюда ворвется банда будильников, хорошо
откормленных ражих жеребцов, его стиснут, свалят на пол и будут топтать,
пока не превратят в мешок с костьми. Что-что, а это они умеют. Но тут уж
ничего не поделаешь, не его на это воля! Жаль только, что следователи
сейчас, сказал Буддо, не носят с собой браунинг, а то бы можно было бы и
шутку сыграть, и отделаться безболезненно. Но раз так - то так, и он с
улыбкой поглядел на Хрипушина.
- Но почему же проститутка? - спросил он. - Ведь вы троцкизм мне
предъявлять не будете? Так какая же тогда проститутка?
Хрипушин перевел дыхание и разжал кулаки. Он уже что-то понял. То есть
он, конечно, ничего не понял, но находился в том высоком взлете гнева, в
котором не полагались перерывы. Вот как взревел он с места в карьер, как
ухнул кулачищем по столу, так и надо было продолжать: орать, лупить,
крушить, материть, - словом, сразу превратить человека в кусок дерьма. Тут
секунды решают все. Если враг поддался и заговорил, ну хотя бы
запротестовал, - он уже все расскажет! Но сейчас что-то удерживало его и
от кулаков, и от криков, и не какое-то там соображение или понимание, а
что-то тонкое и острое, похожее на нюх и чутье. Кроме того, ведь
разрешения бить он не имел. Такие разрешения вообще спускаются не всегда и
не по всем статьям. Тут так: если зек подписал - ну, молодец! Победителей
не судят. А будет шум - получай выговор за брак!
Вот так они и стояли и смотрели друг на друга. Хрипушин с бычьей
яростью, в которой было, однако, и порядком неуверенности; Зыбин - просто
и прямо, потому что это был, вероятно, его последний день - тот итог, к
которому пришла вся его путаная и нелепая жизнь.
Ни капли злобы не было у него против этой здоровенной орясины. Он
испытывал только что-то вроде ощущения кошмара, страшной нелепости того,
что происходит, сна, который он не в силах прервать. "Как хорошо тогда
было у моря, - вдруг остро и быстро подумалось ему, - а теперь вот... И
кому это нужно? Да никому это не нужно".
Наконец Хрипушин резко повернулся, пошагал за стол и сел. Сел и Зыбин.
И оба они разом почувствовали, что не знают, что же делать дальше. Сидели
и старались не глядеть друг на друга. И тут вдруг зазвонил аппарат. "Майор
Хрипушин слушает", - крикнул в трубку Хрипушин с облегчением. Его о чем-то
спросили. Он ответил, что еще нет, а потом сказал, что да. Тогда ему,
видимо, приказали прийти. Он гаркнул "есть" и тут же вызвал какой-то номер
(на Зыбина он не смотрел). "Здравствуйте, - сказал он через секунду, - что
вы делаете? Тогда возьмите работу и зайдите в такой-то кабинет". Он
опустил трубку и посмотрел на Зыбина.
- Ну вот что, - сказал он нехотя. - Вы много на себя тоже не берите.
Вскочил! Здесь и не таких видали! Посидите, подумайте. Писать вам все
равно придется.
В дверь постучали. "Да", - сказал Хрипушин. И вошел очень молодой
светловолосый парень с папкой в руках. У него было совсем мальчишеское
пухлое лицо и светлые усики. Он походил на гусара из какого-то
историко-революционного фильма.
- Можно? - спросил он, останавливаясь около Зыбина.
- Да, да, проходите, - сказал Хрипушин и встал. - Я сейчас вернусь.