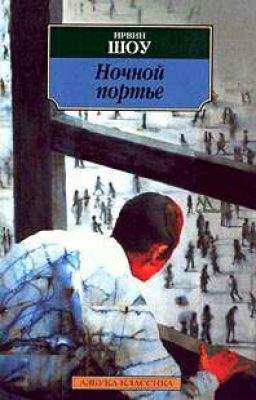ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
В отеле «Пеликано» было свободно, мне отвели светлую просторную комнату, из окон открывался чудесный вид на море. Попросив девушку в конторе позвонить домой Квадрочелли, я узнал, что его ожидают завтра утром. На всякий случай я предупредил, что все время буду в отеле.
На следующее утро, после игры в теннис с пожилыми англичанами, я сидел на террасе, когда появилась девушка из конторы вместе с небольшого роста смуглым мужчиной, на котором были поношенные плисовые штаны и темно-синий матросский свитер. Это оказался dottore Квадрочелли.
Я поднялся, мы пожали друг другу руки. Его рука была по-рабочему твердая и шершавая. Загорелый, крепко сбитый, он походил на крестьянина, черноволосого, черноглазого, веселого и жизнерадостного. У глаз была частая сетка морщинок, словно большую часть своей жизни он постоянно смеялся. На вид ему было лет сорок пять.
– Приветствую вас, мой дорогой друг, – оживленно заговорил он. – Садитесь, садитесь. Радуйтесь прекрасному утру. Как вам нравится этот великолепный вид на море? – Он спросил таким тоном, будто и скалистое побережье полуострова Арджентарио, и освещенное солнцем море, и видневшийся в дали остров Джаннутри были его личными владениями. – Могу ли я предложить выпить? – спросил он, когда мы оба уселись.
– Нет, благодарю. Еще рано, с утра не пью.
– О, замечательно, – воскликнул он. – Вы подаете мне хороший пример. – Говорил он по-английски быстро и почти без акцента, а так как мысли в его голове, как видно, набегали одна на другую, то и слова произносились торопливой скороговоркой. – А как поживает очаровательный Майлс Фабиан? Очень жаль, что он не смог приехать с вами. Моя жена в отчаянии. Она безнадежно влюблена в него. И три мои дочки тоже, – весело рассмеялся он. Рот у него был маленький, губы сложены бантиком, почти совсем как у девочки, но смеялся он по-мужски громко и раскатисто. – Ах, его жизнь, должно быть, полна любовных историй! И к тому же он все еще не женат. Мудро, очень мудро. Наш друг Майлс Фабиан дальновиден, как философ. Вы согласны?
– Я его еще мало знаю. Мы лишь недавно познакомились…
– Годы только на» пользу ему. Сравните его с остальными бедными смертными, – снова рассмеялся он. – А вы приехали один?
Я кивнул. Квадрочелли скорчил печальную гримасу.
– Жаль вас. В таком чудном месте… – Он широко раскинул руки, как бы прославляя все вокруг. – Вы что, не женаты?
Я подтвердил, что не женат.
– Вот я познакомлю вас с моими дочками. Одна – писаная красавица. Поверьте, даже если это говорит отец, который души в ней не чает. Две другие – с характером. Но, как говорится, каждая душа по-своему хороша. И я отношусь к ним одинаково. Знаете, когда Майлс говорил со мной по телефону из Гштаада, он очень хорошо отзывался о вас. Называл вас своим лучшим компаньоном. Говорил, что вы умны и честны. Качества, которые в наши дни не так часто встретишь в человеке. То же самое я бы сказал и о самом Майлсе.
Я не счел нужным умерить пыл своего нового знакомого, заметив, что он очень щедр в своих суждениях обо мне.
– Как же вы познакомились с Майлсом? – продолжал свои расспросы Квадрочелли.
– Летели вместе на самолете из Нью-Йорка, – коротко объяснил я, стремясь избавиться от дальнейших расспросов.
– И судьба вас случайно столкнула? – щелкнул пальцами Квадрочелли.
Вернее сказать – одарила, подумал я, вспомнив лампу, которую разбил о голову Фабиана.
– Что-то вроде этого, – кивнул я.
– Товарищества, подобно бракам, тоже заключаются на небесах. По их воле, – глубокомысленно изрек Квадрочелли. – Скажите, мистер Граймс, вы разбираетесь в вине?
– Нисколько. До приезда в Европу я вообще едва ли когда пил вино. Предпочитал пиво.
– Ну, это уж не столь важно. У Майлса вкус за нас троих. То был особенный день, когда Майлс почтил мое вино, заявив, что собирается продавать его и на бутылках поставить мое имя. И если американец станет требовать:
«Подайте-ка мне бутылку кьянти Квадрочелли», – не скрою, мне это будет приятно. Человек я не тщеславный, но все же и не без этого. Заверяю вас, что мое вино натуральное. Без всяких примесей, не крепленое. Ах, чего только не делают с вином у нас в Италии… Добавляют и бычью кровь, и всякие химикалии. Я стыжусь за свою страну. Что с вином, то и с нашей политикой. Вконец испорченная. Обесцененная, как наша лира. Мы же будем смотреть всем прямо в лицо, никого не обманывая. И разбогатеем на моем вине. Здорово разбогатеем, мой дорогой друг. После завтрака я покажу вам сделанные мной подсчеты. Завтракать прошу со мной и моей женой.
– Благодарю, – поклонился я.
– Мое вино, – не унимался Квадрочелли, – это то немногое, что наше идиотское правительство не в силах испортить. В Милане у меня печатное дело. Вы и представить себе не можете, как трудно сейчас сводить концы с концами. Налоги, забастовки, бюрократизм. Да еще вдобавок взрывы бомб. – Лицо у него помрачнело. – Dolce Italia[20]. На моем предприятии в Милане мне приходится держать круглосуточную вооруженную охрану. Для некоторых из своих друзей-социалистов я по себестоимости печатаю безвредные брошюры, и мне постоянно угрожают за это. Не верьте, мистер Граймс, когда вам говорят, что Муссолини нет. В 1928 году мой отец бежал в Англию. Единственное утешение, что благодаря этому я выучился вашему прекрасному языку. Но не буду удивлен, если и мне придется бежать. От правых, от левых – от всего. – Он нетерпеливо махнул рукой, как если бы осуждал себя за излишне откровенный пессимизм. – Ах, не принимайте слишком всерьез все, что я говорю. Я бросаюсь из одной крайности в другую. Мы – южане, и все в нашей семье сразу и плачут, и смеются, – и он раскатисто рассмеялся, демонстрируя одну из особенностей их семьи. – Однако мы встретились, чтобы поговорить о вине, а не о нашей сумасшедшей политике. Вино вечно. И ни политикам, ни бандитам не заглушить выращивание винограда. И его брожение в чанах идет себе без всяких забастовок. Вы и Майлс выбрали у нас самый основательный бизнес. И не слишком рискованный. Майлс сказал мне по телефону, что кто-то умер.
Я уже смекнул, что надо держать ухо востро, поскольку мистер Квадрочелли имел склонность внезапно переходить на совершенно другую тему.
– Один наш общий друг, – ответил я.
– Надеюсь, это было не слишком тяжело?
– Не слишком, – сказал я.
– Увы, – вздохнул он. – Все мы смертны. Он обхватил себя руками, словно желая удостовериться, что все на месте.
– Давайте поговорим о более приятных вещах. Вам уже приходилось бывать в Италии?
– Нет, – ответил я, решив не упоминать о поездке во Флоренцию, когда я охотился за Фабианом.
– Тогда я буду вашим гидом. Наша страна удивительна, полна сюрпризов. Некоторые из них даже приятные. – Он засмеялся, для него, видимо, было обычным радоваться собственным шуткам. Мне начал нравиться этот человек, его живость, крепкое здоровье и несколько избыточная откровенность. – Мы уже больше не великая страна, а наследники былого величия. Убогие сторожа того, что понемногу распадается от времени. Я отвезу вас в мой дом под Флоренцией. Посмотрите своими глазами мои виноградники, попробуете на месте ваше будущее вино. А оперу вы любите?
– Никогда не бывал.
– Поведу вас в театр Ла Скала в Милане. Придете в восторг. Как долго вы пробудете в Италии?
– Зависит от Майлса.
– Только не спешите уезжать, умоляю вас. Я не хочу, чтобы наши отношения сводились к сугубо деловым, – сказал он с серьезным видом. – Я понимаю, что это звучит глупо, но для качества вина было бы лучше, чтобы между нами были не только деловые связи. Вы хорошо переносите море?
– Не знаю. Я выходил только в озеро на весельных лодках.
– У меня есть небольшая прогулочная яхта длиной в двадцать пять футов. Мы отправимся на остров Джаннутри. – Квадрочелли ткнул пальцем в направлении туманного пятнышка на горизонте. – Он сохранился в первозданной красе. В наши дни это такая редкость. Жаль только, что купаться холодновато. А вода – чистая, как сапфир. Устроим пикничок и позагораем на песке. Вот увидите, вас придется силком тащить оттуда. На всю жизнь запомните. А где вы живете в Америке?
– В Вермонте, – чуть поколебавшись, ответил я. – Но я часто переезжаю.
– Вермонт, – он содрогнулся. – Никак не возьму в толк, почему люди живут в такой холодрыге, если их к тому никто не принуждает. Как Майлс, например. Когда-нибудь он непременно сломает себе шею, гоняя на лыжах, как сумасшедший. Кстати, я миллион раз говорил ему, что нечего жить среди снегов да ходить на лыжах. Рядом с моим домом продается прекрасная вилла и по сходной цене. С его знанием языка он мог бы жить у нас, как король, прежде чем все провалится в тартарары… У него ведь неплохой капиталец… – Квадрочелли испытующе поглядел на меня, прищурив глаза. – Верно?
– Не знаю. Как я уже говорил, мы недавно познакомились.
– О, вы весьма сдержанный человек.
– Более или менее.
– Могу ли я спросить, мистер Граймс… – последовал нетерпеливый жест. – Как ваше имя?
– Дуглас.
– А меня зовут Джулиано. Будем называть друг друга просто по имени. Так скажите, Дуглас, какой у вас бизнес?
– Главным образом помещение капитала, – немного замявшись, ответил я.
– Не буду назойливым, – Квадрочелли вытянул руки, как бы отводя дальнейшие вопросы. – Вы друг Майлса, и этого для меня вполне достаточно. А теперь время уже завтракать, – сказал он, поднимаясь. – Макароны и свежая рыба. Пища простая, но с того самого дня, как я живу со своей дорогой половиной, у меня никогда еще не болел живот. Полнеете, говорят мне доктора, но я же не собираюсь стать кинозвездой, – снова рассмеялся он.
Я тоже поднялся, взял его под руку, и мы направились к выходу. Неожиданно дверь отворилась, и на пороге в лучах яркого итальянского солнца показалась Эвелин Коутс.
– Мне звонил Лоример и сказал, что вы здесь, – объяснила она. – Надеюсь, не помешаю вам.
– Конечно, нет.
Быть может, потому, что наша встреча теперь произошла весной у Средиземного моря, или потому, что Эвелин была в отпуске, или наконец просто далеко от Вашингтона, но она казалась совсем другой женщиной. Резкость и властность, которые меня раздражали в ней при первом знакомстве, словно исчезли без следа. Лежа с ней в постели, я не заметил прежнего охватывавшего ее отчаянного поиска того, чего никогда не найдешь. Чувствовалось сейчас в ней какое-то внутреннее, затаенное напряжение или ожидание. Мы провели вместе несколько часов, грелись на солнце, держались за руки, о чем-то несвязно говорили, весело смеялись и дурачились, забавляясь попытками объясняться по-итальянски с официантом или фотографированием друг друга в разных позах.
Когда Эвелин приехала, Квадрочелли тут же оставил нас одних, сказав, что мне, конечно, надо о многом переговорить со своей прелестной американской подругой.
– Встретиться сможем и завтра, – добавил он. – Моя жена все поймет. И дочки тоже, – раскатисто рассмеялся он, покидая нас.
Однако в этот же день Квадрочелли со множеством извинений сообщил, что вечером вылетает в Милан, так как на предприятии у него нелады, которые можно назвать саботажем. Вернется он при первой же возможности.
После обеда Квадрочелли позвонил мне как раз в ту минуту, когда, насладившись любовью, мы с Эвелин расслабленно лежали в постели в моей уютной комнатке с видом на море. Я посочувствовал Квадрочелли в связи с его неприятностями, но в глубине души вовсе не сожалел, что лишен его общества, поскольку мог теперь уделить все свободное время прелестной Эвелин. Туристский сезон еще не наступил, потому в «Пеликано» было почти совсем пусто, и мы жили, словно владельцы роскошного загородного дома с приветливой и услужливой прислугой, где все было для нас. Раздевшись, мы часами лежали рядышком, загорая на теплом весеннем солнце. Мне показалось, что тело Эвелин стало более нежным и округлым. Прежде оно было крепким и упругим, как у женщины, которая следит за собой, за своим весом и формами, с помощью усердных гимнастических упражнений и дорогостоящего ежедневного массажа. Мы говорили о многом и разном, но никогда о Вашингтоне или о ее работе. Я не спрашивал ее, надолго ли она приехала, и она не заговаривала об этом.
Про свою беседу с Лоримером я решил ей не говорить.
То были чудесные дни, беззаботные и сладострастные, ничем не тревожимые – ни часами, ни календарем, в прекрасной стране, языка которой мы не знали и печали которой не заботили нас. Мы не читали газет, не слушали радио и не строили никаких планов на будущее. Несколько раз звонил Фабиан из Нью-Йорка, говорил, что все идет гладко, что мы день ото дня богатеем, но все же есть некоторые трудности, которые не объяснишь по телефону, и потому он задерживается дольше, чем ожидалось. Квадрочелли перед отлетом в Милан прислал мне расчеты по сделке с вином, которые, не читая, я тут же срочной почтой отправил Фабиану. Фабиан нашел эти расчеты превосходными и просил передать Квадрочелли, что его условия сделки вполне приемлемы.
– Кстати, – спросил я, – как прошли похороны Слоуна?
– Очень хорошо, – ответил Фабиан. – И вот еще, чуть не забыл. Как вы просили, я позвонил вашему брату, и он навестил меня в Нью-Йорке. Уверял, что дело, на которое вы дали ему деньги, становится весьма многообещающим.
Так прошла неделя, и все в ней было хорошо.
Мы поехали в Рим за заказанными пятью костюмами, остановились там в отеле и как заправские туристы бродили по улицам, завтракали на Пьяцца Навона, где пили вино Фраскати, побывали в Ватикане, осмотрели Форум, Музей Боргезе, слушали «Тоску».
Во время одной из прогулок по Риму я привел Эвелин на ту выставку, где в окне стояла купленная мной картина, о чем я ей не сказал. Мне хотелось сначала узнать ее мнение об этой картине как человека, более разбирающегося в живописи. Она нашла, что картина хороша, бесспорно хороша, но мы не смогли зайти и осмотреть всю выставку, так как она была закрыта на обеденный перерыв. Я подумал, что это к лучшему. Другие картины могли ей не понравиться, а Бонелли стал бы наверняка благодарить меня за чек, и я оказался бы в неловком положении. Мне же после проведенных с Эвелин дней стало хотеться, чтобы она всегда была обо мне высокого мнения. О чем бы ни шла речь.
На другой день у Эвелин было назначено свидание с ее другом из американского посольства, а я поехал за двумя купленными мной картинами. На этот раз у старика Бонелли был более радостный вид, что, очевидно, объяснялось тем, что еще на трех полотнах появились таблички с указанием «продано». Он даже напевал себе под нос какую-то арию из «Тоски». Я спросил о Квине, которого не было на выставке.
– Со времени встречи с вами, – объяснил старик, – Анжело день и ночь работает у себя дома. Он был очень подавлен тем, что более года его работы висели здесь на стенах и никто ими не интересовался. Как молодой художник он приходил в отчаяние, не получая хотя бы небольшой поддержки.
– Это бывает не только у художников, – заметил я.
– Конечно, – согласился старик. – Отчаяние охватывает не одних лишь художников. Я сам иногда спрашиваю себя, не зря ли я прожил свою жизнь. Даже в Америке… – пожал он плечами, не договорив до конца. – Да, даже, в Америке, – кивнул я.
Эвелин еще не было, и я поставил обе картины рядышком на камине с запиской: «Дорогой Эвелин на память». Потом я вышел, прогулялся по виа Венето, зашел в кафе и уселся на террасе за чашкой кофе, глазея на гуляющих. Мне хотелось, чтобы, пока меня нет, Эвелин увидела мой подарок.
Когда я вернулся, Эвелин, облокотясь на подушки, полулежала на постели, пристально глядя на картины. На глазах у нее блестели слезы. Не говоря ни слова, она притянула меня к себе и поцеловала.
Немного погодя она неожиданно сказала:
– Распутная я девка.
– Ах, успокойся, пожалуйста.
Она отстранилась от меня и села на постели.
– Вот сейчас и скажу, почему приехала к тебе.
– И хорошо сделала. Давай не будем говорить об этом.
– Я беременна, – выпалила она. – И от тебя. В ту нашу первую ночь у меня не оказалось таблеток. Ты не обязан верить мне, если не хочешь.
– А я верю.
– Уж готова была сделать аборт, когда позвонил Лоример и сообщил о встрече с тобой. Прежде я всегда заявляла, что не желаю иметь детей. А тут меня осенило, и я поняла, что просто дурачу себя. И еще многое поняла. Ушла из министерства. Хватит с меня чиновничьей службы. Я губила себя в Вашингтоне… И намерена сделать вот этакое безжалостное, я бы даже сказала – жестокое, предложение юриста…
– А именно?
– Чтоб мы поженились.
– Ну, это не очень-то жестокое предложение.
– После рождения ребенка мы сможем развестись. Но я не хочу иметь незаконнорожденного. Сперва я не хотела тебе говорить. Но после этой чудесной недели… Она все изменила. – Эвелин беспомощно развела руками. – Ты был таким милым. А картины меня вконец добили. Ладно, ничего, сама справлюсь.
Я глубоко вздохнул.
– У меня предложение получше. Почему бы нам не пожениться, завести ребенка и не разводиться? – Сказав это, я тут же поймал себя на том, что зря ляпнул это. Надо мной еще витали тени моего недавнего прошлого, которые надо было как-то развеять, прежде чем на ком-нибудь жениться. Но я почувствовал облегчение, услышав ее ответ.
– Не торопись. Во-первых, я могла солгать.
– О чем?
– О том, например, кто отец ребенка.
– Для чего это тебе?
– Ну, знаешь, женщины все могут.
– Но ты же не солгала?
– Нет.
– Твоего слова мне вполне достаточно.
– Даже если и так, – покачала она головой, – все равно незачем спешить. Я не хочу потом сидеть дома и раскаиваться. Или годами недовольно глядеть друг на друга? Пылкие, благородные порывы надо приберечь для иных случаев. А тут нужно время, чтоб хорошенько обдумать. Нам обоим. Убедиться, что мы уверены, в том, что делаем. Дадим себе на размышление, скажем, пару недель.
– Но ты же сказала… – ее неожиданные возражения вызвали с моей стороны и вовсе неразумную настойчивость, – что приехала ради…
– Все помню, ничего не забыла. Но это, как говорят в Вашингтоне, уже не актуально. Сейчас там очень модно это словечко.
– А почему не актуально?
– Потому что я изменилась. Ты был для меня чужим, просто нужным для замужества человеком. А теперь ты больше не чужой.
– А кто же?
– Скажу в другой раз, – улыбнулась она. Потом встала, потянулась и сказала: – Пойдем выпьем. Нам обоим не помешает.
– Ты помнишь, что рассказывал мне в первый вечер в Вашингтоне? – спросила Эвелин.
Мы шли по виа Кондотти, праздно поглядывая по сторонам. Со времени нашего последнего объяснения мы больше не упоминали о женитьбе, словно и речи об этом не было. Или, вернее, как если бы между нами ничто не изменилось. Мы стали более ласковы, даже нежны друг с другом, но в нашей близости проскальзывала грусть.
– Так о чем я говорил тогда? – переспросил я.
– О том, что ты простой провинциальный парень из очень богатой семьи.
– И ты поверила?
– Нет.
– Что ж, возможно, ты была права.
– Не забывай, – улыбнулась она, – что я вышколенный юрист. Кстати, чем же ты все-таки занимаешься? Как твоей будущей жене мне положено знать об этом, не правда ли?
– Не волнуйся, сейчас у меня достаточно средств, чтобы содержать тебя. – Продолжая изображать из себя этакого богача, я понимал, что это глупо и неубедительно, но ничего иного пока придумать не мог.
– Я не забочусь о том, чтобы кто-нибудь кормил меня. У меня есть и свои деньги, и я всегда заработаю себе на жизнь. Адвокаты в Америке не голодают.
– Почему в Америке? Чем плохо жить в Европе? Эвелин отрицательно покачала головой.
– Европа не для меня. Люблю приехать сюда на отдых, но жить постоянно – нет уж, уволь. – Она зорко взглянула на меня. – Есть причины, по которым не можешь вернуться обратно?
– Вовсе нет.
Она замедлила шаг и остановилась.
– Ты лжешь, – отрубила она.
– Быть может, – пожал я плечами. Человек, вышедший из магазина кожгалантереи, задел меня и пробормотал: «Scusi»[21].
– Это надо считать хорошим началом семейной жизни?
– Я не задаю тебе никаких вопросов.
– Можешь спрашивать.
– Нет особой охоты.
– У меня прекрасный домик у залива в Сэг-Харборе, – сказала она. – Родители оставили мне его. И я люблю там жить. Будет там и адвокатская практика, и приличный заработок. А разве твои дела вынуждают тебя жить здесь?
– Возможно.
– Если бы я заявила, что после свадьбы мы будем жить только у меня, ты бы согласился?
– Ты этого требуешь?
– Да, – сказала она тем безапелляционным тоном, которым обычно разговаривала в Вашингтоне. Очевидно, она не собиралась быть послушной женой.
Я промолчал, и мы пошли дальше.
– Ты ничего не ответишь мне? – спросила она, когда мы прошли несколько шагов.
– Не сейчас.
– А когда же?
– Может, сегодня вечером. А может, через неделю, через месяц…
Она принуждала меня к возвращению в Америку, и потому я обозлился на нее. Картины Анжело Квина растравили мне сердце. С того дня, как я впервые увидел на его полотнах суровые и меланхоличные уголки моей страны, я понял, что уже и прежде подсознательно боролся с той мыслью, что в какой-то день вернусь обратно на родину. Некоторые люди, как я обнаружил, становились отщепенцами, находя в этом удовлетворение. Но я не принадлежал к их числу. Черт побери, подумал я, ведь я же никогда не усвою другого языка, никогда не буду думать на нем. Нет для меня другого языка, кроме родного.
Возможно, то была случайность, что я попал на выставку картин, которые произвели на меня такое сильное впечатление, но и без этого, а также независимо от желания Эвелин я теперь окончательно осознал, что должен в конце концов вернуться на родину. Фабиан, конечно, не одобрит меня. Я заранее представлял себе его возражения: «Боже мой, да вы же быстро получите пулю в лоб!» Однако я не собирался жить по указке Фабиана.
– Я вовсе не отказываюсь вернуться в Америку, – после долгой паузы сказал я. – И даже поселиться в твоем доме в Сэг-Харборе, если тебе так хочется. Но условия должны быть равными. Если по некоторым причинам я не хочу объяснить, почему пока предпочитаю находиться за границей, и никогда, может, этого не объясню, согласишься ты выйти за меня замуж?
– Не люблю на веру принимать людей, – ответила она. – Даже и тебя. И вообще не отличаюсь большой доверчивостью.
– Повторяю свой вопрос.
– Сейчас на него не отвечу, – вызывающе рассмеялась она.
– А когда?
– Может, сегодня вечером. А может, через неделю, через месяц…
Дальше мы шли молча. При переходе улицы нас едва не задавил «мерседес», который пытался проскочить на красный свет. И вдруг я почувствовал, что сыт Римом по горло.
– Кстати, – спросила Эвелин, – кто такая Пэт?
– Откуда тебе известно про Пэт?
– Я знаю, что у тебя есть знакомая девушка по имени «Пэт.
– А почему ты думаешь, что Пэт – это девушка? Это мужское имя. – Застигнутый врасплох, я пытался выиграть время, чтобы выкрутиться. Я никогда не упоминал Пэт в разговорах с Эвелин.
– В твоих устах оно так не звучало, – не отставала Эвелин.
– А когда я называл его?
– Дважды. Сегодня ночью, во сне. Ты обращался явно не к мужчине.
– А-аа, – протянул я.
– Вот именно. Так кто она?
– Одна девушка, с которой я знаком. Был знаком, – поправился я.
– Похоже, вы были знакомы очень близко.
– В самом деле?
– Еще как.
– Ну и что?
– Ты был влюблен в нее?
– Пожалуй, да. Какое-то время.
– Когда вы виделись в последний раз?
– Три года назад.
– Тем не менее ты по-прежнему зовешь ее во сне.
– Извини, – просто сказал я.
– Ты ее до сих пор любишь? Я задумался. Потом ответил:
– Не знаю.
– Может, тебе надо встретиться с ней и разобраться в своих чувствах?
– Да, – сказал я.