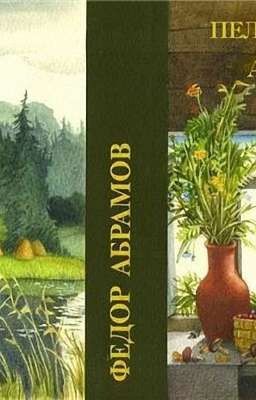Часть 3
– Сватья, сватьюшка! Ух, как хорошо! А я ведь к тебе собралась. Где, говорю, у вас
Прокопьевна? Куды вы ее подевали?
Пелагея готова была разорвать свою сватьюшку, сестру жены двоюродного брата из соседней
деревни, – так уж не к месту да не ко времени была эта встреча! А заговорила, конечно, по-
другому, так, как будто и человека для ее дороже на свете нет, чем эта краснорожая сука с
хмельными глазами.
– Здорово, здорово, сватьюшка! – сказала нараспев Пелагея да еще и поклонилась: вот мы как
свою родню почитаем. – На привете да на памяти спасибо, Анна Матвеевна, а худо, видно, к
нам собиралась. Не за горами, не за морями живем. За ночь-то, думаю, всяко можно попасть…
В общем, сказала все то, что положено сказать в этом случае, и даже больше, потому что та
дура пьяная кинулась обнимать да целовать ее, а потом потащила в круг.
– Посмотри, посмотри на свою дочерь! Я посмотрела – глазам легче стало. Вот какая она у тебя
красавица!
Так Пелагея и въехала в молодежный круг в обнимку со сватьей-пьяницей. Не закричишь:
"Отстань, тварь пьяная", когда народ кругом. А через минуту она сама, по своей доброй воле,
обнимала сватью. Не думала, не думала, что у нее в таком почете Алька.
Антонида Петровна с высоким образованием, а где?
На закрайке. С родным братцем топчется. А другая горожаха, председателя лесхимартели
дочь, тоже ученая, та и вовсе не при деле – на выставке, а попросту сказать, со стороны
смотрит.
А ее-то Алька! В самой середке, на самом верховище.
Да с кем? А с самим секретарем комсомольским из заречья.
Какая еще характеристика требуется? Разве станет партейный человек себя марать – с худой
девкой танцевать?
Но и это не все. Только Савватеев отвел Альку к девкам – офицер подошел. Тот самый, которого
они видели давеча из окошек у Петра Ивановича. Молодой, красивый, рослый. Идет-
выгибается, как лоза. А уж погоны на плечах горят – за десять шагов жарко.
– Солнышко, солнышко на кругу взошло!
Ну, может, и не солнышко, может, и через край хватила сватья, а не одна она, Пелагея,
засмотрелась. Вся публика стоячая смотрела. И даже молодежь: три раза Алька с офицером
круг обошли, только тогда вышли еще две пары.
А Антонида Петровна так и осталась на бобах. Стоит в сторонке да ноготки крашеные кусает. И
вот как все одно к одному – Петр Иванович подошел. Не усидел в гостях, захотелось и ему на
свою дочь посмотреть.
Смотри, смотри, Петр Иванович, на своего ученого воробья (чистый воробей, особенно когда
из-за толстых очков глазки кверху поднимает), не все тебе торжествовать. А я буду на свою
дочь смотреть.
И Пелагея смотрела. Смотрела, высоко подняв голову. И как-то сами собой отпали все заботы и
недавние тревоги. Ее дочь! Ее кровинушка верх берет!
Танец кончился быстро – короткий век у радости, – и Пелагея знаком подозвала к себе Альку:
Петр Иванович стоит рядом с дочерью, а ей нельзя?
Алька подбежала скоком – глупа еще, чтобы девичьей поступью, но такая счастливая! Как если
бы автомобиль выиграла по лотерейному билету.
А может, и выиграла, подумала Пелагея и незаметно для других скосила глаза на круг: где
офицер? Что делает?
Офицер шел к ним. Шел не спеша, вразвалку и слегка обмахивая разогретое лицо белым
носовым платком.
– Аля, познакомьте меня с вашей мамой.
Пелагея протянутую руку пожала, а чтобы сказать нужное слово – растерялась. Замолола что-
то насчет жары.
Жарко, мол, нынче. И работать жарко, и веселиться жарко.
– Ничего, – сказал офицер, – мы свою программу выполним. Верно, Аля?
Алька разудало тряхнула головой: какое, мол, может быть сомнение. Выполним!
Пелагея еще не успела собраться с мыслями: как ей посмотреть на Алькину выходку? не
пожурить ли для ее же пользы? – подошла Антонида Петровна.
– Аля, Владислав Сергеевич, не хотите ли чаю? У нас самовар готов…
Пелагее показалось чудным: с каких это пор у Петра Ивановича по ночам самовары стали
греть? А потом сообразила: да ведь это Петр Иванович ради своей дочери старается.
– Нет, нет, Антонида Петровна, – быстро ответила за дочь Пелагея. – К нам милости просим. У
нас гостья не поена, не кормлена – вот где пригодилась сватьюшка! – Алевтинка, чего стоишь?
Приглашай молодежь. Будь хозяйкой.
Все это Пелагея говорила с улыбкой, а у самой земля качалась под ногами: что задумала? На
кого руку подняла? И до самой школы не смела оглянуться назад.
Шла и затылком чувствовала разгневанный взгляд Петра Ивановича.
Раньше, до войны, дома в деревне стояли что солдаты в строю – плотно, почти впритык друг к
другу, по одной линии. А чтобы при доме была баня, колодец, огород – этого и в помине не
было. Все наособицу: дома домами, колодцы колодцами, бани банями – на задах, у черта на
куличках.
Пелагея Амосова первой поломала этот порядок. Она первая завела усадьбу при доме. Баня,
погреб, колодец и огород. Все в одном месте, все под рукой. И под огородом. Чтобы ни пеший,
ни конный, никакая скотина не могла зайти к ней без спроса.
Позже, вслед за Пелагеей, потянулись и другие, и сейчас редкий дом не огорожен.
Но сколько она вынесла понапраслины! "Кулачиха! Деревню растоптала! Дом родительский
разорила!.." Ругали все. Ругали чужие. Ругала Павлова родня. И даже в Москве ругали. Да, да,
нашелся один любитель чужих домов из столицы. Пенял, чуть не плакал: дескать, какую красу
деревянную загубили. Особенно насчет крыльца двускатного разорялся. Что и говорить,
крыльцо у старого дома было красивое, это и Пелагея понимала. На точеных столбах. С
резьбой. Да ведь зимой с этим красивым крыльцом мука мученская: и воду, и дрова надо как в
гору таскать. А в метель, в непогодь? Суметы снежные накладет, да так, что и ворота не
откроешь.
Владислав Сергеевич, даром что молодой, сразу оценил усадьбу.
– Шикарно, шикарно живем! – сказал он, когда они шумной гурьбой подошли к дому.
Да, есть на что взглянуть. Углы у передка обшиты тесом, покрашены желтой краской, крыша
новая, шиферная (больше двухсот рублей стоила), крылечко по-городскому, стеклом заделано –
да с таким домком и в городе не последним человеком будешь. А уж привольно-то! Ширь-то
кругом!
– Шикарно, шикарно живем! – сказал он, когда они шумной гурьбой подошли к дому.
Да, есть на что взглянуть. Углы у передка обшиты тесом, покрашены желтой краской, крыша
новая, шиферная (больше двухсот рублей стоила), крылечко по-городскому, стеклом заделано –
да с таким домком и в городе не последним человеком будешь. А уж привольно-то! Ширь-то
кругом!
В сельсовете, когда Пелагея попросила пустырь за старым домом, ее на смех подняли: чудишь,
баба. Даже Петр Иванович, при всем своем уме, усами заподергивал – не сумел на пять лет
вперед заглянуть. А она заглянула.
Разглядела на месте пустыря лужок с душистым сеном под окошками. И теперь кто не
завидует ей в деревне!
За рекой всходило солнце, когда она с гостями потлив на усадьбу. И, боже, что тут поделалось!
Все засверкало, заиграло вокруг, потом, как в волшебной сказке, все стало алым: и лица, и
крыша, и белые занавески в окнах.
Владислав Сергеевич то ли по недомыслию – городской все-таки человек, то ли ради шутки
схватил у крыльца железную лопату и начал загребать сено.
Гам, визг поднялся страшный. А тут еще жару подбросила сватья. Сватья зачерпнула ковшом
воды в кадке у крыльца, подбежала к Владиславу Сергеевичу: водой их, водой! И через минуту-
две ни одного человека сухого не было. Все были мокры. И сено было мокро. Его сваляли да
вытоптали хуже лошадей. Но ничего ей не было сейчас жалко. Душа расходилась – сама
смеялась пуще всех.
Смеялась… А в это время совсем рядом, за стеной в избе, без памяти лежал Павел, и смерть
ходила вокруг него…
Нет, нет! Она не снимала с себя вины. Виновата. Нельзя было оставлять больного мужа без
присмотра. Нельзя ходить по гулянкам да офицеров в гости зазывать, когда муж хворый. Ну, а
с другой стороны, спрашивала себя Пелагея потом, много позже, что было бы тогда с Павлом,
не окажись в ту минуту рядом Владислава Сергеевича?
Алька перепугалась насмерть, у самой у ней ум отшибло, фельдшер пьяный, без задних ног
лежит у себя на повети…
А Владислав Сергеевич будто только тем всю жизнь и занимался, что помогал таким
бедолагам, как они.
– Петренко! Тащи фельдшера к колодцу и до тех пор полощи, пока он, сукин сын, в себя не
придет. Федоров! Бери машину и на всех парах в район за доктором. Живо!
А кроме того, он и сам не сидел сложа руки, пока не подоспела к Павлу медицина. Ворот у
рубахи расстегнул, впустил в избу свежий воздух, все окна приказал раскрыть и еще капли
Павлу в рот влил – да разве бы она, Пелагея, догадалась до всего этого?
Нет, нет, хоть и судачили, перемывали ей потом бабы косточки за этого офицера, а надо правду
говорить: тогда, в то утро, если кто и спас от смерти Павла, так это он, Владислав Сергеевич.
* * *
Нынешняя болезнь Павла поначалу казалась Пелагее погибелью, крахом всей ее жизни.
Немыслимо, невозможно одной управиться и дома, и за рекой. Надо прощаться с пекарней. А
без пекарни какая жизнь? Залезай, как улитка, в свою скорлупу на задворках да там и
захорони себя заживо.
Но, слава богу, пекарню она удержала за собой. Выручила Анисья. Она с Алькой встала к печи.
Быстрее пошел на поправку, чем раньше думала, и Павел. Попервости районный доктор, как
обухом, оглушил: "Паралич. Не видать тебе больше мужа на своих ногах…" А Павел поднялся –
на пятнадцатый день в постели сел, а еще через три дня, опираясь на жену, вышел на крыльцо.
В общем, устояли на этот раз Амосовы.
Днем и ночью две недели подряд сидела Пелагея возле больного мужа. Да вдобавок еще уйму
всяких дел переделала: окучила картошку, лужок у Мани-маленькой выкосила… А корова и
поросенок? А вода и дрова? А стирка? Это ведь тоже не сердобольные соседушки за нее делали.
А вот какой ужас эта пекарня – отдохнула! Как в отпуску побывала. Во всяком случае, так ей
казалось, когда она после трехнедельного перерыва отправилась за реку.
Все внове было ей в тот день. И то, что она идет на пекарню среди бела дня, порожняком. Идет
не спеша, любуясь ясным, погожим деньком, и то, что в поле пахнет уже не сеном, а молодым
наливающимся хлебом. И внове ей была она сама – такая бодрая и легкая на ногу. Как будто
добрый десяток лет сбросила. Единственное, что время от времени перекрывало ей радость,
были сетования Анисьи на Альку. Анисья, возвращаясь с пекарни, чуть ли не каждый вечер
заводила разговор об офицере. Зачастил, мол, в день не один раз заходит на пекарню.
Нехорошо.
– Да что тут нехорошего-то? – возражала ей Пелагея. – Он ведь заказчик наш. С нашей пекарни
хлеб для своих солдат берет. Почему и не зайти.
– Да не для заказа он ходит. Алька у него на уме.
– Ну уж, тетушка, осудила племянницу. Не осуждай, не осуждай, Онисья Захаровна. Чужие
люди осудят. А хоть и пошалят немного, дак на то и молодые годы дадены. Мы с тобой свое
отшалили…
– Все равно не дело это – с сеном огонь рядом, – твердила свое Анисья.
И вот в конце концов Пелагея собралась на пекарню, решила ОБОИМИ глазами посмотреть,
из-за чего разоряется тетка.
Река встретила Пелагею ласково, по-матерински. Оводов уже не было – отошла пора. Зато
ласточек-береговушек было полно. Низко, над самой водой резвились, посвистывая.
Остановившись на утоптанной тропке возле травяного увала, Пелагея с удовольствием
наблюдала за их игрой, потом торопливо потрусила к спуску: у нее появилось какое-то озорное,
совсем не по возрасту желание сбросить с ног ботинки и побродить в теплой воде возле берега,
подошвами голых ног поласкать песчаный накат у дресвяного мыска.
Однако вскоре она увидела Антониду Петровну, или Тонечку, как Пелагея привыкла называть
про себя дочь Петра Ивановича, и к реке сошла своим обычным шагом.
Тонечка загорала. На подстилке. С книжкой в руках.
Подстилка нарядная – большая зеленая шаль с кистями, которую зимой носила мать, – книжка,
как огонь, в руках красная. А вот сама Антонида Петровна будто из войны вынырнула.
Худенькая, тоненькая и белая-белая, как сметана, – не льнет солнце. Правда, глаза у Тонечки
были красивые. Тут уж ничего не скажешь. Ангельские глаза. Чище неба всякого. Но сейчас и
они были спрятаны под темными очками.
– Что, Антонида Петровна, – спросила Пелагея, – все красу наводишь? Солнышко на себя
имашь? Имай, имай. По науке жить надо. Только что уж одна? На картинках-то барышни все с
кавалерами загорают…
Ужалила – и пожалела. Обоих детей у Петра Ивановича легко обидеть. И Антониду, и Сережу.
Бог знает, в кого они – беззащитные какие-то, безответные.
Стараясь загладить свою вину, Пелагея уже искренне, от всего сердца предложила Тонечке
поехать за реку.
– Поедем, поедем, Антонида Петровна! Не пожалеешь. Я чаем тебя напою, не простым, с
калачами круписчатыми – знаешь, как в песнях-то старинных поется? А загорать на той
стороне еще лучше.
– Нет, нет, спасибо… Мне домой надо… – скороговоркой пролепетала Тонечка.
Пелагея вздохнула и – что делать – пошла к лодкам.
* * *
Все, все было на месте – и сама пекарня с большими раскрытыми окнами, и сосны разлапистые
в белых затесах понизу, и колодец с воротом, и старая, местами обвалившаяся изгородь.
А она поднялась по тропинке к этой изгороди да почуяла теплый хлебный дух, какой бывает
только возле пекарни, и расплакалась. Да так расплакалась, что шагу ступить не может.
У крыльца солдаты – дрова пилят – остановились:
"Что это, тетка, с тобой?" А разве тетка знает, что с ней?
Всю жизнь думала: каторга, жернов каменный на шее – вот что такое эта пекарня. А
оказывается, без этой каторги да без этого жернова ей и дышать нечем.
И еще больше удивились солдаты, когда только что в голос рыдавшая тетка вдруг с улыбкой
прострочила мимо них и без передышки взбежала на крыльцо.
А в пекарне – тоже небывалое с ней дело – не с чужим человеком, не с офицером сперва
поздоровалась, а с печью, с квашней, со своими румянощекими ребятками – так Пелагея в
добрый час называла только что вынутые из печи хлебы, – все так и обняла глазами.
И только после этого кивнула Владиславу Сергеевичу.
Владислав Сергеевич, всерьез ли, для собственной ли забавы, стоял у печи с деревянной
лопатой. В трусах.
Босиком. Но это еще ничего, с этим Пелагея могла примириться: городской человек, а сейчас
и мужики в деревне запросто без штанов ходят. Но Алька-то, Алька-то бесстыдница! Тоже пуп
напоказ выставила.
– Ты ошалела тут, срамница! – вспылила Пелагея. – Давай уж и это долой! – Она кивнула на
Алькин лифчик и трусики из пестрого ситчика.
– Жарко ведь, – огрызнулась Алька.
– А жарко не жарко, да не забывайся: ты девушка!
Еще больше вознегодовала Пелагея, когда присмотрелась к пекарне. Попервости-то, ошалев от
радости, она ничего не заметила: ни трех прогорелых противней, брошенных в угол за ведро с
помоями (опять начет от бухгалтерии), ни забусевшей стены возле мучного ларя (сразу видно,
что без нее ни разу не протирали), ни обтрепанного веника у дверей (какая польза от такого?).
Но самый-то большой непорядок – хлебы.
Одна, другая, третья… Двенадцать подряд буханок «мореных» и квелых, неизвестно где и
печеных – не то в печи, не то на солнышке.
Но эти буханки еще куда ни шло: человек печет – не машина, и как совсем брака избежать? Да
ведь и остальной хлеб у нее сиротой смотрит.
Пелагея заглянула в миску, из которой она обычно смазывала верхнюю корочку только что
вынутой из печи буханки. Смазывала постным маслом на сахаре – уж на это не скупилась.
Тогда буханку любо в руки взять. Смеется да ластится. Сама в рот просится. А эта чем
смазывала? Пелагея метнула суровый взгляд в сторону Альки.
Простой водой?!
– Да разве ты первый раз на пекарне? – стала она отчитывать дочь. – Не видала, как матерь
делает?
– Ладно, – отмахнулась Алька, – исть захотят – слопают.
– Да ведь сегодня слопают, завтра слопают, а послезавтра и пекариху взашей!
– Испужали… Нашла чем стращать…
Вот и поговори с ней, с кобылой. На все у ней ответ, на все отговорка.
Нет, хоть и сказано у людей: какова березка, такова и отростка, – а не ейный отросток эта
девка. Она, Пелагея, разве посмела бы так ответить своей матери? Да покойница прибила бы
ее. А людям, тем и вовсе на глаза не показывайся. Ославят так, что и замуж никто не возьмет.
Раньше ведь первым делом не на рожу смотрели, а какова у тебя спина да каковы руки.
А у Альки единственная работа, которую она в охотку делает, это вертеться перед зеркалом да
красу на себя наводить. Тут ее никакая усталь не берет.
Война у Пелагеи с дочерью из-за работы идет давно, считай, с того времени, как Алька к
нарядам потянулась, и сейчас, в эту минуту, Пелагея так распалилась, что, кажется, не будь
рядом чужого человека, лопату бы обломала об нее.
Все же она сорвала свою злость.
Алька нехотя, выламываясь – нарочно так делала, чтобы позлить мать, стала натягивать на
себя платье-халат.
И вот тут-то и подал свой голос до сих пор помалкивавший офицер.
– Мамаша не бывала в городе? – спросил он учтиво. – А там, между прочим, половина
населения сейчас лежит у реки в таком же наряде, как Аля. И представьте, никто за это не
наказывает.
– Дак ведь то в городе, Владислав Сергеевич, а то у нас… к нам городское житье
неприменимо…
Офицер легонько пожал плечами (не мое, мол, дело указывать, не я здесь хозяин), но тоже
привел себя в приличный вид – надел брюки.
Алька дулась. Забралась с коленями на табуретку, лицо в раскрытое окно, а матери – зад.
Любуйся!
Пелагея быстро замыла забусевшую стену у мучного ларя, прошлась новым мокрым веником
по пекарне – сразу пол заблестел, – прибрала на рабочем столе и вдруг подумала, а не зря ли
она напустилась на девку. Девка худо-хорошо целыми днями работает. В жаре. В духоте.
А главное, Пелагее сейчас страшно неловко было перед офицером – он как раз в то время
вернулся с улицы.
Офицер-то чем провинился перед ней? Тем, что Павла от верной смерти спас? Или, может, тем,
что сейчас вот дрова им помогает распилить?
Пелагея живехонько преобразилась.
– Алевтинка, – сказала она ласковым голосом и улыбнулась, – ты хоть чаем-то напоила своего
помощника?
– Когда чаи-то распивать? Не без дела сижу…
– Да с делом ли, без дела, а помощников-то надо напоить-накормить. Ох, Алька, Алька!
Захотела нонешних работников на колодезном пиве удержать…. – Пелагея еще приветливее,
еще задушевнее улыбнулась, потом разом выложила карты: – Ставь самовар, а я за живой
водой сбегаю.
* * *
Пелагея любила чаевничать на пекарне. Самые это приятные минуты в ее жизни были, когда
она, вынув из печи хлебы, садилась за самовар. Не за чайник – за самовар. Чтобы в самое
темное время – зимой – солнце на столе было. И чтобы музыка самоварная играла.
Бывали у ней на пекарне и гости. Особенно раньше.
Кто только не забегал к ней тогда! Но – что говорить – такого гостя, по душе да по сердцу, как
нынешний, у нее, пожалуй, еще не было.
Красавец. Образованный. И умен как бес – через стену все видит.
Пелагея не поскупилась – две бутылки белого купила. Думала, пускай и у солдат праздник
будет. Заслужили: целую кучу вровень с крыльцом дров накололи. Да потом и то взять:
начальнику-то ставь, да и помощников не забывай. Потому как известно – через помощников
ведут двери к начальнику.
В общем, сунула стриженым ребятам бутылку. На ходу сунула, – никто не видал.
А вот какой у него глаз – увидел.
Только вошла она в пекарню с покупками, а он уж ей пальцем:
– А вот это, мамаша, непорядок! Солдат у меня не спаивать.
Сказал в шутку, с улыбочкой, но так, что запомнишь – в другой раз не сунешься.
Пелагея быстро захмелела. Не от вина – две неполные рюмки за компанию выпила. Захмелела
от разговора.
Превыше всех благ на свете ценила она умное слово.
Потому что хоть и малограмотная была, а понимала, в какой век живет. Видела, чем, к
примеру, всю жизнь берет Петр Иванович.
Но рядом с этим быстроглазым шельмой – так любовно окрестила про себя Пелагея Владика
(сам настоял, чтобы по имени звала) – и Петр Иванович не колокол, а пустая бочка. И все-то он
знает, все видел, везде бывал, а если уж словом начнет играть – заслушаешься.
К примеру, что такое та же самая «мамаша», которой он постоянно величал ее?
А самое обыкновенное слово, ежели разобраться. Не лучше, не хуже других. Родная дочь так
тебя кличет, потому что родная дочь, а чужой человек ежели назовет – по вежливости, от
хорошего воспитания. А ведь этот, когда тебя мамашей называет, сердце от радости в груди
скачет. Тут тебе и почтение, и уважение, и ласка, и как бы намек. Намек на будущее. Дескать,
чего в жизни не бывает, может, и взаправду еще придется мамашей называть.
Неплохо, неплохо бы иметь такого сыночка, думала Пелагея и уж со своей стороны маслила и
кадила, как могла.
Но Алька… Что с Алькой? Она-то о чем думает?
Конечно, умных да хитрых речей от нее никто не требовал – это дается с годами, да и то не
каждому, – да ведь девушка, не только речами берет. А глаз? А губы на что?
Или то же платье взять. Пелагею из себя выводил мятый, линялый халатишко, который
натянула на себя Алька. Как можно – в том же самом тряпье, в котором матерь возле печи
возится! Или, может, нищие они?
Платья приличного не найдется? Она подавала дочери знаки – глазами, пальцами:
переоденься, не срамись, а то хоть и вовсе растелишься. Чего уж париться, раз недавно еще
расхаживала в чем мать родила.
Не послушалась. Уперлась, как петух. Просто на дыбы встала. Вот какой характер у девки.
Но и это не все. Самую-то неприкрытую дурость Алька выказала, когда Пелагея стала
разговаривать с Владиком о его родителях. Простой разговор. Каждому по силам пряжа. И
Пелагее думалось, что и Алька к ним сбоку пристанет. А она что сделала? А она в это самое
время начала зевать. Просто подавилась зевотой. А потом и того хуже: вскочила вдруг на ноги,
халат долой да, ни слова не сказав, на реку. Разговаривай, беседуй матерь с кавалером, а мне
некогда. Я купаться полетела. Пелагея от стыда за дочь глаз не решалась поднять на офицера.
Но плохо же она, оказывается, знала нынешнюю молодежь! Владик – и минуты не прошло –
сам вылетел вслед за Алькой. И не дверями вылетел, а окошком – только ноги взвились над
подоконником. Про все позабыл. Про мать, про отца…
И Пелагея уже не сердилась на дочь. Разве на кобылку молодую, когда та лягнет тебя, будешь
долго сердиться? Ну, поворчишь, ну, шлепнешь даже, а через минуту-другую уже любуешься:
бежит, ногами перебирает и солнце в боку несет.
И Пелагея сейчас, с тихой улыбкой глядя в раскрытое окно, тоже любовалась дочерью.
Красивая у нее дочь.
Благословлять, а не ругать надо такую дочь. И ежели им, Амосовым, думала Пелагея, суждено
когда-нибудь по-настоящему выйти в люди, то только через Альку. Через ее красу. Через это
золото норовистое, за которым сейчас гнался офицер.
* * *
Пелагея за этот месяц помолодела и душой, и телом.
Нет, нет, не отросли заново волосы, не налились щеки румянцем, а чувствовала себя так, будто
молодость вернулась к ней. Будто сама она влюблена.
Да, обнималась и целовалась с Владиком Алька (как уж не целовалась с таким молодцом, раз
для своих, деревенских, рот полым держала), а волновалась-то она, Пелагея. Так волновалась,
как не волновалась, когда сама в невестах ходила. Да и какие волненья тогда могли быть?
Павел хоть и из хорошей семьи (по старым временам у Амосовых первое житье по деревне
считалось), а робок был. Сразу, как овечушка, отдался ей в руки.
А этот вихрь, огонь – того и гляди руки обожжешь, и что у него на уме – тоже не прочитаешь.
"Мамаша, мамаша…" – на это не скупится, сено помог с пожни вывезти на военной машине, а
карты свои не открывает. Ни слова насчет дальнейшей жизни.
Конечно, Альке спешить некуда – другие в это время еще в куклы играют. Да разговоры. Кому
это нужно, чтобы на каждом углу трепали девкино имя? А потом – ученье на носу. Не думает
же он, что и со школьницей гулять будет?
Конечно, Альке спешить некуда – другие в это время еще в куклы играют. Да разговоры. Кому
это нужно, чтобы на каждом углу трепали девкино имя? А потом – ученье на носу. Не думает
же он, что и со школьницей гулять будет?
В общем, думала-думала Пелагея и надумала – созвать у себя молодежный вечер. Уж там-то, на
этом вечере, она сумеет выведать, что у него на уме. Молодежные вечера нынче в деревне
были в моде. Их устраивали и по случаю проводов сына в армию, и по случаю окончания
детьми средней школы, а то и просто так, без всякого случая.
Всех лучше да памятнее вечера были, конечно, у Петра Ивановича – там уж всякой всячины
было вдоволь: и вина, и еды, и музыки. А Пелагея на этот раз решила и Петра Ивановича
переплюнуть.
Слыхано ли где, чтобы не было вина белого на столе и чтобы гости были пьяны? А у нее так
будет. Пять бутылок коньяку выставит – деньги немалые, коньяк почти в полтора раза дороже
белого вина, да чего жадничать?
Две-три буханки лишних скормить борову – вот и покрыта разница, зато будет разговоров у
людей.
Постаралась Пелагея и насчет закуски. Рыба белая, студень, мясо – это уж ясно. Без этого по
нынешним временам не стол.
А как насчет ягодок, Петр Иванович? Раздобыл бы ты, к примеру, морошки, когда ее еще на
цвету убило холодом? А она раздобыла. За сорок верст Маню-маленькую сгоняла, и та
принесла небольшой туесок, выпросила для больного у своей напарницы по монастырю – та,
бывало, в любое лето должна была насобирать морошки для архиерея.
О другой ягоде-малине – Пелагея позаботилась сама. Тоже и на малину неурожай в этом году –
по угорам поблизости все выгорело, пришлось ей тащиться на выломки, за Ипатовы гари. И ох
же на какую ягоду она напала! Крупную, сочную, нетронутую – сплошными зарослями, как
одеяла красные по ручью развешаны.
Она быстро надоила эмалированное ведро, потом – раззадорилась – загнула коробку из
бересты, да еще и коробку набрала.
Домой притащилась еле-еле – дорога семь верст, ноша в три погибели гнет, и за весь день
сухарик в ручье размочила.
– Отец, Онисья! – заговорила она с порога, через силу улыбаясь. – Ругайте меня, дуреху. Ежели
сказать, куда ходила, не поверите…
Ее удивило молчание Анисьи, праздно, без дела сидевшей у стола с опущенной головой. Потом
она разглядела мужа. Павел лежал с закрытыми глазами, и попервости она подумала: спит. Но он не спал. Дышал тяжело, со всхлипами, лицо потное, и на сердце мокрая тряпица.