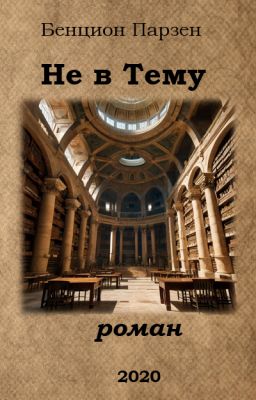Глава 1
Государство Израиль, наши дни
Меня зовут Борис Орлов, мне 42 года, и моя жизнь совершенно разрушена. Я сижу в опустевшей комнате, где из мебели остались лишь продавленный диван, принесенный несколько лет назад с помойки, и обшарпанный журнальный столик. И да, у входной двери, на полу — там, где я их и оставил — стоят две стопки новеньких, пахнущих типографской краской книг. Это мой роман. Именно он и разрушил мою жизнь, но, как оказалось, совершенно напрасно: он никому не нужен. Точно так же, как и его автор.
Я смотрю издалека на светлую обложку с незатейливым дизайном (затейливый обошелся бы намного дороже), на три слова названия романа: "Ясон, сын плотника". Я закрываю глаза и вспоминаю тот день, когда начал его писать. Вернее, я помню не сам день, а тот момент, когда картинка, вдруг появившаяся передо мной, запросилась на бумагу. Даже не картинка, нет — целый фильм: йодистый запах моря, скрип натруженного дерева мачты, хлопанье грубого холста паруса, мелкие соленые брызги в лицо...
И вот я снова погружаюсь в ту, вторую, жизнь, которой живу последние пару лет...
Римская империя, Египет, город Александрия
Год 50 AD (от Рождества Христова, согласно Юлианскому календарю)
Год DCCCIII (803) a.u.c. (от основания Рима, согласно римскому календарю)
Год 3810 (от сотворения мира, согласно еврейскому календарю)
Небольшой караван из четырех судов медленно входил в гавань, оставляя по правому борту громаду Фаросского маяка. Белоснежный храм Исиды сверкал на солнце своими колоннами на крутом взлобье острова, но Йосэф не смотрел на него — его взгляд был устремлен вдаль, туда, где на расстоянии двадцати примерно стадий от ныряющего в волнах носа их корабля, из-за леса мачт и парусов Малого порта вставал Великий Город: многоэтажные каменные дома с плоскими или двускатными крышами, крытыми красно-коричневой черепицей, колоннады дворцов и храмов, зеленые облака садов, и над всем этим великолепием — взмывшие в небо четырехгранные стрелы египетских обелисков с парящими крылатыми статуями наверху... Только сейчас, глядя на приближающуюся Александрию, Йосэф поверил до конца в то, что она существует, и что все, что рассказывали ему купцы, чьи суда он ремонтировал в Яффском порту — правда. Правдой оказался маяк на входе в гавань — высоты невероятной, много выше, чем даже Храм в Ерушалаиме, куда Йосэф ходил каждый Песах, где бы ни застал его месяц нисан. Правдой оказались царские дворцы — а эти великолепные здания были, несомненно, дворцами — и даже они были больше все того же Храма. И правдой оказался огромный, несмотря на свое название, Малый порт Александрии, конечная цель их путешествия.
Матросы уже швартовали корабли каравана, пришедшего от берегов Иудеи — три из них были доверху загружены товаром, четвертый же — только наполовину. Оставшееся место (а было его немного) занимали три семьи: эмигранты, беженцы из захолустной провинции Империи, которым хватило решимости и скудных средств перебраться в Великий Город, чтобы начать в нем новую жизнь. Приезжие с помощью матросов вытаскивали на мокрые камни пристани пожитки и детей — в двух семьях было по трое малышей, и только жена Йосэфа, Мирьям, прижимала к груди самое дорогое, что у них было — годовалого Еошуа. Подбежавшие грузчики быстро освобождали корабли от тюков с товарами — жизнь в порту кипела, время стоянки у пристани было ограничено, на рейде ожидали своей очереди другие караваны. На какое-то время про приезжих забыли, и они столпились вокруг своих узлов, прижимая к себе детей и изредка переговариваясь по-арамейски. Отвыкнув от твердой земли под ногами, они слегка покачивались, даже стоя на месте. Бледные лица тех, кого все эти долгие дни путешествия мучила морская болезнь, постепенно приобретали нормальный цвет. На них никто не обращал внимания, кроме небольшой толпы портовых зевак, каких было всегда полно и в Яффо, и в Азе, и в Аскалоне — во всех портах Иудеи, где приходилось работать Йосэфу, только здесь все говорили по-гречески. Йосэф немного знал этот язык, но сейчас он разобрал только слова "ксенос" (чужак) и "эбрео" (еврей).
Наконец к ним подошел портовый служащий в чистой тунике, сказал что-то на койне, поманил за собой, и вскоре все три семьи из Иудеи выстроились в небольшую очередь к столу таможенного чиновника, стоявшему под навесом. Перед чиновником лежали свитки, коробочки с каламосами, стояли деревянные баночки с разноцветными чернилами. Узнав, откуда прибыли беженцы, чиновник заговорил с ними на койне, иногда вставляя арамейские слова.
— Кфар-Нахум? — переспросил он Йосефа, ответившего на вопрос о месте проживания. — Не слышал. Ке-фар-но-кон — так и запишем, так понятнее. Следующий!
Зарегистрировав приезжих, чиновник быстро нацарапал каламосом несколько слов на обрывке папируса, с силой вдавил в него перстень-печать с мизинца левой руки (на каждой руке у чиновника красовалось по три печатки — видимо, для документов разного характера и разной степени важности), затем жестом подозвал к себе Йосэфа.
— Отдашь это помощнику этнарха, он скоро прибудет, пока же ждите здесь. Добро пожаловать в Александрию! — таможенник, видимо, решил, что в этой группе Йосэф является старшим, поскольку в бороде у того уже заметно пробивалась седина. Между тем, Йосэфу было всего 28 лет — возраст, конечно, уже не юношеский, но все еще изрядно отдаленный от старости.
Наконец приезжие услышали первую за все утро фразу на родном языке: "Шалом, друзья!" — так обратился к ним помощник этнарха (главы еврейской общины города), полноватый юноша по имени Доситеос, с хорошим еврейским лицом и шапкой курчавых черных волос на голове. Он бегло говорил на правильном арамейском, но с заметным акцентом, и порой в его речи мелькали греческие слова. Доситеос сообщил, что на выходе из порта ждет повозка, которая отвезет их в гостевой дом при Большой синагоге, где они смогут разместиться на первое время и отдохнуть. Завтра, после утренней молитвы, этнарх с удовольствием побеседует со всеми тремя мужчинами, послушает новости из Эрец-Исраэль и расскажет им про жизнь в Александрии.
Крытая повозка, вместившая все три семьи и их вещи, резво катилась на восток, в сторону Ворот Солнца, туда, где находился еврейский квартал города. Покрытие дороги было на удивление гладким, и повозку почти не трясло, ехать было чрезвычайно удобно. Дети уже устали и хныкали, расплакался и младенец Еошуа, и Мирьям кормила его, прикрыв грудь куском легкой ткани. Йосэф придерживал ее за талию, другой рукой держась за край повозки и глядя в проем, в котором убегала назад солнечная улица Великого Города (потом Йосэф узнает, что у нее есть название — Канопик): широкая, словно поле, обрамленная тротуарами, по которым торопливо шли люди в разных одеждах и даже разного цвета кожи, будто весь город был огромным портом, где чужестранцев с их удивительной внешностью и непонятными языками больше, чем привычных глазу и уху жителей страны. Здесь, в Александрии, все было как-то не так. Йосэф навсегда запомнил эту яркую картинку: вид главной улицы из повозки, едущей из Малого порта, первую картинку его новой жизни. Его самого и его маленькой, оставшейся без родни и друзей, семьи. "Шма, Исраэль", — шептал про себя Йосэф. Адонай простит ему, что он спустился в Мицраим. Это небольшая цена за то, что они смогли убежать от очередной войны и остались в живых. Все будет хорошо. Амэн.
Государство Израиль, наши дни
Удачно жениться — это очень важно, говорили мне в юности. Предел мечтаний — жениться на иностранке. Ну, или хотя бы на дочке главы какого-нибудь совместного предприятия. Тесть-бизнесмен — это вообще прекрасно, сразу гарантия достойной работы. Но главное — чтобы невеста была еврейка. В этом вопросе варианты и компромиссы исключались. А как же ты с русской девочкой в Израиль уедешь? — изумлялись мамы, бабушки и тетушки. Особо упрямым юношам из хороших, породистых семей, объясняли: ты же не хочешь, чтобы настал день, когда жена обзовет тебя жидом? На это трудно было что-либо возразить, и мы, молодые москвичи времен раннего российского капитализма, подыскивали себе подходящую пару в подходящих местах. А времена те были замечательные: наступила свобода, и многие уехали сразу, быстро и торопливо, на пустое место, будто боясь, что закроется окно возможностей — но оно не закрывалось, а наоборот, жизнь в столице кипела, и вот что интересно: чем больше евреев уезжало, тем активнее бурлила еврейская жизнь: открывались клубы, еврейские школы, курсы иврита... В московском офисе Сохнута постоянно читались различные лекции, приезжали израильтяне и американцы, хабадники и светские, и во всем это была какая-то щекочущая новизна и сознание своей особости: мы — не такие, как все, мы — евреи, и хотя мы живем здесь, в России, но есть у нас своя страна — Израиль, в которой многие из нас еще ни разу не были, но придет день — и непременно, непременно... В такой тусовке можно было быть почти совершенно уверенным, что приглянувшаяся тебе девушка — еврейка, хотя, конечно, случались и обломы: тянулись к нам и чистокровные русские (как ни странно, почти с той же целью — найти себе еврейскую пару и уехать), или, например, девушка могла оказаться вроде бы еврейкой (и по фамилии, и по внешности), но — по отцовской линии... а это никуда не годилось: мы уже были подкованы в израильских законах и знали, что такое еврейство на Святой Земле — не считается, и если хочешь, чтобы у детей в будущем не было проблем, невеста должна быть еврейкой по маме...
Вот так я и встретил Юленьку Боссарт. И вы знаете — мне еще повезло (по крайней мере, по молодости лет я полагал именно так). Еще в те годы я заметил, что в большинстве случаев девушки из хороших, проверенных в смысле происхождения семей, тех, за которых могли поручиться и Софья Абрамовна с Патриарших, и Циля Марковна с Малой Бронной (а эти рекомендации дорогого стоили!) — так вот, чаще всего такие девушки были... как бы это поделикатнее выразиться... в общем, рекомендательницы про них говорили — а какие у нее красивые глаза! Или — а какая она прекрасная хозяйка! И уже из этих слов становилось понятно: девушку вам сватают — страшненькую. И ведь и сватались, и женились, потому что — а куда деваться? Не хватало на всех дщерей Моисеевых с копной непослушных кудрявых волос и пышными персями, с глазами с поволокой и ноги чьи подобны ливанским кедрам... Много позже, уже здесь, в Израиле, в образе лысеющего толстяка, чей личный счет упрямо катился к сороковке, ослеплен я был разнообразием типажей того, что называется "еврейская девушка", и какими же красотками виделись почти все они мне, вышедшему в тираж и не имеющему ни малейших шансов не столько даже по причине возраста, сколько по слабости языка и шаткости эмигрантского положения! Да они и на самом деле были таковыми: любых оттенков кожи, от белого у европеек до шоколадного у эфиопок, с непослушными кудрявыми прическами — здесь прямой волос считается экзотикой, и даже в салонах вместо завивки — распрямление. А эти славянско-семитские типажи — голубоглазые блондинки с точеными фигурками и лицами боттичеллевских мадонн! Смотришь на такую — и что-то сжимается в груди... или внизу живота... или, наоборот, распрямляется... В общем, независимые, открытые, веселые, фигуристые и частенько, не постесняемся отметить, изрядно обнаженные израильские девушки оказались сильным впечатлением для одинокого мужского сердца. Но увы, поезд мой уже ушел, мелькнул красным огоньком последнего вагона вдали, и все, что мне оставалось — это превращать встреченных красавиц в героинь своей незамысловатой прозы. Надеюсь, они на меня не в обиде...
Но вернемся к Юленьке. Как уже было сказано, казалось, что мне повезло — не было нужды специально нахваливать ее глаза или хозяйственные навыки, ибо девушкой она была вполне симпатичной. Имена и отчества ее родителей не оставляли сомнений в правильности выбора: по этим меткам мы всегда опознавали своих, что-то вроде ритуального обнюхивания на собачьей площадке. Мы устраивали друг друга — по крайней мере, к моему гуманитарному образованию и аспиранству в МГУ, что в те годы уже было скорее приметой неудачника, претензий поначалу не возникало (сама-то Юленька тогда училась на мехмате). Я же, по прошествии обязательного периода легкой влюбленности и очарованности предметом, заметил в ней то, что, по своей привычке словесника давать всему и всем морфологические дефиниции, назвал (про себя, разумеется) "бледной немочью" — не в физическом плане, конечно, а в ментальном, что ли... Довольно долгое время мне казалось, что это такая игра на публику, что прикидывается моя Юленька, работает под образ "прелесть, какая глупенькая". А потом, годы спустя, вдруг дошло, как обухом по голове: да нет, не работает, она и вправду такая — дура. "Дура" в данном случае — не оскорбление, а особый психо-социальный тип. Глубоко загнанные внутрь заскорузлые комплексы. Прикрытая выдрессированной вежливостью лютая злоба на всех, почти без исключения, окружающих. Мистическое знание о каких-то схемах поведения, которые прикладываются, как лекало портного, к любой ситуации: уложился в юленькины представления о прекрасном — заходи, пей-гуляй, гостем будешь. Не уложился — извини: вон бог, а вон порог. А как угадать, как? Уж на что я притерся со временем и к ней, и ко всему ее семейству манерному — и то ошибался через два раза на третий и был побиваем камнями, по древнему библейскому обычаю — камнями, конечно, виртуальными: молчанием, губами поджатыми да словами горькими, но ведь падают эти слова на тебя, что те камни...
Впрочем, это понимание пришло потом, а первые годы все было нормально, как у всех молодых пар: общность интересов, походы на выставки, концерты, первые поездки на турецкие курорты... Заводить ребенка нам в голову не приходило — я не считал возможным брать на себя такую ответственность в столь смутные времена, а Юля, к счастью, разделяла мои взгляды на этот вопрос. Примеров вокруг было достаточно: то и дело из нашего круга общения выпадали молодые пары, которые (наконец-то! поздравляем! какие вы счастливые!) рожали и исчезали в пучине хлопот и непомерных расходов, да и говорить с ними было уже особо не о чем — их заботы не интересовали нас, а наши интересы казались им инфантильными и бессмысленными: вот заведете детей, твердили они, тогда узнаете... Тем временем, жить становилось все как-то неуютнее и неуютнее, и вот, наконец, и до нашей семьи добралось извечное еврейское поветрие — ехать, надо ехать! Юлины родители уже несколько лет как жили у Средиземного моря и на ближневосточной пенсии им явно нравилось больше, чем на лужковской, да и квартирка, сдаваемая в Теплом Стане, давала прибавку.
Перед отъездом я сходил в последний раз в читальный зал Ленинки, где столько всего было и прочитано, и написано, взял какой-то никчемный журнал и просто сидел, не глядя на страницу, расфокусировав взгляд на зеленом пятне настольной лампы. Потом прошелся по коридорам филфака — с чистой наукой было давно покончено, я уже работал в школе, где со всеми столичными надбавками выходило в конце месяца не так уж плохо, но все вокруг только и говорили — уезжать надо ради детей, ради их будущего... Можно было бы заглянуть к парочке однокурсников, ставших уже преподавателями, но я не стал — хвастаться было нечем. Глупо было влачить существование школьного учителя, когда вокруг торговали нефтью, и собачья будка в поместье на Рублевке была лучше иной квартиры в пятиэтажке, но еще глупее было ехать филологом в эмиграцию.
Бородатые интеллигенты на курсах иврита трясли письмами "оттуда" и напористо рассказывали, что еще чуть-чуть — и русский признают третьим государственным языком в Израиле, и в школах его уже начинают преподавать, не говоря уже про кафедры славистики в университетах. А сколько газет на русском выходит — страшное дело! А будет — еще больше!
И что интересно — оказалось, не так уж и врали интеллигенты. Русский действительно звучал на каждом углу — государственным его, конечно, никто делать не собирался, но в любой конторе свежий репатриант мог рассчитывать на помощь на понятном ему языке. Газет было и правда навалом. И кто-то встрепанный и потный, сидя в очереди к чиновнику в министерстве абсорбции, клялся, что лично знаком с учителем, преподающим юным туземцам в старших классах великий и могучий язык Пушкина и Гоголя, и зарабатывает этот учитель — тут рассказчик зажмуривался и называл сумму, которая изрядно превосходила репатриантское пособие и была даже выше минимальной зарплаты! И слушатели цокали языками — ишь ты, как ведь повезло устроиться...
Яркое средиземноморское солнце слепило глаза, в нос бил запах цветущего жасмина, акация, непохожая на нашу, цвела фиолетовыми облаками, издалека ни дать ни взять — майская сирень! Но попривыкли постепенно глаза, прояснилась картинка — и оказалось, что за прекраснодушные фантазии платить никто не собирается. Выяснилось, что в этом новом для нас мире гуманитарии вообще не особенно в почете, даже местные. Классики современной ивритоязычной литературы преподавали в университетах и тем жили, а все, что касалось Книги — той самой, единственной — было вотчиной людей верующих, там были свои порядки и образование — свое. В общем, ни туда, ни туда за заработками ходить смысла не было. А куда же — было? Из прозы Довлатова мы знали, что в Нью-Йорке самый эмигрантский бизнес — такси. Но вокруг был отнюдь не Нью-Йорк, и знающие люди покрутили пальцем у виска: ты, брат, сначала подтверди обычные водительские права — а это несколько хороших тысяч вынь да положь, потом стаж, потом — лицензия, а это еще круче, чем права... Следующий довлатовский пункт меню — газета. Русская, разумеется. Про издание своей газеты я, конечно же, не думал (так ведь и у классика этот вариант описан не как источник заработка, а как способ удовлетворить свои интеллигентские амбиции на чужбине), а вот влиться в какой-нибудь существующий дружный коллектив и за скромную, но достойную плату жечь глаголом — это казалось хорошей идеей.
Редакция газеты "Наш Израиль", выбранная мной в качестве потенциального пристанища для мятущегося эмигрантского духа, располагалась в одной из обшарпанных тель-авивских высоток. Рядом была дверь адвокатской конторы, напротив — косметический кабинет. Главный редактор сидел в общей комнате, за гипсовой перегородкой, на вид ему было за шестьдесят, у него были седые усы и печальные глаза много повидавшего человека. (Потом я узнал, что Ефим Москович был фигурой легендарной, широко известным в узких кругах человеком: сионист-отказник, зэк со стажем, в Израиле с середины семидесятых, автор нашумевшего романа "Запретная полоса", о котором сам Солженицын сказал пару добрых слов). Редактор улыбнулся мне одними губами и огорошил вопросом:
— Скажите, вы еврей?
Я вздрогнул. Дело в том, что в московской жизни мне этот вопрос не задавали ни разу. И соплеменники, и записные юдофобы распознавали во мне аида без слов: по имени Борис, а во взрослой жизни — и по отчеству "Львович", по глазам, по форме носа... не знаю, может, просто по запаху неуловимых флюидов? Но распознавали, и не было нужды в вопросах. Не маскировала даже фамилия — видимо, напрасно дед, юноша из штетла, поступая в Красную Армию, записался вместо Ор-Лев (Свет Сердца) — Орловым. На Святой же Земле это интересовало многих, и всегда — русскоязычных.
— Да, конечно, — ответил я (вот было бы интересно ответить — нет, да еще и православненько эдак оскорбиться — мол, как вы могли подумать?! — но речь шла о работе, и мне не хотелось нарываться с порога).
— Это хорошо, — потеплел Москович, — нам как раз нужен ведущий рубрики "Заметки по еврейской истории" — уверен, вы справитесь...
— Скажите, а сколько у вас получает журналист на полную ставку? — я решил отбросить интеллигентские комплексы — в мире капитала о деньгах говорить не стыдно.
— Ставку? — брови Московича поднялись. — Так вы работу ищете?
Нет, блин, я так, погулять вышел, зло подумал я, но снова промолчал — уж больно странным было это удивление на лице потенциального работодателя. Но Ефим уже разобрался в ситуации.
— Видите ли, Борис, — мягко сказал он, — бюджет у газеты очень ограниченный, зарплату мы платим буквально нескольким сотрудникам. Большинство наших авторов сотрудничают с изданием на общественных началах. Конечно, если есть такая возможность, мы стараемся поощрять, но... Я думаю, у вас получится вести рубрику, писать еженедельный обзор, но вряд ли это может быть вашей основной работой...
— И сколько же вы платите за, допустим, обзор?
— Ну... — замялся Москович, посмотрел в какие-то бумаги, лежащие слоями на столе, и назвал ничтожную сумму. — Но вы не думайте, это ведь только поначалу... Осмотритесь, познакомитесь с людьми, со страной, да и вас узнают... Знаете, на иврите есть такое выражение — "просунуть ногу в дверь"? Это очень важно — начать, вложиться в свое будущее...
Я поблагодарил Ефима и ушел, стараясь не показывать своего разочарования. Надо ли говорить, что еще несколько подобных встреч в подобных же местах закончились точно так же?! Суммы вознаграждения, называемые редакторами, даже в переводе на рубли выглядели смешно, а я уже мог мысленно конвертировать их в продукты из ближайшего супермаркета, и получалась уж совсем какая-то жалкая кучка... И жизнь привела меня туда, куда многих и многих эмигрантов — в контору под названием "Рабсила". То есть, название у этой конкретной конторы было каким-то другим — но это было совершенно неважно, все они были одинаковые и занимались посредничеством на рынке неквалифицированного труда, а "Рабсила" — это было что-то вроде клейма: мол, от "Рабсилы" работаю — и всем про тебя все ясно. Нужна, допустим, супермаркету уборщица — но ведь не на восемь же часов в день? Тут прибрать, там подмести, ну и в конце дня все вылизать, понятное дело... Вот и заказывает супер у "Рабсилы" человечка — как бы на частичную ставку. И платит — конторе, а уж та — работнику. Магазин при этой системе вообще на таких работников внимания не обращает: главное, чтоб пахали. А контора — та платит установленный законом минимум и ни шекелем больше. И очень быстро я понял, что при таком раскладе нет смысла стараться работать лучше, чтобы заработать больше — не заплатят ведь все равно. Рухнула еще одна иллюзия, воспитанная западными фильмами, которые мы жадно смотрели в молодости: типа, старайся — и большой босс однажды похлопает тебя по потной спине со словами: вот тот парень, который нам нужен! Поднимем-ка ему зарплату, продвинем-ка его по службе! Увы, увы — босс, действительно, мог похлопать и даже похвалить, но на зарплате это не отражалось. И настал в моей жизни новый период — я ходил на работу только и исключительно для заработка, питая к ней как таковой глубочайшее отвращение, то и дело поглядывая на часы — сколько там осталось до конца смены? Неудивительно, что как раз тогда я и начал писать прозу.
Римская империя, Египет, город Александрия
Год 56 AD (от Рождества Христова, согласно Юлианскому календарю)
Год DCCCIX (809) a.u.c. (от основания Рима, согласно римскому календарю)
Год 3816 (от сотворения мира, согласно еврейскому календарю)
— Ясон! Ясон, быстро домой!
Услышав крик матери, семилетний Ясон с сожалением покинул компанию таких же, как и он, сорванцов, игравших в соседском саду, и подбежал к Мирьям, стоявшей в дверях их маленького домика, большую часть которого занимала мастерская отца, Йосэфа-плотника. Мать взъерошила и без того непослушные курчавые волосы мальчика и с улыбкой сказала:
— Марш домой, обед на столе.
— Ну маам...
— Не капризничай, пожалуйста!
Ясон вздохнул и отправился мыть руки. Мирьям в который раз с горечью отметила, что они говорят с сыном на разных языках в самом прямом смысле этого выражения: мать говорила дома на арамейском, а сынишка, все понимая, отвечал на греческом койне — ему было так легче, койне был для него родным языком. На нем говорили друзья на улице, и даже в хедере рабби Александр читал Тору по-гречески или на священном иврите, а арамейского он, похоже, не знал вовсе. Для Мирьям же арамейский оставался родным, домашним, хотя и греческий ей пришлось освоить, чтобы общаться с соседками в еврейском квартале, ходить на агору (так назывался местный рынок).
Она уже привыкла к жизни в Александрии, хотя многое до сих пор казалось ей чужим. Первые месяцы после прибытия в Малый порт Мирьям практически не выходила из гостевого дома при синагоге, где им отвели комнату. Она готовила еду на кухне, общей с соседями, тоже недавно приплывшими из-за моря, ухаживала за маленьким Еошуа, а все остальное, все контакты с внешним, пугающим миром, легли на Йосэфа. Потом они переехали сюда, в домик с мастерской, Йосэф стал получать заказы в порту, а Мирьям постепенно знакомилась с семьями, жившими по соседству, ходила на агору и поутру — в порт, за первой рыбой. На рынке продавалось много незнакомых ей ранее предметов и продуктов, и даже имена соседей по улице порой были непривычные: одну семейную пару звали как положено: Ицхак и Рахель, а вот другую — Солон и Хлоя, хотя и они были евреи. Все это было так непохоже на ее родной Нацерет, где она выросла, а затем вышла замуж, ни на Кфар-Нахум, где они жили перед отъездом, ни даже на Ерушалаим, куда ее однажды брал с собой отец... Но главным впечатлением была, конечно, сама Александрия.
Великий Город раздавил Мирьям, отнял у нее речь и само дыхание, оставив только возможность удивляться. Больше всего ее поражали статуи, украшающие улицы и дворцы города: сделанные из бронзы и мрамора, изображающие мужчин и женщин, раскрашенные так искусно, что ни цветом одежд, ни выражением лиц и глаз они не отличались от живых людей, и Мирьям могла подолгу стоять у какой-либо из них, каждую минуту ожидая, что фигура вдруг задвигается и заговорит. Поначалу она не позволяла себе даже бросать взгляд на обнаженные скульптуры — невозможным казалось для замужней женщины разглядывать могучее естество Ираклиса или покатое лоно Афродиты. Но потом Мирьям заметила, что на Рахель и Хлою, которые часто, особенно поначалу, составляли ей компанию в походах в город, обнаженные скульптуры никакого особенного впечатления не производят, а когда она, немного освоившись с языком, рассказала им про свои сомнения, новые подруги буквально подняли ее на смех и принялась рассказывать что-то вовсе невероятное: якобы их мужья со своими друзьями ходят на городской стадиум, где александрийские мужи, обладающие мощью и ловкостью тела необыкновенными, демонстрируют состязания в разных играх на силу или на скорость, и самое главное — делают они это совершенно без одежды, потому что это красиво и ничего постыдного тут нет. Правда, женщин на стадиум не пускают, но Рахель и Хлоя были бы не прочь — и подруги принялись весело хохотать, а Мирьям совсем смутилась. Потом Хлоя сказала, что есть другое развлечение, гораздо более интересное — театрон, туда пускают и женщин и там все одетые, но, правда, за вход нужно заплатить, и если Йосэф разрешит Мирьям и даст денег на иситырион, то они могли бы сходить вместе. Йосэф в те дни получил хороший заказ и согласился дать жене денег на поход в театрон с Хлоей, хотя и был не очень доволен: непонятное греческое развлечение, на которое женщины пойдут без мужей, одни... А загадочный "иситырион" оказался обрывком папируса с неровными краями, на котором был оттиснут плохо видный рисунок — голова льва и римские буквы. Хлоя объяснила, что это — пропуск в театрон, а буквами обозначены места, где они будут сидеть.
Театрон выглядел как огромная каменная чаша, ступенями спускающаяся вниз, к круглой площадке, позади которой была с удивительным искусством выстроена и отчасти нарисована фронтальная часть храма с портиком, колоннами и куском морского пейзажа в правой части. Зрителей, наполнявших театрон, было столько, что Мирьям даже стало страшновато: такую толпу она видела разве что на Песах в Ерушалаиме, у Храма, и даже на местном рынке в самые горячие часы бывало меньше народу. Хлоя же чувствовала себя, как рыба в воде: махала знакомым с соседних ярусов, угостила Мирьям припасенными финиками, а на вопрос, в чем же заключается развлечение, которое здесь будет, отвечала: подожди, сейчас выйдет хор, и увидишь.
И Мирьям увидела. Те несколько человек, которые разыгрывали действие перед зрителями, выглядели издалека и сверху маленькими фигурками, и Мирьям немного испугалась их непропорционально больших лиц с застывшим на них выражением, но Хлоя шепотом объяснила, что это просто маски. Стихи, которые пел хор, Мирьям разбирала не очень хорошо, но громкую и четкую речь актеров она понимала гораздо лучше, и вскоре стало ясно, что перед ней разворачивается жизнь девушки по имени Ифигения, дочери царя. Богиня Афродита потребовала от отца принести дочь ей в жертву, и он — согласился... Мирьям почувствовала, как слезы сдавили ей горло — и даже не от жалости к Ифигении, которую Афродита все-таки пощадила и перенесла в какую-то райскую землю у моря, а от того, что эта история оживила страхи ее детства: похожий рассказ она слышала от своего отца (конечно, он рассказывал его братьям, а не ей): про то, как грозный Бог народа Израиля (настоящий и единственный, как всем известно, и совсем непохожий на выдуманных, сказочных греческих и римских богов) потребовал от Авраама принести в жертву сына своего, Ицхака, и тот, как и отец Ифигении, сделал, как ему было сказано... Во сне маленькая Мирьям часто видела, как Авраам, который выглядел в точности как ее отец, крестьянин Иояким — широкоплечий, смуглый, с курчавой жесткой бородой и суровыми карими глазами, поднимает вверх руку с поблескивающим в ней лезвием ножа, и она чувствует, что на холодном жертвенном камне лежит не Ицхак, а она сама, Мирьям, и неровная поверхность впивается ей в спину, и невозможно прикрыться связанными руками, и нет голоса, чтобы позвать на помощь... Потом, когда она выросла, когда родился Еошуа, Мирьям порой вспоминала свои детские кошмары и думала — а смогла бы она отдать своего ребенка, пусть даже и самому Господу?
Сколько Мирьям себя помнила, смерть была непременным атрибутом жизни их галилейской общины. Умирали маленькие дети соседей, умирали младенцами ее братья и сестры, лихорадка уносила жизни родственников и знакомых, молодых и старых, матери то и дело умирали в родах (встречая молодую женщину с младенцем, искренне радовались за обоих — ведь и мать, и дитя остались живы, благодарение Господу!), а юноши и мужчины гибли в бесконечных войнах, больших и малых, или уходили на отхожий промысел, как ее муж-плотник, и многие не возвращались уже никогда, и слова молитвы "кадиш ятом" звучали едва ли реже, чем шаббатнее благословление вина... Каждый выживший и выросший ребенок был подарком самого Бога Израилева, сурового Яава, чье имя нельзя произносить вслух, и Мирьям не могла понять, как этот самый Бог, который, как говорили раббаним, полон жалости к народу своему — как он может требовать в жертву дитя? Для чего? В доказательство любви к Всемогущему? Как символ покорности? И у Мирьям появлялось чувство — всего лишь чувство, потому что невозможно было проговорить эту мысль даже про себя, настолько кощунственной и греховной она была — что Еошуа она любит сильнее, чем кого-либо еще: сильнее, чем Яава, сильнее, чем Йосэфа, сильнее даже, чем любила когда-то свою мать Хану, да будет благословенна ее память...
— Нет-нет, милый, сначала ты закончишь еду, а потом будешь сладости.
— Ма-ам, но я не хочу это, — Ясон надул губы и показал на остатки хлеба, белого сыра и оливок, лежавших перед ним в миске. — Я хочу вон то! — его пальчик был направлен в сторону другой миски, полной спелых смокв.
— Ясон, не спорь, — Мирьям старалась быть строгой. — Сладости — после еды.
Мальчик вздохнул и продолжил ковыряться в крошащихся кубиках сыра. Мирьям сидела напротив, подперев щеку кулаком, и смотрела, как он ест. Совсем большой, подумала она, вот уже год как учится в хедере. А ведь кажется, это было только вчера — малыш Еошуа едва начал разговаривать, и вот однажды вечером, после ужина, сидя за столом при неверном свете масляной лампы, Йосэф сказал:
— Послушай, Мири, — он всегда называл ее Мири, когда был в добром расположении духа или хотел с ней о чем-то посоветоваться. — Я говорил с рабби Александром, и он сказал... в общем, он считает, что Еошуа нужно дать второе имя.
— Зачем? — не поняла Мирьям, — какое имя?
— Здешнее, греческое, — объяснил Йосэф. — Пацану здесь жить... Если повезет — выучится, станет чиновником, как господин Доситеос... или ученым человеком, как рабби Александр... в любом случае, лучше, если его будут звать так же, как и всех, понимаешь?
Мирьям задумалась. У них в Галилее плохо относились к тем, кто начинал жить, как греки. Таких презрительно называли митъявним (обгречившиеся), и считалось позорным породниться с такой семьей, хотя ходили слухи, что даже в Ерушалаиме, среди служителей Храма, стало немало тех, кто вел себя, как гой, и даже ходил на стадиум, но это, конечно, было досужее вранье, которое Мирьям никогда не любила слушать. Здесь же, в Александрии, казалось, сам воздух был греческим, хотя все вокруг носили разные имена, говорили на разных языках и ходили в разные храмы, в том числе и в огромную синагогу в восточном квартале, и вроде бы никому не было никакого дела до того, как тебя зовут. Но раз сам рабби Александр советует... Мирьям подумала, что в Галилее это совершенно невозможно было бы сделать, даже если бы они с Йосэфом и решились на такое, потому что и его, и ее многочисленные родственники просто не позволили бы. Но здесь они были одни, и решать было — им...
— Но если не Еошуа, то как же?.. — Мирьям все не могла взять в толк, как можно изменить имя, данное при брит-миле, на восьмой день от рождения, когда заключается таинственный и вечный союз еврея с Богом.
— Ясон, — ответил Йосэф. — Рабби Александр советует — Ясон.
— Ясон... — эхом повторила Мирьям, будто примеряя это имя к языку. — Хорошо, если ты считаешь, что так надо... — Мирьям привыкла доверять мужу, особенно после того, как они покинули Иудею, добрались живыми до египетского берега, а теперь имели кусок хлеба, крышу над головой, и вокруг не скакали взбесившиеся от ярости боевые кони и не лязгали мечи — все сложилось так, как и обещал ей Йосэф, когда яффский порт скрылся за горизонтом. Он сделал все правильно, и теперь, если он говорит, что их сына будут звать Ясон — да будет так.
Мальчик уже справился с обедом, по настоянию матери вымыл липкие от смокв руки и снова убежал на улицу. Мирьям принялась готовить ужин — уже скоро солнце коснется треугольных крыш дворцов, что на западе от квартала Дельта, а потом и вовсе скроется за ними, и наступит ночь. В Александрии темнело быстро, почти так же, как и на холмах Галилеи. С приходом темноты вернется домой муж — последнее время он все чаще работал не в своей мастерской, а на новом месте — в Мусейоне, что в царском квартале. Йосэф работал у ученого мужа, которого он называл рабби Герон, помогал мастерить ему какие-то "машины" — Мирьям с трудом понимала, что это такое и зачем, хотя одну из этих машин однажды увидела своими глазами, как и самого рабби Герона.
Это было в один из дней Песаха прошлого года, когда вся Александрия, по совпадению, отмечала день своего бога Сераписа, и в этот день не работали ни евреи, совершавшие накануне ночью седер, ни остальные жители города, чествовавшие голубую статую своего главного бога с корзиной плодов на голове. Йосэф с семьей гулял по городу, и толпа вынесла их на площадь перед горой храма Сераписа, где у самых ступеней, ведущих наверх, была выстроена странная конструкция со множеством занавесей, вокруг которой толпились горожане. Мирьям услышала в гуле толпы слово "театрон" и удивилась, потому что на знакомый ей театрон это было совершенно непохоже, но тут трижды ударил гонг, самый верхний занавес раздвинулся, и перед зрителями задвигались деревянные фигуры людей, строивших корабль. Мирьям не верила своим глазам: это были не живые актеры с масками на лицах, нет — это были плоские куклы, какие порой можно купить на рынке для детских игр, но они двигались, каждая по-своему, и не было видно ни одного человека, который бы управлял всем этим действием — все происходило само по себе, то есть — по волшебству. Неужели Серапис действительно настолько могуч, что может творить чудеса, ведь это происходит у его храма? — в смятении подумала Мирьям. Она посмотрела на Ясона — мальчик стоял с приоткрытым ртом и широко распахнутыми глазами, казалось, он впитывал каждое движение и каждый звук, доносившийся от "маленького театрона" — так Мирьям назвала про себя конструкцию с движущимися фигурками. А вот Йосэф, похоже, не был удивлен совершенно — он смотрел на действие, слегка прищурившись, и порой что-то шептал про себя.
— Йоси, что это? — спросила наконец Мирьям.
— Это машина, — ответил муж, — я слышал про такие, но видеть еще не доводилось... Смотри, смотри!
Мирьям увидела, что Ясон, протиснувшись между ногами стоявших в первых рядах, опрометью бросился в выгородку, к задней части театрона. Там двигались какие-то люди, трещал костер, тянуло дымом. Мирьям и Йосэф поспешили вслед за сыном.
Изнанка театрона выглядела совсем не празднично, но не менее загадочно. На сколоченном наспех каркасе крепились зубчатые колеса и колеса обычные, но соединенные ремнями, внизу на огне раскалялся медный сосуд, от него наверх шли тонкие металлические трубки, теряясь где-то наверху. Тяжелые на вид, наполненные песком мешки медленно спускались на веревках, поднимая своим движением такие же, но поменьше. У каркаса стояло несколько лестниц-стремянок, по ним то и дело вскарабкивались наверх мужчины в грязных пропотевших туниках, что-то подправляли в загадочных переплетениях деталей, затем так же молниеносно спускались вниз. Ими руководил высокий и грузный мужчина с бородой и спутанной гривой седеющих волос. На нем была такая же туника, как и на рабочих, темного цвета, в пятнах от грязи и подпалинах от костра, но было видно, что он здесь главный: то и дело он отдавал короткие команды зычным голосом и щедро сыпал грубыми греческими и египетскими словечками, которые Йосэф уже выучил, работая в порту, а Мирьям то и дело слышала в рыночной толпе, к счастью, не всегда их понимая. В руках он держал потрепанный и запачканный свиток папируса с ниточками строк и размашистыми рисунками. Ясон подбежал к нему и бесцеремонно потянул его за край туники:
— Дядя, дядя! А что это здесь такое?
Мужчина посмотрел сверху вниз на мальчика и присел перед ним на корточки.
— Это называется "автоматический театрон". Смотри, — он показал пальцем вверх, — видишь ту шестеренку? Она передает движение во-он тем трем куклам, и они движутся. Понял?
— Понял, — ответил Ясон. — Ты — волшебник, да?
Мужчина расхохотался.
— Нет, малыш, я не волшебник. Я — Герон из Мусейона. А тебя как зовут?
— Ясон, — важно ответил мальчик. — Я уже целый год хожу в хедер!
Собеседник Ясона явно не понял последнего слова и вопросительно посмотрел на Йосэфа и Мирьям — он догадался, что перед ним родители непоседы, прервавшего его работу.
— Прошу извинить нас, господин, — сказал Йосэф, — Это мой сынишка, Ясон. Меня зовут Йосэф, я плотник из квартала Дельта.
Раздался громкий треск — одна из перекладин, поддерживавших несколько соединенных между собой зубчатых колес, просела, надломившись. Герон выругался, вскочил на ноги с резвостью, удивительной для его комплекции, и крикнул что-то неразборчивое своим помощникам, указывая пальцем на место, где случилась неполадка. Туда сразу кинулись трое: один подставил плечо под доску, на которой были смонтированы передачи, а двое других стали осторожно вытаскивать поврежденную деталь из конструкции и заменять ее новой. Представление, тем временем, продолжалось: колеса крутились, мешки плавно двигались вверх-вниз, откуда-то с шипением вырывались клубы пара.
Рабочие отбросили треснувшее бревно, и его половинка подкатилась под ноги Йосэфа. Он присел, потрогал разлом, отломил щепку и понюхал ее, закрыв на секунду глаза.
— Господин, — обратился он к Герону, — прошу прощения, но мне кажется, вам стоит использовать другой материал. Ваши конструкции тяжеловаты. Я бы взял ливанский кедр — при том же диаметре он намного прочнее...
Герон с интересом посмотрел на Йосэфа.
— Вообще-то каркас не мой, а то я бы тоже взял дерево покрепче... А ты хороший плотник, как я погляжу... — Он подумал немного и сказал: — Мне нужен помощник для столярных работ. Я строю машины — вот такие, как эта, — он показал на театрон у себя за спиной, — и еще многие другие. Хочешь попробовать работать на меня?
— Да, господин, — сразу согласился Йосэф. У него было не так много заказов, чтобы пренебрегать хорошим предложением.
— Приходи завтра утром в Мусейон, — сказал Герон. — Скажешь страже — к Герону-механикосу, они поймут. Знаешь, где Мусейон?
— Нет, господин.
— Ммм... Придешь в квартал Брухейон — это недалеко от вашей Дельты, там спросишь. Только оденься почище: Брухейон — царский квартал, оборванца и задержать могут.
— Спасибо, господин, приду обязательно.
Йосэф взял за руку Ясона, продолжающего разглядывать замысловатые конструкции Герона, тронул за локоть Мирьям и потянул их к выходу, на площадь. Герон уже смотрел в свой папирус, водя пальцем по строчкам, бормотал какие-то цифры — что-то подсчитывал в уме. Вдруг он поднял глаза на Йосэфа.
— Послушай, друг мой... Ты из Дельты, да? Ты — еврей?
— Да, мой господин, еврей.
— Ага... — Герон пожевал губами, потом махнул рукой: — Ладно, не страшно. Приходи.
"Шма, Исраэль"- "Слушай, Израиль" – начальные слова молитвы (ивр.)
Адонай - Господь мой (иносказательное именование Бога в иудаизме) (ивр.)
Мицраим - Египет (ивр.)
ХАБАД –религиозное течение в иудаизме
штетл - маленький еврейский городок в черте оседлости (идиш).
хедер – иудейская школа для мальчиков (буквально – "комната", ивр.)
кадиш ятом - поминальная молитва сироты (ивр.)
брит-мила - обряд обрезания (ивр.)
седер - пасхальная трапеза, состоящая, в том числе, из молитв и песнопений (буквально – "порядок") (ивр.)