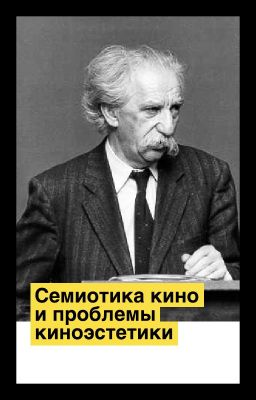Глава седьмая. Монтаж
Монтаж — одно из наиболее хорошо изученных и, одновременно, вызывающих острые полемические столкновения средств кинематографа. С. Эйзенштейн — один из основоположников и пропагандистов теории, и практики монтажного кино —утверждал: «Кинематография — это прежде всего монтаж» (1). Стремясь проследить монтаж на всём протяжении истории кинематографа, С. Эйзенштейн наметил и концепцию трёх исторических этапов эволюции монтажа:
«Для одноточечного кино — это оказывается пластической композицией. Для многоточечного кино — это оказывается монтажной композицией. Для тонфильма — это оказывается музыкальной композицией. Это положение одновременно раскрывает по-новому осмысление вопроса монтажа. «Истоки» монтажа лежат в пластической композиции. «Будущее» монтажа лежит в музыкальной композиции. Закономерности через все три этапа едины. «Роль» монтажа в пластическом построении играет сочетание композиционного обобщения по изображению с самим изображением, осмысленное «соразмещение» в композиции и обобщённый «контур» изображения. Монтаж играет роль обобщения во втором этапе. «Роль» монтажа в тонфильме лежит в основном во внутренней синхронизации изображения и звука» (2).
Однако «монтажное кино» имело и имеет многочисленных противников.
Из значительного числа теоретиков, не признающих в нём универсальной формулы киноязыка, сошлёмся хотя бы на Анри Базена, считавшего, что уже на стадии немого кинематографа имели место две противоположные тенденции: «одна из них представлена режиссёрами, которые верят образность, другая — теми, кто верит в реальность» года (3). Смысл этого разделения — в противопоставлении кинематографа, в котором режиссёр обладает «целым арсеналом средств, чтобы навязывать зрителю свою интерпретацию изображаемого события», кинематографа, в котором «смысл не заключён в кадре, а возникает в сознании зрителя как результат монтажной проекции», то есть кинематографа-интерпретации, — другому типу, который стремится фиксировать, а не конструировать, в котором фотографируемый объект превалирует над истолкованием, а актёр — над режиссёром. В этом втором типе кинематографа монтаж не играет заметной роли, и Базен перечисляет мастеров немого кино, не уделявших ему большого места своей поэтике.
Именно эта вторая тенденция, по мнению А. Базена, исторически возобладала в звуковом кино и определяет во второй половине XX века пути этого искусства.
Прежде всего, попытаемся осмыслить понятие монтажа. Явление монтажа в том значении, которое придаётся этому термину в советской теоретической литературе (кроме названных выше работ, здесь уместно будет напомнить о статьях Б. Эйхенбаума «Проблемы киностилистики» и Ю. Тынянова «Об основах кино в сб. «Поэтика кино», М.-Л., 1927), составляет лишь частный случай одной из наиболее всеобщих закономерностей образования художественных значений — соположения (противопоставления и интеграции) разнородных элементов. Художественный ряд — последовательность структурных элементов в искусстве — строится иначе, чем нехудожественные структурные ряды.
Типовая последовательность нехудожественных структурных элементов строится следующим образом. Любая коммуникативная система может изучаться в двух аспектах: с точки зрения инвариантной структуры и как реализация структурных принципов этой системы с помощью некоторых материальных средств.
Так, Ф. де Соссюр сначала предложил различать в естественных языках начала «языка» (системы структурных отношений) и «речи» (выражения этих отношений средствами языковой материи), а затем положил это же разделение в основу заложенной им семиологии — всеобщей теории знаковых систем. С этой точки зрения, как только та или иная последовательность элементов осознаётся нами как «правильная», то есть как только ей на уровне «языка» может быть сопоставлена некоторая структурная закономерность, она теряет неожиданность и может быть заранее предсказана. Поскольку по мере удлинения текста на него накладывается всё больше структурных ограничений, количество возможностей для выбора следующего элемента будет неуклонно сужаться.
Следовательно, в любом правильно построенном тексте информационная нагрузка от начала к концу будет падать, а избыточность (возможность предсказания вероятности появления следующего элемента в линейном ряду сообщения) — расти.
Необходимо подчеркнуть и другое. Нехудожественная коммуникация подразумевает, что слушатель получает новое сообщение, но код, общий с отправителем, дан ему заранее. Если я читаю книгу на эстонском языке, то предполагается, что я могу почерпнуть из неё много различных сведений, но эстонский язык мне уже известен заранее (речь идёт не об учебном чтении с целью усвоения языка, а о нормальной коммуникации). Говорящий и слушающий на родном языке владеют им в равной мере и настолько хорошо, что при обычном говорении перестают его замечать. Язык делается заметен, когда говорящий употребляет его необычно, индивидуально: ярко, образно, художественно — или плохо, грамматически неправильно, заикаясь или не выговаривая некоторых звуков. Нормальный же язык в силу своей правильности в обычной речи незаметен. Слушатель обращает внимание на то, что ему говорят, а не на то, как это делают, и извлекает информацию из сообщения — о языке он уже всё знает и новой информации о его структуре не ждёт и не получает.
Художественная последовательность строится иначе.
Высокая информационная насыщенность художественного текста достигается тем,
что, благодаря сложным и не вполне понятным его внутренним механизмам, структурная закономерность не понижает в нём информационности (4). Художественная структура подавляет избыточность (5). Кроме того, участник акта художественной коммуникации получает информацию не только из сообщения, но и из языка, на котором с ним беседует искусство. Он похож на человека, который одновременно изучает и язык, на котором написана книга, и содержание этой книги. Поэтому в акте художественной коммуникации язык никогда не бывает незаметной, автоматизированной, заранее предсказуемой системой.
Следовательно, при художественном общении и язык эстетического контакта, и текст на этом языке на всём своём протяжении должны сохранять неожиданность. Но здесь возникает другая трудность: неожиданный — значит незакономерный
(то, что закономерно, не может быть неожиданно; нельзя сказать, что после 5 марта неожиданно наступило 6-е или после зимы неожиданно наступила весна, — эти последовательности автоматичны, и сообщение о них никакой информации не несёт), а незакономерное, не системное не может быть передано — оно остаётся вне пределов знакового обмена. Таким образом, художественная коммуникация, по исходной предпосылке, создаёт противоречивую ситуацию. Текст должен быть закономерным и незакономерным, предсказуемым и непредсказуемым одновременно. Эмпирически это странное положение известно всем.
Все знают, что поэзия оперирует речью, подчиняющейся всем правилам грамматики данного языка, к которым добавлены ещё некоторые дополнительные правила: рифмы, размер, стилистика и пр.
Следовательно, поэтический текст более ограничен и менее свободен, чем непоэтический. Следовательно, он должен нести меньше информации. Следовательно, для приблизительно эквивалентной информации нехудожественного типа нужно меньше слов, чем для поэзии (6).
Однако реально дело обстоит как раз наоборот: информативность художественного текста выше, и он всегда меньше по объёму эквивалентного ему нехудожественного текста. Этот парадокс имеет фундаментальное значение, ибо именно на нём основывается то, что поэты называют «чудом искусства», а мы могли бы назвать его культурной необходимостью.
Из этого исходного противоречия художественный текст выходит двумя путями. Первый связан с тем, что один и тот же текст соотносится с двумя структурными нормами. То, что в тексте с позиции одних нормативов случайно, оказывается закономерно — с других. Противонаправленная избыточность двух различных систем, взаимно накладываясь, гасится, и текст сохраняет информативность на всём своём протяжении. Такой текст можно для наглядности уподобить некоторому сообщению, которое дешифруется на нескольких языках. Так, например, к одной из глав «Евгения Онегина» Пушкин поставил эпиграф из Горация «О, rus!» (что означает «О, деревня!») и сопоставил ему каламбурное прочтение «О, Русь!». Другой путь — соположение разнородных единиц, единиц различных систем. Это можно сопоставить с «макароническим» текстом, в котором на равных правах употребляются слова разных языков. В искусстве этот путь крайне распространён. Как только мы, овладев некоторой структурной закономерностью текста, настраиваемся на определённое ожидание и, казалось бы, можем предсказать следующий элемент, автор меняет тип закономерности (переходит на другой «язык»)
и ставит нас в необходимость заново конструировать структурные принципы организации текста.
Столкновение элементов разных систем (они должны быть и противоположны и сопоставимы, то есть на каком-то более абстрактном уровне — едины) — обычное средство образования художественных значений. На нём строятся семантические эффекты типа метафоры, стилистические и иные художественные смыслы.
Для того, чтобы прояснить для читателя принцип соположения разнородных элементов, их конфликта и высшего единства, в результате чего каждый из элементов в контексте целого оказывается и неожиданным и закономерным, приведём пример из блестящей статьи чешского учёного Я. Мукаржовского, написанной около сорока лет тому назад.
Анализируя фильмы Чарли Чаплина, Мукаржовский указал, что в основе их лежит устойчивый, известный зрителю заранее и ожидаемый им тип-маска «Чарли». Константный грим и костюм, константные приёмы актёрской игры, типовые сюжетные ситуации и отнесённость к некоторому единому человеческому типу в действительности позволяют говорить о единстве этого образа, который может рассматриваться в качестве целостной художественной структуры.
Однако Мукаржовский обратил внимание на то, что единство образа не отменяет, а подразумевает его двойственность. Уже костюм Чарли двоится: верх его составляет элегантный котелок, манишка и бабочка, а низ — спадающие брюки и чудовищные, не по росту, ботинки (распределение верха и низа, конечно, не случайно). Сочетание в костюме крайней элегантности (напомним, что маска Макса Линдера была построена на последовательной «монолитной» элегантности светского льва; Чаплин начинал творить, когда комический стереотип Линдера был привычен публике и входил в её ожидание) и предельной оборванности, опущенности продолжалось и в жестах и мимике Чарли. Элегантные, безупречно светские движения, которыми Чарли приподнимает котелок или поправляет бабочку, сочетаются с жестами и мимикой бродяги Чарли — как бы два человека. И этим достигается неожиданный эффект. Казалось бы, перед нами — устойчивая маска, стереотипные ситуации, условные жесты. Следовательно, такой текст легче предугадать, чем сырую,
«не сыгранную» серию последовательных фотографий нехудожественной реальности? Оказывается, нет. Различные закономерности, перекрещиваясь создают необходимую неожиданность.
Именно в наименее подходящих ситуациях Чарли ведёт себя как безупречный джентльмен. Черты светского человека проявляются в нём лишь только на экране создаётся контекст, в котором естественным выступает поведение бродяги, жулика, вора. Но как только контекст требует норм элегантного поведения, Чарли оказывается маленьким бродягой в чужом костюме.
Так, сюжет классической «Золотой лихорадки» складывается из двух половин.
В одной действует Чарли — маленький бродяга, в другой Чарли — внезапно разбогатевший миллионер. Чарли-бродяга наделён безупречными манерами светского человека. Вершиной является сцена, когда искатели золота, голодающие зимой в горах, варят сапог. Разделывая эту чудовищную пищу с помощью ножа и вилки, обсасывая гвоздики, как косточки, съедая шнурки, как спагетти, Чарли демонстрирует безупречность манер. Однако стоит ему сделаться миллионером, как перед нами оказывается человек в роскошной шубе или смокинге, который чешется, набивает рот и чавкает, как бродяга.
Смысл такой игры в том, что герой в обоих случаях предстаёт перед нами как переодетый. В одном — это светский человек, переодетый бродягой, в другом — бродяга, переодетый человеком высшего общества. Каждая из сущностей переодетого диктует свои нормы поведения и свой тип ожидания со стороны зрителей. Соотношение «герой — костюм» порождает комические ситуации, но может быть источником и иных значений. В конце «Золотой лихорадки» Чарли-миллионер встречает на пароходе девушку, которая отвергла его любовь в посёлке золотоискателей, а теперь путешествует в третьем классе среди бедняков-переселенцев. Она не узнаёт своего бывшего поклонника в блестящем пассажире. Но вот Чарли переодевается в старые лохмотья, и героиня узнаёт его. Теперь переодевание — факт сюжета, и поэтому оно исчезает из игры: Чарли в костюме бродяги ведёт себя как бродяга, он обретает целостность поведения. Он — маленький загнанный человечек с наивными и нелепыми жестами, таким же его воспринимает и героиня, и таким она его любит. Однако зритель помнит, что герой переодет. Если комизм нелепости может строиться как соединение несоединимого, как механическое слепливание разного, то целостный, тем более трагический, образ подразумевает, что разные и антагонистические с одной точки зрения элементы — с другой, неожиданной, нахождение которой и составляет сущность художественного открытия, оказываются едиными.
Мукаржовский подчёркивает способ, которым Чаплин предостерегает зрителя от утраты ощущения единства образа. В «Огнях большого города» он ставит рядом с героем два персонажа, которые как бы «снимают» с единого, живого Чарли его противоположные лики: продавщица цветов — слепая, миллионер — пьян. Оба они воспринимают Чарли в разных его проекциях. Продавщица считает его сказочным принцем, «видит» лишь «элегантного» Чарли и не узнаёт, обретая зрение, своего героя в реальном чаплиновском персонаже.
Пьяный пресыщенный миллионер ищет дружбы «простого человека», бродяги, но, протрезвев, не узнаёт Чарли, как и продавщица — прозрев. Чарли, окружённый трагическим непониманием, которого и любовь и дружба воспринимают лишь «частями», должен быть воспринят зрителем как нечто живое, целостное, единое.
Так создаётся поведение, которое одновременно представляет смесь двух противоположных типов поведения и единое, органичное — жизнь и судьбу одного человека. Этим достигается решение того парадокса высокой информативности искусства, о котором мы говорили выше.
Сделанные наблюдения касаются не только комического — они имеют непосредственное отношение к глубинным законам искусства. Так, герой романа Скотта Фицджеральда «Ночь нежна», объясняя киноактрисе Розмэри, что такое игра актёра, говорит: «Необходимо сделать что-то, чего зрители не ожидают. Если им известно, что ваша героиня сильна, вы в эту минуту показываете её слабой; если она слаба, вы её показываете сильной. Вы должны выйти из образа — понятно вам?
— Не вполне, — призналась Розмэри. — Как это — выйти из образа?
— Вы делаете то, чего публика
не ожидала, пока вам не удастся снова приковать её внимание к себе и только к себе. А дальше вы опять действуете в образе» (7). Здесь очень точно указано на ту игру ожиданием аудитории, то постоянное колебание между оживлением ожидания и его разрушением, которое составляет одну из основ неослабевающей информационности текста.
Примером подобной игры с выпадением из роли и вхождением в неё, как правило, является исполнительство Марчелло Мастроянни. Так, в фильме «Восемь с половиной» главный герой всё время сопровождается различными проекциями его личности — появлением сцен детства, отражением его сущности в различных женщинах, снами, творчеством. Каждое из этих отражений не идентично другим (вернее, противоположно) и, одновременно, с ними отождествлено.
Предельно чётко эта особенность проявилась в смелом режиссёрском решении Ю. П. Любимова («Театр на Таганке» в Москве) образа Маяковского в пьесе, посвящённой поэту. Режиссёр имел дело с персонажем, само имя которого задаёт зрителю определённые жёсткие стереотипы ожидания, частично продиктованного создававшимися самим Маяковским нормами восприятия его поэтической личности, частично же определённого посмертной судьбой его наследия. Просто проиллюстрировать эти ожидаемые нормы было бы столь же художественно неубедительно, как и просто отбросить их. Режиссёр пошёл на эксперимент: он вывел на сцену пять Маяковских (ни один из них портретно не похож на поэта; самый «лирический» — бородат и заикается от смущения). Присутствуя на сцене одновременно, эти пять Маяковских ведут себя по-разному в одних местах действия и сомкнутым фронтом — в других. Умирают они не одновременно. Но именно потому, что мы всё время знаем, что эти пять человек, их постепенный, свободный от внешних эффектов, уход потрясает зрителей.
Бёртоне в «Генерале Делла Ровере» (исполнитель роли — В. Де Сика, режиссёр — Р. Росселлини) — подонок. Он — человек, казалось бы. Дошедший до крайней степени падения: сутенёр, спекулянт и игрок, он делается коллаборантом, сотрудничает с мелкими чиновниками из гестапо, вымогая деньги у их жертв. Но и на этой ступени падения в нём есть нечто, препятствующее зрителю с негодованием отвернуться от экрана. Герой обаятелен (мы чувствуем это с удивлением и вначале — даже с внутренним протестом). Он талантлив, артистичен, у него благородная внешность
(не лишённая, впрочем, того подчёркнутого благородства, которое свойственно шулерам). Для искусства XIX века сочувствие герою, дошедшему до столь омерзительных форм нравственного падения, могло быть обусловлено лишь одни — ссылкой на то, что ответственность за поведение индивида падает не на него, а на социальные условия. Намёк на такое решение имеется и в фильме: не случайно наиболее решительно осуждает Бёртоне молодая сеньора Фассио — благородная патриотка, чей муж становится жертвой гестапо, и одновременно — аристократка, никогда не знавшая забот о хлебе насущном, для которой чашка «настоящего кофе», которую с такой гордостью предлагает ей Бёртоне, — отвратительная бурда. При всей кощунственности самого сопоставления её с Бёртоне, — зрителю очевидно, что её благородство никогда не подвергалось тем унизительным испытаниям, которые для него — основа каждодневного существования.
И всё же то, что авторы фильма не хотят таким образом оправдать своего героя, видно хотя бы из того, что именно такое объяснение он сам услужливо предлагает зрителю. Когда шеф гестапо полковник Мюллер предлагает попавшему в безвыходное положение Бёртоне разыграть роль героя Сопротивления генерала Делла Ровере и знакомит его с послужным списком последнего, у Бёртоне вырывается завистливое восклицание: «Еще бы ему не сделать быструю карьеру! Женился на дочке пьемонтского генерала; его тётка, маркиза ди Баррино, умерла в двадцать восьмом году, сделав его своим единственным наследником; он подозревается в причастности к масонам; дядя его — кардинал ... Нет, мне просто смешно... А я пробивался сам, дорогой полковник. Я всем обязан только себе».
Вложив это объяснение в уста такого героя, авторы фильма явно отвергают подобный упрощённый ход, хотя как некоторая возможность объяснения он остаётся где-то на заднем плане. Установив и неприглядность настоящего облика героя, и его ответственность за собственное падение, авторы фильма вводят один — казалось бы, незначительный в общем развитии действия эпизод: Бёртоне скрывается под ложным именем инженера Гримальди (или полковника Гримальди). Вместе с этим именем он, сам того не зная, присвоил себе важные преступления против немецких оккупационных властей — Гримальди разыскивается за помощь партизанам.
В глубине души симпатизирующий герою полковник Мюллер не без иронии спрашивает его: кем он предпочитает предстать перед судом — Бёртоне или Гримальди? Герой не испытывает на этот счёт никаких колебаний: как мелкий жулик Бёртоне он рискует лишь тюремным заключением, а приближающееся окончание войны сулит амнистию, в роли же Гримальди ему гарантирован расстрел. Герой — мелкий жулик и предпочитает им оставаться. И, хотя это решение вполне естественно, оно даже разочаровывает шефа гестапо — он окончательно убеждается, что этому не лишённому обаяния ничтожеству чужды любые возвышенные порывы.
Так определён характер героя, которому всё тот же Мюллер предлагает для спасения себя оказать услугу гестапо — разыграть роль якобы захваченного в плен (на самом деле — убитого) героя Сопротивления генерала Делла Ровере, войти в сношение с подпольщиками и выдать их немцам. Бёртоне оказывается в тюрьме в роли аристократа, профессионального военного, патриота и героя, которому даже враги вынуждены высказывать уважение.
Перед нами — подонок, играющий роль героя. Если бы этим дело и ограничилось, то оправдались бы представления в остальном полярно противоположных Мюллера и юной Фассио, которые убеждены, что понимают людей и имеют право их судить, а для зрителей вся вторая половина фильма стала бы излишней. Однако события развёртываются вопреки всем, столь тщательно установленным, инерциям ожидания. Дальнейшая судьба Бёртоне — борьба между его сущностью мелкого жулика (но и артиста, в какой-то мере — ребёнка, сохранившего в душе искры наивности и таланта) и принятой им на себя ролью. Пройдя все круги ада, бомбёжки, ожидание смерти, находясь под облагораживающим воздействием принятой им на себя роли, он превращает маску в сущность, становится генералом Делла Ровере. Эта удивительная трансформация происходит на глазах у ошеломлённого зрителя и совершается с бесспорной убедительностью. Герой добровольно идёт на смерть, умирает, не выдав уже открывшихся ему подпольщиков, пишет предсмертную записку чужой жене и чужому сыну и — присвоив себе даже аристократические предрассудки своего alter ego — под дулами эсэсовских автоматов благословляет Италию и короля.
Не будем сейчас останавливаться на глубоко гуманной и сложной художественной идее фильма. Нас сейчас интересует более частный аспект — то чувство правды, которое возникает в зрителе в связи с тем, что актёр, подчинённый одновременно двум заданным нормам поведения, в одной из них фатально вынужден «выходить из образа», чтобы «быть в образе» в другой. Эта осцилляция между двумя закономерностями создаёт необходимую непредсказуемость (информативность) в пределах каждой из них.
В качестве примера можно было бы сослаться ещё на одно наблюдение: анализируя икону богоматери кисти Андрея Рублёва, П. А. Флоренский заметил, что верхняя и нижняя части лица святой дают резко отличающиеся черты её живописной характеристики.
Приведённые примеры заимствованы из комического и трагического, условного и бытового искусства и, как кажется, позволяют сделать вывод, что установление норм и выпадение из них, автоматизация и деавтоматизация составляют одну из глубинных закономерностей художественного текста. С особенной силой это проявляется в кинематографе.
Соположение разнородных элементов — широко применяемое
в искусстве средство. Монтаж — частный его случай — может быть определён как соположение разнородных элементов киноязыка. Некоторые художественные стили ориентированы на острую конфликтность сталкиваемых элементов (так возникают метафорические стили в прозаическом повествовании или резкая противопоставленность персонажей на сюжетном уровне). Но какой бы мы стиль ни избрали — поражающий контрастами или производящий впечатление глубочайшей гармонии — в основе его механизма можно вскрыть соположение и противопоставленность элементов, ту внутреннюю неожиданность конструкции, без которой текст был бы лишён художественной информации. Поэтому монтаж как факт киноязыка присущ и тому кинематографу, в котором он обнажённо лежит на поверхности и за которым закрепилось наименование «монтажного», и тому, в котором А. Базен не усматривает монтажа. Киноязык строится как механизм «рассказывания историй при помощи демонстрации движущихся картин» — он по природе повествователен. Но между киноповествованием и монтажом оказывается глубокая внутренняя связь.
Сопоставление элементов может быть двух родов:
1. Оба сопоставляемых элемента на семантическом или логическом уровнях отождествляются, про них можно сказать: «Это одно и то же». Однако представляя один и тот же денотат (объект, явление, вещь из мира внетекстовой действительности), они дают его в различных модусах.
2. Оба сопоставляемых элемента представляют различные денотаты в одинаковых модусах. Применительно к фактам языка, этой классификации будут соответствовать повторы одной и той же лексемы (слова) в различных грамматических категориях и повторы одной и той же грамматической категории в разных словах. Если представить заглавными буквами семантическое значение знака (его отношение к объекту), а строчными — грамматическое (его отношение к другим знакам), то мы получим следующие схемы.
Аа Аа
Ав Ва
Ас Са
В первом случае, применительно к кинематографии, мы можем говорить о едином объекте фотографирования и смене места в кадре, освещения, ракурса или плана, во втором — об одинаковом месте, ракурсе, плане или освещении различных объектов. Примером Первого будут кадры NoNo 284–287, 291–292 в «Броненосце Потёмкине» («пушки»), второго — NoNo 215, 218,219 там же (студент, казак, учительница).
Однако художественный повтор отличается от нехудожественного тем, что отождествление или противопоставление даётся здесь ценой некоторого — иногда очень значительного — усилия, в том числе и эмоционального.
Глубины смысла открываются в результате перестройки представлений — одинаковое оказывается различным и наоборот. Кроме того, формальное и содержательное (модус и объект), столь чётко разделяемые в логике, в художественном тексте одновременно разделяются и меняются местами. Так, рот, открытый в крике, сам по себе, не модус, а объект. Но при сопоставлении этих трёх кадров он выступает как грамматический элемент, типа формального согласования однородных членов во фразе.
Примером структурного конфликта, который характерен для художественного повтора и делает его диалектически-сложным явлением, семантически значительно более ёмким, чем нехудожественный, могут быть знаменитые кадры «пробуждающегося льва» из «Броненосца Потёмкина».
Каменный, лев приподымается, как живой. Неожиданность этого движения и, следовательно, его высокая значимость, связана с тем, что фотография не скрадывает, а подчёркивает его «мраморность», статуарность. Динамизм изображения вступает в конфликт со статикой объекта. Однако эффект этот достигается и другими средствами: зная, что перед нами статуя, мы не можем сомневаться, что кадры дают три различных объекта, сопоставленных по некоторым модусам (логическому — вхождению объекта в класс: статуи львов — и визуальным: освещению, единой траектории движения плана и др.). Если же это живой лев, то сфотографироран один объект с несовпадающими модусами (движение). То, что мы видим одновременно две различные вещи, причём функция объекта и модуса меняются, создаёт то семантико-эмоциональное напряжение, которое вызывает этот кусок ленты.
Выделяя в дальнейшем на кадре категории объекта и модуса, мы будем все время иметь в виду их относительность, тенденцию к взаимопереходу в художественном тексте.
Рассмотрим сначала одну единичную фотографию. В ленте ей будет соответствовать отдельный «кадрик». Уже здесь мы сталкиваемся с определённой композицией. Объекты соотносятся друг с другом, образуя некоторое значимое отношение, семантика которого не сводится к механической сумме значений отдельных объектов. Именно в этом смысле Эйзенштейн говорил о композиции кадра как о монтаже. Чаще всего мы будем иметь дело с различными объектами, сопоставленными по модусу, что делает именно его активным носителем значений. Так, в некоторых полотнах освещение делается более значимым элементом, чем изображение предметов. Выделяя модусы, связывающие фигуры и вещи внутри кадрика или противопоставляющие их, мы можем получить характеристику наиболее нагруженных значением элементов текста.
Однако на этом уровне мы ещё будем иметь дело с тем же механизмом, что и в живописи или графике. Собственно кинематографический эффект возникает лишь с того момента, когда один кадрик сопоставляется с другим, то есть на экране возникает рассказ. Рассказ может появиться в результате сопоставления цепочки кадриков, фотографирующих различные объекты, и из цепочки, в которой один объект меняет модусы. Если учесть, что резкая смена плана приводит к тому, что на экране оказывается не предмет, а его часть, (а это, фактически, воспринимается как смена объекта), то можно сказать, что первый случай будет представлять на экране смену кадров, а второй — движение изображения внутри кадра. Монтажный эффект возникает в обоих случаях. Образование новых значений и на основе монтажа двух различных изображений на экране, и в результате смены разных состояний одного изображения представляет собой не статическое сообщение, а динамический нарративный (повествовательный) текст, который, когда он осуществляется средствами изображений, зримых иконических знаков, составляет сущность кино.
В этом смысле противопоставление А. Базена должно получить иной смысл — оно указывает на вполне реальный факт истории кинематографа, если имеет в виду ориентацию тех или иных художественных течений на воссоздание «живой жизни» или конструирование художественных концепций, на монтаж кусков ленты или съёмку «большим куском» с ориентацией на актёрскую игру. Однако полагать, что желание уклониться от режиссёрского вмешательства представляет достижимую, причём столь простыми средствами, как декларация отказа от монтажа, цель, — конечно, значит так же упрощать вопрос, как и считать, что, ликвидируя склейку, мы уничтожаем принцип монтажа.
Склейка кусков ленты и интеграция их в высшее смысловое целое — наиболее явный и открытый вид монтажа. Именно он привёл к тому, что монтаж был осознан художественно и теоретически осмыслен. Однако скрытые формы монтажа, при которых любое изображение сопоставляется с последующим во времени и это сопоставление порождает некоторый третий смысл, — явление не менее значимое в истории кино.
Наблюдение Базена касается не только реального, но и очень существенного факта из истории кино. Однако при осмыслении его необходимо иметь в виду следующее: то, что А. Базен представляет как две исконно противоположные и отдельные тенденции в конструировании фильма, каждая из которых имманентно замкнута в себе, на самом деле — два противопоставленных и антагонистических рычага единого механизма. Они работают только во взаимной борьбе и, следовательно, нуждаются друг в друге. Победа любой из этих тенденций, трактуемая как исчезновение другой, означала бы не торжество, а уничтожение победителя. История кино с его периодической сменой ориенированности на «конструкцию» или на «фотографию жизни» — убедительное тому доказательство. В конкретной идейной и эстетической борьбе вокруг искусства та или иная концепция может связываться с определёнными философскими или идеологическими воззрениями. Однако по своей природе она не исчерпывается этой связью.
Так, в литературе ориентированность той или иной идейной или художественной концепции на стихи или прозу не исключает того, что сами по себе поэзия и проза — формы жизни литературы и пригодны для выражения самых разнообразных идейных концепций.
Кинематограф для того, чтобы осознать себя как искусство, должен был начать с наиболее обнажённо условных форм киноязыка, самый перевод на который явлений жизни казался эстетическим открытием. Утрировка условности составляла неизбежную черту кинематографа, стремившегося оторваться от фотографии. Если делить, как это делает Базен, кинематограф на «условный» и «реальный» и связывать именно с монтажом границу между ними, то ускользнёт из внимания другой аспект: в кинематографе 1920-х годов то направление, которое избегало острых монтажных решений и тяготело к «большим кускам» ленты, отличалось резкой условностью актёрской игры. Монтажный же кинематограф тяготел к подбору типажей и, ориентируясь на хронику, стремился сблизить поведение актёра на экране и в жизни. Таким образом, каждый из отмеченных Базеном видов кинематографа имел свой тип условности, и современный кинематограф не есть автоматическое продолжение одной из тенденций, а сложный их синтез. Не автоматическое отсечение какой-либо из двух противонаправленных составляющих, а диалектическое их противоречие обуславливает эффективность механизма киновоздействия.
Показательно, что, когда и монтаж, и актёрская игра достигли тех вершин жизнеподобия, которые свойственны периоду после второй мировой войны, одновременно возникла потребность в значительно более сложных и совершенных формах условности, самая сущность которых была бы связана с достижением реализма в кино.
Когда в целом ряде фильмов мы сталкиваемся с упорной тенденцией вынести на экран съёмку фильма, перед нами — стремление наиболее правдоподобное и жизнеподобное представить как сыгранное. Мы поймём, что дело здесь в чём-то более глубоком, чем мода и стремление к эффектам, если вспомним об аналогичных тенденциях в наиболее реалистической живописи. Приведём в качестве примера один из шедевров Веласкеса «Фрейлины».
Центральную часть полотна занимает с большой силой реализма написанная группа играющих девочек в придворных костюмах, придворных, карликов, собак (первоначально картина называлась «Семейство короля Филиппа IV»). Однако в левом углу расположен художник, пишущий картину. Перед ним полотно, которое мы видим с оборотной стороны. Но ведь художник на картине — сам Веласкес. Таким образом, то, что мы видим перед собой — картина Веласкеса — показана нам в углу самой себе с оборотной стороны.
Включение в полотно художника, внесение рисуемой им картины в срисовываемую действительность — такое же соединение предельно реального изображения с подчёркиванием, что это именно изображение, то есть условность, как и в «Восемь с половиной» или «Все на продажу».
Наконец, в глубине полотна мы видим стену, увешанную картинами, добавляющими к реальному пространству комнаты, переданному средствами живописи, условное пространство живописи, переданное средствами живописи же. И, наконец, в глубине картины — зеркало, в котором отражается то, что видит художник и что изображено на скрытой от нас поверхности его картины. Для нас, в данном случае, интересна не смелость, с которой Веласкес разрывает плоское пространство полотна, а стремление поменять субъект и объект местами, создав картину о картине (8).
Аналогичным примером в реалистической прозе может быть «Рассказ об одном романе» М. Горького (1924 год) с демонстративным смешением «героев из жизни» и «из романа» в едином условном сюжете.
***
1. С. Эйзенштейн. Избр. произведения в шести томах, т. 2, стр. 283
2. Там же, стр. 331–332
3. Воззрения Базена изложены в широко известной четырёхтомной работе: Апdre Вагiп. Qu'est-ce que le cinema?, vol. I–IV. Русский перевод статьи «Эволюция киноязыка», опубликовав в т. 1 (1958), напечатан в сб. «Сюжет в кино», вып. 5, М» «Искусство», 1965, по которому мы цитируем его; см. стр. 312
4. См.: I. Fonagy. Informationsgehalt von Wort und Laut in der Dichtung. «Роеtics. Роеtуkа. Поэтика». Warszawa, 1961
5. Об этом см. в кандидатской диссертации В. А. Зарецкого «Семантика и структура словесного художественного образа», 1965
6. Ср. известное положение теории информации: чем ограниченнее алфавит системы и чем больше помех (шума) в канале связи, тем пространнее должен быть текст, передающий некоторую константную величину информации
7. Ф. Скотт Фицджеральд. Ночь нежна. М., 1971, стр. 352–353
8. См.: М. Foucault. Lеs mots et les choses. 1966, р. 318–319