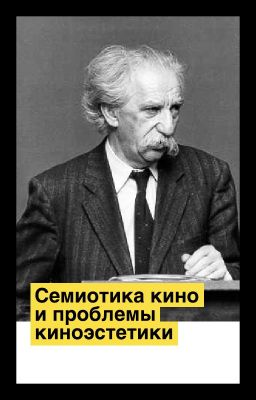Глава первая. Иллюзия реальности
Всякое искусство в той или иной мере обращается к чувству реальности у аудитории. Кино — в наибольшей мере. В дальнейшем мы остановимся на том, какую роль сыграла фантастика, начиная с фильмов Мельеса, в превращении кинематографа в искусство. Но «чувство реальности», о котором здесь идёт речь, заключается в ином: каково бы ни было происходящее на экране фантастическое событие, зритель становится его очевидцем и как бы соучастником. Поэтому, понимая сознанием ирреальность происходящего, эмоционально он относится к нему, как к подлинному событию (1). С этим, как мы увидим в дальнейшем, связаны специфические трудности передачи кинематографическими средствами прошедшего и будущего времени, а также сослагательного и других ирреальных наклонений в киноповествовании: кино, по природе своего материала, знает лишь настоящее время, как, впрочем, и другие пользующиеся изобразительными знаками искусства. Применительно к театру это было отмечено Д. С. Лихачёвым. Эмоциональная вера зрителя в подлинность показываемого на экране связывает кинематограф с одной из наиболее существенных в истории культуры проблем.
Все технические усовершенствования — обоюдоострые орудия: призванные служить социальному прогрессу и общественному добру, они столь же успешно использовались и для противоположных целей. Одно из величайших достижений человечества — знаковая коммуникация — не избежало той же участи. Призванные служить информации, знаки нередко использовались с целью дезинформации. «Слово» неоднократно выступало в истории культуры как символ мудрости, знания и правды (ср. евангельское: «В начале было слово») и как синоним обмана, лжи (гамлетовское: «Слова, слова, слова», гоголевское: «Страшное царство слов вместо дел»).
Отождествление знака и лжи и борьба с ними: отказ от денег, социальных символов, наук, искусств, самой речи — постоянно встречаются в античном, в средневековом мире, в различных культурах Востока, в новое время становятся одной из ведущих идей европейской демократии от Руссо до Льва Толстого. Процесс этот протекает параллельно с апологией знаковой культуры, борьбой за её развитие. Конфликт этих двух тенденций — одно из устойчивых диалектических противоречий человеческой цивилизации.
На фоне этого противоречия развивалось более частное, но весьма устойчивое противопоставление: «текст, который может быть ложным — текст, который не может быть ложным». Оно могло проявляться как оппозиция «миф — история» (в период, предшествовавший возникновению исторических текстов, миф относился к разряду безусловно истинных текстов), «поэзия — документ» и др. С конца XVIII века, в обстановке обострившихся требований истины в искусстве, авторитет документа быстро рос. Уже Пушкин ввёл в «Дубровского» как часть художественного произведения подлинные судебные документы той эпохи. Во вторую половину века место достоверного документа — антитезы романтическому вымыслу поэтов занял газетный репортаж. Не случайно к нему в поисках истины обращались прозаики от Достоевского до Золя, на него ориентировались поэты от Некрасова до Блока.
В обстановке быстрого развития европейской буржуазной цивилизации XIX века газетный репортаж пережил апогей своего культурного значения и быстрый его закат. Выражение «Врет, как репортер» свидетельствовало, что и этот жанр покинул, «клетку» текстов, которые могут быть только истинными и переместился в противоположную. Это место заняла фотография, которая обладала всеми данными безусловной документальности и истинности и воспринималась как нечто противоположное культуре, идеологии, поэзии, осмыслениям любого типа — как сама жизнь в своей реальности и подлинности. Она прочно заняла место текста наибольшей документированности и достоверности в общей системе текстов культуры начала XX века. И это было признано всеми — от криминалистов до историков и газетчиков.
Кинематограф как техническое изобретение, ещё не ставшее искусством, в первую очередь, был движущейся фотографией. Возможность запечатлеть движение в ещё большей мере увеличила доверие к документальной достоверности фильмов. Данные психологии доказывают, что переход от неподвижной фотографии к подвижному фильму воспринимается как внесение объёмности в изображение. Точность воспроизведения жизни, казалось, достигла предела.
Следует, однако, подчеркнуть, что речь идёт не столько о безусловной верности воспроизведения объекта, сколько об эмоциональном доверии зрителя, убеждении его в подлинности того, что он видит собственными глазами. Все мы знаем, как непохожи, искажающи бывают фотографии. Чем ближе мы знаем человека, тем больше несходства обнаруживаем в фотографиях. Для каждого человека, лицо которого нам действительно знакомо, мы предпочтём портрет хорошего художника равной ему по мастерству фотографии. В нём мы найдём больше сходства. Но если нам предоставят портрет и фотографию неизвестного нам человека и попросят выбрать более достоверное, мы не колеблясь остановимся на фотографии, — таково обаяние «документальности» этого вида текста.
Казалось бы, напрашивается вывод о том, что документальность и достоверность кинематографа предоставляют ему такие изначальные выгоды, которые, просто в силу технических особенностей данного искусства, обеспечивают ему большую реалистичность, чем та, которой довольствуются другие виды художественного творчества. К сожалению, дело обстоит не столь просто: кино медленно и мучительно становилось искусством, и отмеченные выше его свойства были и союзниками, и препятствиями на этом пути.
В идеологическом отношении «достоверность», с одной стороны, делала кино чрезвычайно информативным искусством и обеспечивала ему массовую аудиторию. Но, с другой стороны, именно это же чувство подлинности зрелища активизировало у первых посетителей кинематографа те, бесспорно, низшего порядка эмоции, которые свойственны пассивному наблюдателю подлинных катастроф, уличных происшествий, которые питали квазиэстетические и квазиспортивные эмоции посетителей римских цирков и сродни эмоциям современных зрителей западных автогонок. Эту низменную зрелищность, питаемую знанием зрителя, что кровь, которую он видит — подлинная и катастрофы — настоящие, эксплуатирует в коммерческих целях современное западное телевидение, устраивая репортажи с театра военных действий и демонстрируя сенсационные кровавые драмы жизни.
Для того, чтобы превратить достоверность кинематографа в средство познания, потребовался длительный и нелёгкий путь.
Не менее сложные проблемы возникали при попытках эстетического освоения кинодостоверности. Фотографическая точность кинокадров затрудняла, а не облегчала рождение кино как искусства.
Обстоятельство это, хорошо известное историкам кинематографа, получает достаточно ясное подтверждение в общих положениях теории информации. Иметь значение, быть носителем определённой информации может далеко не всякое сообщение. Если мы имеем цепочку букв: А–В–С и заранее известно, что после А может последовать В и только В, а после В–С только С, весь ряд окажется полностью предсказуемым уже по первой букве («полностью избыточным»). Высказывания типа «Волга впадает в Каспийское море» для человека, которому это уже известно, никакой информации не несут. Информация — исчерпание некоторой неопределённости, уничтожение незнания и замена его знанием. Там, где незнания нет, нет информации. «Волга впадает в Каспийское море», «Камень падает вниз» — оба эти высказывания не несут информации, поскольку являются единственно возможными, им нельзя построить в пределах нашего жизненного опыта и здравого смысла альтернативного высказывания (напомним слова Нильса Бора о том, что нетривиальное высказывание — такое, обратное утверждение к которому не есть очевидная бессмыслица).
Но предположим, что мы имели бы цепочку: где после события В могли бы последовать С или D (предположим, что с равной степенью вероятности). Тогда сообщение:
«Имело место
А – В – С
или
А – В – D»
заключало бы в себе известную минимальную информацию. Таким образом, величина потенциальной информации зависит от наличия альтернативных возможностей. Информация противоположна автоматизму: там, где одно событие автоматически имеет следствием другое, информации не возникает. В этом смысле переход от рисунка: к фотографии, бесконечно повышая точность воспроизведения объекта, резко понижал информативность отображения: объект отражался в изображении автоматически, с необходимостью механического процесса.
Художник имеет бесконечное (вернее, очень большое) количество возможностей выбора того, как отобразить объект, нехудожественная фотография устанавливает здесь единую автоматическую зависимость. Искусство не просто отображает мир с мёртвенной автоматичностью зеркала — превращая образы мира в знаки, оно насыщает мир значениями. Знаки не могут не иметь значения, не нести информации. Поэтому то, что в объекте обусловлено автоматизмом связей материального мира, в искусстве становится результатом свободного выбора художника и тем самым приобретает ценность информации.
В нехудожественном мире, в мире объекта, сообщение: «Земля находилась внизу, а небо наверху» (если описывается впечатление Земного наблюдателя, а не лётчика) — тривиально и никакой информации не несёт, поскольку не имеет не абсурдной альтернативы. Но в фильме Чухрая «Баллада о солдате», в момент, когда фашистский танк преследует задыхающегося, бегущего из последних сил Алёшу, изображение на экране оборачивается: кадр перевёрнут, и танк ползёт вверх гусеницами по верхнему краю экрана, нависая башней над упавшим вниз небом. Когда кадр возвращается в нормальное положение и небо оказывается вверху, а земля внизу, сообщение об этом оказывается уже далеко не тривиальным (у зрителей вырывается вздох облегчения): мы знаем теперь, что нормальное положение неба и земли — неавтоматическое отражение фотографируемого объекта, а результат свободного выбора художника. Именно поэтому сообщение: «Небо сверху/земля снизу», которое в нехудожественном контексте не значит ничего, здесь оказывается способным нести необычайно важную информацию: герой спасся, в единоборстве с танком наступил перелом. Переход к следующим кадрам — горящему танку — закономерен.
Цель искусства — не просто отобразить тот или иной объект, а сделать его носителем значения. Никто из нас, глядя на камень или сосну в естественном пейзаже, не спросит: «Что она значит, что ею или им хотели выразить?» (если только не становиться на точку зрения, согласно которой естественный пейзаж есть результат сознательного творческого акта). Но стоит воспроизвести тот же пейзаж в рисунке, как вопрос этот сделается не только возможным, но и вполне естественным. Теперь нам становится ясно, что фотография и неподвижная, и движущаяся, будучи великолепным материалом искусства, одновременно была материалом, который надо было победить, материалом, самые выгоды которого вызывали к жизни огромные трудности. Фотография сковывала произведение искусства, подчиняя огромные области текста автоматизму законов технического воспроизведения. Следовало их отвоевать у автоматического воспроизведения и подчинить законам творчества.
Не случайно каждое новое техническое усовершенствование прежде, чем стать фактом искусства, должно быть освобождено от технического автоматизма. Пока цвет определялся техническими возможностями плёнки и лежал за пределами художественного выбора, он не был фактом искусства, на первых порах сужая, а не расширяя гамму возможностей, из которой режиссёр выбирал своё решение. Только когда цвет стал автономен (ср. литературный образ «чёрного солнца»), подчиняясь каждый раз замыслу и выбору режиссёра, он был введён в сферу искусства. Поясним нашу мысль примером из литературы. В «Слове о полку Игореве» есть исключительно поэтический образ: в исполненном грозных предвещаний сне князю наливают синее вино. Однако есть основания полагать, что в языке XII века «синее» могло означать «тёмно-красное», и в подлинном тексте — не поэтический образ, а простое указание на цвет. Очевидно, что для нас это место сделалось художественно более значимым, чем для читателей XII века. Произошло это именно потому, что семантика цвета сдвинулась и «синее вино» стало сочетанием двух слов, соединение которых возможно лишь в поэзии.
Не менее показательны трудности, которые поставило перед кинематографом изобретение звука. Известно, что такие мастера, как Чаплин, отнеслись к звуку в кино резко отрицательно. Стремясь «победить» звук, Чаплин в «Огнях большого города» пустил речь оратора, открывающего памятник Процветанию, с неестественной скоростью, подчинив тембр речи не автоматизму воспроизводимого объекта, а своему замыслу художника (речь превращалась в щебетанье), а в «Новых временах» исполнил песенку на выдуманном — «никаком» языке: смешаны были слова английского, немецкого, французского, итальянского и еврейского (идиш) языков.
С более обоснованной программой выступили ещё в 1928 году советские режиссёры Эйзенштейн, Александров и Пудовкин. Они отстаивали тезис, согласно которому сочетание зрительного и звукового образов должно быть не автоматическим, а художественно мотивированным, указав, что именно сдвиг обнажает эту мотивированность. Путь, указанный советскими режиссёрами, оказался ведущим при соотнесении не только изображения и звука, но и фотографии и слова. Когда Вайда в «Пепле и алмазе» передаёт зрителям слова речи банкетного оратора, камера уже покинула зал празднества, и на экране — общественная уборная, в которой старуха-уборщица ждёт первых пьяных. В «Хиросима, любовь моя» героиня-француженка рассказывает своему возлюбленному-японцу про долгие дни одиночества в подвале, где её когда-то спрятали родители от гнева сограждан, преследовавших её за любовь к немецкому солдату. Только кошка появлялась в тёмном подвале. Когда эти слова звучат в зале, кошка не показывается на экране. Её глаза засверкают в темноте позже, когда рассказ героини уйдёт далеко вперёд.
Техника обеспечила возможность строгой синхронности звука и изображения и дала искусству выбор соблюдать или нарушать эту синхронность, то есть сделала её носителем информации. Речь, таким образом, идёт совсем не об обязательности деформации естественных форм объекта (установка на постоянную деформацию, как правило, отражает младенчество того или иного художественного средства), а о возможности деформации и, следовательно, о сознательном выборе художественного решения в случае её отсутствия.
Фактически вся история кино как искусства — цепь открытий, имеющих целью изгнание автоматизма из всех звеньев, подлежащих художественному изучению. Кино победило движущуюся фотографию, сделав её активным средством познания действительности. Воспроизводимый им мир — одновременно и самый объект, и модель этого объекта. Всё дальнейшее изложение, в значительной мере, будет посвящено описанию средств, которыми пользуются кинематограф в борьбе с «сырой» естественностью во имя художественной правды.
И всё же следует снова подчеркнуть, что, борясь с естественной схожестью кинематографа и жизни, разрушая наивную веру зрителя, готового отождествить эмоции от кинозрелища с переживаниями, испытываемыми при взгляде на реальные события, вплоть до вульгарной жажды острых переживаний от подлинных трагических зрелищ, кино одновременно и борется за охранение наивного, пусть даже порой слишком наивного доверия к своей подлинности. Неискушённый зритель, не отличающий художественной ленты от хроники, конечно, далеко не идеал, но он в большей мере «зритель кино», чем критик, фиксирующий «приемы и ни на минуту не забывающий о «кухне» кинодела.
Чем больше победа искусства над фотографией, тем нужнее, чтобы зритель какой-то частью своего сознания верил, что перед ним — только фотографии, только жизнь, которую режиссёр не построил, а подсмотрел. За оживление этого чувства боролись именно те, кто одновременно строил киномир по сложным идеологическим моделям — от Дзиги Вертова и Эйзенштейна до итальянских неореалистов, французской «новой волны» или Бергмана.
Этому служит и включение в художественные фильмы кусков из подлинных хроник военных лет. В кинофильме Бергмана «Персона» героиня смотрит телевизор, передающий сцены самосожжения демонстранта. Сначала нам показаны лишь отблески от телеэкрана на лице героини и выражение ужаса — мы находимся в мире игрового кино. Но вот экран телевизора совмещается с киноэкраном. Мы знаем, что телевизор уводит нас из мира актёров, и становимся свидетелями подлинной трагедии, которая длится мучительно долго. Смонтировав подлинную жизнь и киножизнь, Бергман и подчеркнул художественную условность изображаемого им мира, и — искусство умеет это делать — заставил одновременно забыть об этой условности. Мир героинь фильма и мир телевизора — один мир, мир связанный и подлинный. Того же эффекта добивались авторы «Пайзы», когда снимали в одном из эпизодов освобождения Италии подлинный труп.
Как ни странно, с борьбой за доверие к экрану связано обилие сюжетов о создании киноленты, о кино в кино. Повышая чувство условности, «чувство кино» в зрителе, произведения этого типа как бы концентрируют киноусловность в эпизодах, воспроизводящих экран на экране: они заставляют воспринимать остальное как подлинную жизнь.
Это двойное отношение к реальности составляет то семантическое напряжение, в поле которого развивается кино как искусство. Пушкин определил формулу эстетического переживания словами: «Над вымыслом слезами обольюсь...»
Здесь с гениальной точностью указана двойная природа отношения зрителя или читателя к художественному тексту. Он «обливается слезами», то есть верит в подлинность, действительность текста. Зрелище вызывает в нём те же эмоции, что и самая жизнь. Но одновременно он помнит, что это — «вымысел». Плакать над вымыслом — явное противоречие, ибо, казалось бы, достаточно знания о том, что событие выдумано, чтобы желание испытывать эмоции исчезло бесповоротно. Если бы зритель не забывал, что перед ним экран или сцена, постоянно помнил о загримированных актёрах и режиссёрском замысле, он, конечно, не мог бы плакать и испытывать другие эмоции подлинных жизненных ситуаций. Но, если бы зритель не отличал сцены и экрана от жизни, и, обливаясь слезами, забывал, что перед ним вымысел, он не переживал бы специфически художественных эмоций. Искусство требует двойного переживания — одновременно забыть, что перед тобой вымысел, и не забывать этого. Только в искусстве мы можем одновременно ужасаться злодейству события и наслаждаться мастерством актёра.
Двуплановость восприятия художественного произведения (2) приводит к тому, что чем выше сходство, непосредственная похожесть искусства и жизни, тем, одновременно, обостреннее должно быть у зрителя чувство условности. Почти забывая, что перед ним произведение искусства, зритель и читатель никогда не должны забывать этого совсем. Искусство — явление живое и диалектически противоречивое. А это требует равной активности и равной ценности составляющих его противоположных тенденций. Многочисленные примеры этого даёт история кинематографа.
На заре кинематографа движущееся изображение на экране вызывало у зрителей физиологическое чувство ужаса (кадры с наезжающим поездом) или физической тошноты (кадры, снятые с высоты или при помощи раскачивающейся камеры). Эмоционально зритель не различал изображения и реальности. Но искусством киноизображение стало лишь тогда, когда комбинированные съёмки Мельеса позволили дополнить предельное правдоподобие предельной фантастикой на уровне сюжета, а монтаж (практическое изобретение которого исследователи приписывают то брайтонской школе, то Гриффиту, но теоретическое значение которого было осознано лишь благодаря опытам и исследованиям Л. Кулешова, С. Эйзенштейна, Ю. Тынянова, В. Шкловского и ряда других советских кинематографистов и учёных 1920-х годов) позволил обнажить условность в сочетании кадров.
Более того, само понятие «похожести», которое кажется столь непосредственным и исходно данным зрителю, на самом деле оказывается фактом культуры, производным от предшествующего художественного опыта и принятых в данных исторических условиях типов художественных кодов. Так, например, окружающий нас реальный мир многокрасочен. Поэтому отображение его в чёрно-белой фотографии — условность. Только привычка к этому типу условности, принятие связанных с нею правил дешифровки текста позволяют нам, глядя на небо в кадре, воспринимать его без каких-либо затруднений как безоблачно-синее. Различные оттенки серого мы воспринимаем в кадре, изображающем летний солнечный день, как знаки синего и зелёного цветов, и безошибочно устанавливаем и эквивалентность определённым цветовым денотатам (обозначаемым объектам).
При появлении цветного кино окрашенные кадры стали невольно соотноситься зрителем не только с многоцветной реальностью, но и с традицией «естественности» в кинематографе. Фактически более условное, чёрно-белое кино в силу определённой традиции воспринимается как исходная естественная форма. Айвор Монтегю приводит поразительный факт: «Когда Питера Устинова (3) спросили на телевидении, почему он снял «Билли Бадда» чёрно-белым, а не цветным, он ответил, что ему хотелось, чтобы фильм был правдоподобнее». Любопытен и комментарий А. Монтегю: «Странный ответ, но ещё более странно, что никто не нашёл в нём ничего странного» (4). Как видим, последнее не странно, а вполне закономерно.
Показательно, что в современных фильмах, использующих монтаж цветных и чёрно-белых кусков ленты, первые, как правило, связаны с сюжетным повествованием, то есть «искусством», а вторые представляют отсылки к заэкранной действительности. Характерна в этом отношении сознательная усложнённость этой соотнесённости в фильме А. Вайды «Всё на продажу» Фильм построен на постоянном смешении рангов: один и тот же кадр может оказаться отнесённым и к заэкранной реальности, и к сюжетному художественному кинофильму об этой реальности. Зрителю не дано знать заранее, что он видит: кусок действительности, случайно захваченной объективом, или кусок фильма об этой реальности, обдуманного и построенного по законам искусства. Перемещение одних и тех же кадров с уровня объекта на метауровень («кадр о кадре») создаёт сложную семиотическую ситуацию, смысл которой — в стремлении запутать зрителя и заставить его с предельной остротой пережить «поддельность» всего, ощутить жажду простых и настоящих вещей и простых и настоящих отношений, ценностей, которые не являются знаками чего-либо. И вот в этот зыбкий мир, где даже смерть превращается в дубль, вторгается простая «несыгранная» жизнь — похороны актёра. Этот кусок, в отличие от цветных кадров обоих уровней — событий жизни и их киновоспроизведения, — дан в двуцветных тонах. Это сама жизнь, не воспроизведённая режиссёром, а подсмотренная; выхваченный кусок, где все захвачены врасплох и поэтому искренни. Однако и здесь соотношение усложняется: камера отъезжает, и то, что мы сочли за кусок жизни, оказывается кинематографом в кинематографе. Обнажаются края экрана, показывается зал, в котором сидят те же люди, что сняты на экране, и обсуждают, каким образом превратить эти события в художественный фильм. Казалось бы, противопоставление снимается: игрой оказывается всё, и оппозиция «цветная лента — чёрно-белая» теряет смысл. Однако это не так. Даже введённая как кинематограф в кинематографе, двуцветная лента оказывается хроникальной, а не игровой. На фоне перепутанных игры и жизни, ставшей игрой, она выполняет функцию простой реальности. И не случайно именно в этом куске человек, стоящий вне киномира, зритель, говорит о том, что покойный артист при жизни был легендой, мифом, да и мог ли быть такой человек?
Именно это высказывание (вместе с лицом говорящего) становится той внетекстовой реальностью, которой эквивалентен весь сложный кинотекст, то есть значением ленты. Без этого фильм остался бы чем-то средним между лабораторным экспериментом по семиотике кино и сенсационным разоблачением тайн личной жизни кинозвёзд вроде «Частной жизни» Луи Маля.
Интересно, в этом смысле, решение А. Тарковского, который в «Андрее Рублеве» дал оригинальное художественное построение, воспринимаемое нами и как очень неожиданное, и как вполне естественное: сфера «жизни» решена средствами чёрно-белого фильма, что воспринимается нами как нейтральное кинематографическое решение. И вдруг в конце зрителю даются фрески, окрашенные чарующим богатством красок. Это не только заставляет остро пережить концовку, но и возвращает нас к фильму, давая альтернативу чёрно-белому решению и, тем самым, подчёркивая его значимость.
Итак, стремление кинематографа без остатка слиться с жизнью и желание выявить свою кинематографическую специфику, условность языка, утвердить суверенитет искусства в его собственной сфере — это враги, которые постоянно нуждаются друг в друге. Как северный и южный полюса магнита, они не существуют друг без друга и составляют то поле структурного напряжения, в котором движется реальная история кинематографа. Расхождения между Дзигой Вертовым и С. Эйзенштейном, споры о «прозаическом» и «поэтическом» кино в советском кинематографе 1920-1930-х годов, полемика вокруг итальянского неореализма, статьи А. Базена о конфликте между монтажом и «верой в действительность», лёгшие в основу французской «новой волны», снова и снова подтверждают закономерность синусоидного движения реального киноискусства в поле структурного напряжения, создаваемого этими двумя полюсами.
Интересно, в этом отношении, наблюдать, как итальянский неореализм двигался в борьбе с театральной помпезностью к полному отождествлению искусства и внехудожественной реальности. Активные средства его всегда были «отказами»: «отказ от стереотипного киногероя и типичных киносюжетов, отказ от профессиональных актёров, от практики «звёзд», отказ от монтажа и «железного» сценария, отказ от «построенного» диалога, отказ от музыкального сопровождения. Такая поэтика «отказов» действенна лишь на фоне памяти о киноискусстве другого типа. Без кинематографа исторических эпопей, киноопер, вестерна или голливудских «звёзд» она теряет значительную часть художественного смысла. Свою внехудожественную роль «крика о правде», о правде любой ценой, правде как условии жизни, а не средстве достижения каких-либо преходящих целей, это искусство могло выполнить лишь постольку, поскольку язык его воспринимался зрителем как беспощадный и бескомпромиссный. Тем показательнее, что дойдя до апогея «отказов» и утвердив свою победу, неореализм резко повернул в сторону воссоздания разрушенной условности.
Стремление Феллини к «метафильму» — фильму о фильме, анализирующему самое понятие правды («Восемь с половиной»), Джерми — к слиянию языка киноигры и национальной традиции комедии масок глубоко показательны.
Особенно же интересно движение Лукино Висконти — именно потому, что в его творчестве теоретик всегда господствует над художником. В 1948 году Висконти создал фильм «Земля дрожит» — одно из наиболее последовательных осуществлений поэтики неореализма. В этом фильме всё: от сицилийского диалекта, непонятного даже итальянскому зрителю, но демонстративно данного режиссёром без перевода (лучше непонятная, но вызывающая безусловное доверие документальной подлинностью, чем понятная, но подозреваемая в «художественности» лента) — до типажей, сюжета, структуры кинорассказа — протест против «искусственности искусства». Но уже в 1953 году он снял фильм «Чувство» — не бесспорный по решениям, но крайне интересный по замыслу. Действие перенесено в 1866 год, в дни восстания в Венеции и итало-прусско-австрийской войны. Фильм начинается музыкой Верди. Камера фиксирует сцену театра, на которой идёт представление оперы «Трубадур». Национально-героический ореол музыки Верди обнажённо становится системой, в которой кодируются характеры героев сюжета. Оторванная от контекста, лента поражает театральностью, открыто оперным драматизмом: (любовь, ревность, предательство, смерть сменяют здесь друг друга), откровенной примитивностью сценических эффектов и архаичностью режиссёрских приёмов. Однако в контексте общего движения искусства, в паре с «Земля дрожит», это получает иной смысл.
Искусство голой правды, стремящееся освободиться от всех существующих видов художественной условности, требует для восприятия огромной культуры. Будучи демократично по идеям, оно становится слишком интеллектуальным по языку. Неподготовленный зритель начинает скучать.
Борьба с этим привела к восстановлению прав сознательно- примитивного, традиционного, но близкого зрителю художественного языка. В Италии комедия масок и опера — искусства, чья традиционная система условности понятна и близка самому массовому зрителю. И кинематограф, дойдя до предела естественности, обратился к условной примитивности художественных языков, с детства знакомых зрителю.
Фильмы Джерми («Соблазнённая и покинутая» и, особенности, «Развод по-итальянски») шокируют зрителя безжалостностью, «цинизмом». Но следует вспомнить язык театра кукол и комедии масок, в которых смерть может оказаться комическим эпизодом, убийство — буффонадой, страдание — пародией. Безжалостность итальянского (и не только итальянского) народного театра органически связана с его условностью. Зритель помнит, что на сцене куклы или маски, и воспринимает их смерть или страдания, побои или неудачи не так, как смерть или страдания реальных людей, а в карнавально-ритуальном духе. Фильмы Джерми были бы невозможно циничны, если бы режиссёр предлагал нам видеть в его персонажах людей. Но, переводя содержание, обычное для социально-обличительного, гуманного фильма неореализма, на язык буффонады, он предлагает видеть в героях карнавальные маски, куклы. Плебейски грубый, ярмарочный язык его фильмов таит не меньше возможностей социальной критики, чем более близкий интеллигентному зрителю, восходящий к общеевропейской просветительной мысли, стиль очеловечивания актёра и гуманизации сцены. Если Леонковалло в «Паяцах» перевёл ярмарочную буффонаду на язык гуманистических представлений, то Джерми сделал противоположное: языком народного балагана он рассказывает о серьёзных проблемах современности.
Висконти избрал путь другой национально-демократической традиции — оперной. Только в отношении к этой традиции, с одной стороны, и к художественному языку фильма «Земля дрожит» — с другой, раскрывается авторский замысел «Чувства».
Таким образом, чувство действительности, ощущение сходства с жизнью, без которых нет искусства кино, не есть нечто элементарное, данное непосредственным ощущением. Представляя собой составную часть сложного художественного целого, оно опосредовано многочисленными связями с художественным и культурным опытом коллектива.
***
1. «Реальность» кино в этом смысле исследовал: Christian Mets. Essais sur la signification au cinema, ed. Klincksieck, Paris. 1968, p. 13–24
2. Подробнее см. Ю.М.Лотман. Тезисы к проблеме «Искусство в ряду моделирующих систем». Труды по знаковым системам III. Учёные записки Тартуского государственного университета, вып. 198, Тарту, 1967, стр. 130–145
3. Питер Устинов — английский актёр и режиссёр. Фильм «Билли Бадд» (1962) демонстрировался на III Московском международном фестивале
4. Айвор Монтегю. Мир фильма. Л., «Искусство», 1969, стр. 88