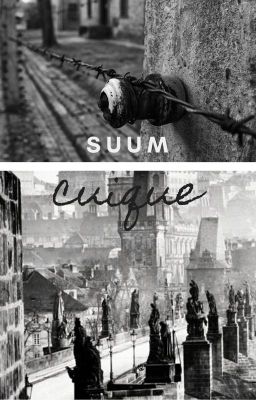Suum cuique
Прага, 1957 г.
Пасмурным, промозглым апрельским днем в пивной «У каштана» было, как всегда, сумрачно и душно. Рабочий день еще не кончился, и поэтому посетителей было немного — так что, когда тяжелая дверь приоткрылась, пропуская в зал худощавую, темноволосую девицу, во всем облике и движениях которой скупое, почти танцевальное изящество мешалось со странной болезненной настороженностью, мало кто обратил на нее внимание. Разматывая шарф и снимая на ходу пальто, бесформенное, как будто слишком тяжелое для ее хрупкой фигуры, девица прошла к столику в дальнем углу зала, за почерневшим зевом камина, с трудом источающего слабые отголоски тепла. Меньше всего можно было сказать, что она выглядит завсегдатаем местечек, подобных этому, но, несмотря на это, выглянувший из-за стойки хозяин узнал ее тут же. Оставив общество немногочисленных забулдыг, предусмотрительно расположившихся поближе к пивному крану, хозяин приблизился к посетительнице, чтобы поприветствовать ее почтительным, едва ли не нежным пожатием руки.
— Анна, дорогая, — произнес он с шутливым укором, — ты сегодня рано.
Она только улыбнулась ему, но ничего не ответила; тогда он, поняв, что лишние расспросы будут неуместны, привычно осведомился:
— Как обычно?
— Да, — кивнула она и добавила немного взволнованно, будто с трудом решившись произнести, — только... я буду грог. Вместо чая. Хорошо?
Хозяин только вскинул брови. Судя по его виду, раньше он не замечал за своей знакомой пристрастия к крепким напиткам.
— Очень замерзла, — проговорила она, встречая его недоуменный взгляд. — Хочу согреться...
Лицо хозяина несколько разгладилось.
— Это конечно, — понимающе произнес он, прежде чем удалиться, — это дело хорошее.
Ни настойки, ни меда для гостьи он не пожалел и дымящуюся, доверху наполненную кружку принес ей тут же; затем на столе появилась тарелка с хлебом и блюдо со свичковой. Анна принялась за еду, но видно было, что та весьма мало занимает ее; возможно, реши хозяин подшутить и подложи в тарелку вместо мяса куски резины, обильно сдобренные раствором щебенки, девица бы вовсе этого не заметила. Отрешенное, задумчивое, в чем-то горестное выражение не сходило с ее лица; иногда она морщилась, как от неприятного воспоминания, и жмурилась, чтобы не дать слезам выкатиться из глаз, но это не помогало ей избавиться от того, что так сильно ее беспокоило. Увлеченная своими переживаниями, она не заметила, как наступило время обеда, и зал оказался заполнен людьми; сонная, похмельная тишина в несколько минут оказалась сметена многоголосым гомоном, чьим-то смехом, звоном кружек — служащие из контор по соседству не отказывали себе в том, чтобы подкрепиться порцией-другой пива, а кое-кто, посмелее, не отказывал себе и в рюмке сливовицы. Анна, впрочем, обращала немного внимания на этот шум — расправившись со свичковой, она задержалась за столом, чтобы допить грог (крепость была ей непривычна, и поэтому она могла делать лишь маленькие опасливые глотки), и в этот момент дверь пивной распахнулась в очередной раз — и девица, бросив случайный взгляд в сторону нового посетителя, едва не выпустила кружку себе на колени.
На самом деле, никто не смог бы сказать, что именно в обличье вошедшего заставило ее смертельно побледнеть и в выражении немого ужаса приоткрыть рот, точно она увидела ожившее древнее чудовище. Даже хозяин, заметив крайнее замешательство своей гостьи, посмотрел на того с подозрением, но решительно ничего примечательного в нем не обнаружил. Это был человек неопределенного возраста, с некогда привлекательным, но ныне отдуловатым, оплывшим лицом, с которого не сходила гримаса мрачного безразличия; оказавшись за одним из столиков, человек заказал порцию жаркого, пива и сливовицы, и в ответ на испытующий взгляд хозяина показал ему, вздохнув, извлеченные из кармана мятые, но вполне настоящие на вид купюры.
Больше вопросов к нему быть не могло, и хозяин удалился на кухню, а посетитель, подперев ладонью подбородок, уставился поверх голов всех присутствующих в стену напротив своего столика. Взгляд его бесцельно блуждал из стороны в сторону, ни на чем не останавливаясь; Анна, сама не своя от охватившего ее ужаса, попыталась забиться дальше за камин, но в общем-то в этом не было ни малейшей нужды — гость, погруженный в тяжелое, мерзлое оцепенение, не заметил бы ее и так.
Ему принесли заказ, и он, явно никуда не торопясь, принялся расправляться с поданной ему едой. Что до Анны, то она оставалась на своем месте, боясь даже шевельнуться, и чем больше времени проходило, тем больше ее одолевало смятение. Пару раз она озиралась, чтобы найти взглядом хозяина, но не решалась даже поднять руку и привлечь его внимание; несколько раз ее лицо искажалось, будто она готовилась закричать во весь голос, но в последний момент удерживала себя от этого. Покинуть зал, рискуя быть замеченной так напугавшим ее посетителем, она не могла тоже, и все, что оставалось ей — ждать подходящей возможности сделать это. Может быть, в какой-то момент выдержка изменила бы ей, но судьба решила не подвергать ее такому испытанию — допив пиво и осушив рюмку, гость заказал еще, а сам, поднявшись из-за стола, направился в сторону уборной. Понимая, что это ее шанс, Анна почти стремглав бросилась из зала, едва не забыв при этом заплатить.
— Ты в порядке? — участливо осведомился хозяин, глядя, как она силится раскрыть кошелек, а пальцы ее трясутся, как у последнего пьяницы. — Может, кого-нибудь позвать?
Анна подняла на него глаза, и взгляд ее был до того диким, что хозяин невольно отступил.
— Не надо... не надо, — повторила она, точно думая, что с первого раза ее не поймут, и убежала прочь, не став дожидаться сдачи. Никто не остановил ее, никто не преследовал; с трудом придя в себя, она беспрепятственно добралась до своего дома — тесной, маленькой квартиры, расположенной на третьем этаже бывшего доходного дома в Жижкове, а тем же вечером отправилась на Винограды — навестить господина Клавичека, престарелого хирурга, которому уже несколько месяцев за скромную плату помогала с ведением хозяйства.
Господин Клавичек много лет жил один: война забрала у него сына, а тяжелая болезнь — жену; единственные оставшиеся у него родственники — дочь и ее семья, — жили в Брно и последнее время не так часто навещали его. С Анной они познакомились случайно — он разместил в газете объявление о поиске экономки, а она, хоть и получала в университете весьма достойную стипендию, в свободное от своих изысканий время хваталась за любой заработок. Оба не прогадали: очень скоро их отношения значительно потеплели, из сугубо деловых превратившись в почти родственные; господин Клавичек не скрывал, что привязался к своей юной знакомой, и она, не имевшая больше близких друзей в Праге, ценила это отношение, иногда обращаясь к старику за помощью или советом. Неизвестно, желала ли она с самого начала рассказать о том, какое потрясение ее постигло днем, но он, с возрастом не утративший зоркости и проницательности, понял, что что-то случилось, едва увидел ее на пороге.
— Вы сама не своя, — заметил он, глядя, как она снимает верхнюю одежду и торопливо проходит в гостиную. — Что-то не так с вашими архивными поисками? Вам не удалось что-то узнать?
— Напротив, — ответила она, с трудом справляясь с собой, — узнала больше, чем думала... наверное, больше, чем могу выдержать.
— Вы не расскажете?
Анна обернулась, глядя в его лицо, высохшее, испещренное морщинами, но все еще не утратившее некоего обаяния.
— Вряд ли эта история будет вам интересна, — произнесла она, колебаясь. — Вдобавок, мне нужно протереть пыль, и...
— Анна, Анна, любезная, — пожилой врач протестующе замахал руками, — вы видели себя в зеркало? Уборка легко может подождать! Мне кажется, выговориться вам просто необходимо. Если наша беседа затронет какой-то секрет... клянусь, я его сохраню.
Свои слова он сопроводил доверительной, мягкой улыбкой, и, должно быть, именно она подкупила несчастную девицу. Анна вздохнула и понурилась, капитулируя, принимая чужую правоту; господин Клавичек усадил ее на диван, принес из кухни полный чайник ароматного, только что заваренного чая и сел в кресло напротив, сложив руки на животе и приготовившись слушать. Ни словом, ни жестом он не торопил свою собеседницу; Анна сделала несколько глубоких вдохов, собираясь с мыслями, и наполнила чаем стоящую перед ней чашку, прежде чем начать свое повествование.
— Мое детство прошло в Судетах, вы же знаете? Не мне вам рассказывать о судьбе этой бедной земли — да и, сказать по правде, я мало помню все то, что связано с войной. Когда она закончилась, все были рады — вот и все, что приходит мне на ум. Моя семья жила в небольшом городе недалеко от немецкой границы и владела гостиницей, которая только чудом не оказалась разрушена из-за бомбежек... спустя пару лет после того, как войне пришел конец, в одну из комнат, самую дешевую, расположенную на чердаке, вселился один человек.
Никто толком не знал его имени — он был крайне нелюдим и неразговорчив, подрабатывал где придется, а обществу людей предпочитал общество крепких напитков. Впрочем, никому он не делал никакого зла; мало кто интересовался им, разве что мы, дети, прозвали его «герр Призрак» — он вовсе не обижался, даже если мы называли его так в лицо, только криво усмехался и торопился уйти прочь. Мне тогда было около двенадцати; помню, что иногда мы гадали, кто он такой и откуда взялся.
— Он с войны, говорю вам точно, — сказала как-то Лекс, девчонка, живущая в доме по соседству (вернее сказать, у нее получилось «фочно» — как-то раз в драке ей сломали передний зуб, и с тех пор она шепелявила, но нимало от этого не страдала, наоборот, гордилась тем, что теперь может плевать через щель на два метра, лучше любого мальчишки), — может, сбежал из армии. Вот и прячется.
Другая девчонка, Альке, снисходительно покачала головой. Она была чуть старше нас обеих и на этом основании полагала, что куда лучше понимает жизнь и обстоятельнее относится к ней.
— Знаю я эту породу, — сказала она со значением, — он был в лагере. Вот и такой. Все они, кто оттуда, одинаковые, как будто у них глаза выжгли.
Тогда я подумала, что она может быть права, и ее слова отозвались во мне легкой дрожью. Кое-что я слышала о лагерях уже тогда, но услышанному сопротивлялась, старалась о нем не думать — наверное, это был инстинкт, предписывающий держаться подальше, даже мысленно, от чего-то настолько ужасного. Я не стала отвечать Альке, и тот разговор прекратился, но спустя несколько дней я увидела кое-что, что могло подтвердить ее догадку.
Как-то поутру я принесла герру Призраку его завтрак; он крепко спал, наверное, приняв накануне изрядную дозу шнапса, и даже не пошевелился, когда я зашла. Его правая рука была выпростана из-под одеяла, и я, ставя поднос рядом с его кроватью, увидела на внутренней стороне ее запястье расплывчатое синеватое пятно — след татуировки, которую он, видимо, пытался свести, но которая так и осталась чем-то вроде клейма, навсегда въевшегося в его кожу. Я замерла, как оглушенная, понимая, что Альке была права, но мое потрясение длилось недолго — герр Призрак громко всхрапнул, и я, понимая, что увидела нечто, не предназначенное для моих глаз, решила побыстрее сбежать.
Мы никогда не заговаривали с ним об этом. Иногда я задумывалась, знает ли он, что я случайно раскрыла его секрет, но ничего в его поведении не могло дать мне хотя бы намека на ответ на этот вопрос.
Анна прервалась, чтобы взять остывшую чашку, но замерла, так и не донеся ее до рта. Горло у нее сдавило, и она чувствовала себя не в силах сделать глоток; быстрым, вороватым жестом она вернула чашку на место.
— Как я понимаю, — негромко произнес господин Клавичек, посылая ей сочувственный взгляд, — это далеко не конец истории?
— Это лишь начало, — подтвердила она едва слышно и, с трудом заставляя голос окрепнуть, продолжила. — Еще один случай, связанный с ним, крепко отпечатался в моей памяти. Это произошло через пару месяцев после той утренней сцены — я зашла к герру Призраку, чтобы отдать ему постиранные вещи, и он, завидев меня, спросил:
— Кто это играет на скрипке по вечерам? Бывает, что я слышу...
Его слова меня смутили. Искусству игры меня обучал еще один постоялец, молодой человек по имени Северин; до того, как лишиться на войне пальцев левой руки, он играл весьма недурно, по его же собственным словам, и его даже звали выступать в Пражской консерватории. Увечье, впрочем, нисколь не убавило его веселости; заниматься с ним было легко и приятно, но матушка дала мне разрешение на эти уроки лишь при условии, что они не будут беспокоить других гостей. Теперь выяснилось, что мы тревожили спокойствие герра Призрака, и я, не зная, нужно ли мне извиняться перед ним за это, не сразу смогла ответить.
— Это... это я, — наконец призналась я, опуская голову. Я ожидала отповеди, требования перестать терзать его слух каждый вечер, может, даже угрозы нажаловаться моим родителям, но ничего из этого не последовало; решившись посмотреть на него, я вздрогнула, поняв, что взгляд его совершенно остекленел, из лица ушла вся кровь, и теперь, пожалуй, его вид соответствует его прозвищу более, чем когда-либо.
— Хочешь заработать несколько крон? — внезапно спросил он, и от того, как звучал его голос, по моей спине пробежали мурашки. — Приди после ужина ко мне. И не забудь скрипку.
Не буду скрывать, что его просьба показалась мне чрезвычайно странной, но в тот момент я не увидела в ней ничего подозрительного или угрожающего. Добавлю, что соблазнила меня и возможность получить деньги: времена были не самыми легкими, и родители редко баловали меня сладостями, поэтому я многое бы отдала за то, чтобы купить себе что-нибудь самостоятельно. В общем, тем же вечером я, прихватив скрипку, зашла к герру Призраку. Он стоял, отвернувшись к окну, и даже не взглянул на меня — в первую секунду я успела решить, что он забыл о нашем уговоре, но он, несомненно, услышав мои шаги за своей спиной, отрывисто скомандовал:
— Закрой дверь. Можешь начинать.
— Что вы хотите услышать? — спросила я, устраивая скрипку на плече и готовясь провести смычком по струнам. Он ответил не сразу, но мне показалось, что он не размышляет над ответом, а просто не решается произнести его вслух.
— Хабанеру из «Кармен», — наконец бросил он с нарочитой небрежностью и, кажется, даже затаил дыхание. Эта вещь была мне неплохо знакома; я сыграла ее почти без помарок, а он слушал, не удостаивая меня взглядом — сосредоточенная на игре, я плохо могла представить, чем в тот момент были заняты его мысли. Понравилось ли ему, я тоже не узнала — когда я закончила, он только и сказал глухо и сдавленно:
— Деньги на комоде.
Он не обманул: пять крон действительно дожидались меня у входа в комнату. Герр Призрак так и не обернулся ко мне, и я сочла за лучшее ничего не спрашивать и уйти. Эта сцена повторялась еще несколько раз в течение следующего месяца: я приходила, согласно его просьбе, и исполняла угодные ему отрывки, а он слушал, по-прежнему отвернувшись, и не взглянул на меня ни разу за все наши маленькие концерты. Не знаю, сколько бы еще так продолжалось, если бы однажды не...
Господин Клавичек, заметно взволнованный ее рассказом, поспешил спросить:
— Случилась какая-то беда?
— Можно сказать и так, — ответила Анна со скованной, неловкой улыбкой. — Скорее, просто несчастный случай. Мы с другими детьми играли в догонялки на улице недалеко от дома... и мне не повезло упасть, напоровшись на торчащий из земли прут. Наверное, оказалась задета артерия — было очень много крови, мои приятели, решив, что я умираю, в страхе разбежались... неизвестно, чем могло все кончиться для меня — больницы у нас не было, надо было ехать в город по соседству, и я могла бы успеть истечь кровью, прежде чем мне оказали помощь, — если бы не появился герр Призрак. Последнее, что я помню — как он склоняется надо мной, говорит мне что-то, чего я не могу разобрать... а затем я очнулась в больнице, где мне сказали, что он с необычайным умением остановил кровь и замотал рану, чем, возможно, спас мне жизнь. Я хотела поблагодарить его, когда оправлюсь, но узнала, вернувшись домой, что он исчез в тот же вечер, когда меня увезли — ничего никому не сказав и бросив в комнате почти все свои пожитки... Тогда я думала, что больше никогда о нем не услышу... и не пыталась искать его, ведь не знала даже его имени.
От прежнего беспримесного любопытства господина Клавичека не осталось и следа. Несомненно предчувствуя, какой будет истинная подоплека всего, о чем рассказывает его собеседница, старик хмурился, вздыхал и даже запускал машинальным жестом руку в нагрудный карман, пытаясь нащупать там сигаретную пачку. Но карман был пуст — курить господину Клавичеку настрого запретили еще пять лет назад, — и пожилой врач, лишенный своего единственного утешения, мог только шумно отхлебывать чай и изо всех сил соболезновать бедной Анне, которая опять очутилась в шаге от того, чтобы беспомощно и жалко заплакать.
— Признаться, до последнего времени я почти не вспоминала об этой истории, — заговорила она лихорадочно, не отрывая от лица господина Клавичека блестящих глаз. — Сейчас я учусь на историческом факультете, вы ведь уже знаете, и занимаюсь судетскими архивами. В последние годы стало возможно ознакомиться со многими документами, которые до этого считались засекреченными или утерянными... и я изучаю историю лагерей, которые немцы в изобилии построили в окрестностях моих родных мест. Многие люди, чьи родственники попали туда, до сих пор не знают, что с ними случилось... в этом я видела свою главную задачу и цель — вернуть им их семейную память.
— Я уже говорил вам, — заметил господин Клавичек, — то, что вы делаете, достойно высшей признательности.
Анна как будто не расслышала его похвалу. Сейчас она как никогда менее была склонна испытывать гордость за проделанную ею работу.
— На днях я обнаружила документы, которые пока никто не удосужился описать. Они связаны с небольшим лагерем, который был построен в пограничье и считался филиалом Дахау. В основном, заключенные там работали на производстве танковых двигателей... но был в этом лагере и так называемый «корпус номер семь», о котором даже некоторые надзиратели не говорили иначе как вполголоса. В этом бараке оказывались «нетрудоспособные» заключенные, над которыми проводились медицинские опыты... их отбирал лично комендант, полковник Эрих Тидельманн. Весьма одиозная личность — я уже встречала упоминания о нем в других источниках. Неизвестно, был ли он фанатиком или просто законченным мерзавцем... но на словах он был чрезвычайно предан идее расового превосходства и, по слухам, тщательно скрывал, что его собственная кровь не настолько «чиста», как он хочет показать. Чтобы больше соответствовать идеалу истинного арийца, он даже красил волосы... и, как говорили о нем, сделал несколько операций, чтобы изменить черты своего лица.
— Примечательный персонаж, — проговорил герр Клавичек.
— В высших кругах он был на хорошем счету. Ему доверяли, дали фактический карт-бланш на что угодно, что могло прийти ему в голову... и жизнь в лагере он организовывал целиком и полностью согласно своему вкусу. Он был большим ценителем искусства, этот Тидельманн — цитировал целыми отрывками античных авторов, обожал классическую поэзию и музыку... поэтому решил собрать из заключенных собственный оркестр, чтобы они развлекали его лично, его окружение и делегации иногда прибывающих к нему высокопоставленных «гостей». Об этом я узнала из дневника одного из надзирателей, который попался мне среди прочих бумаг. Автор оказал мне неоценимую услугу — он прилежно записывал все, чему стал свидетелем... сохранил даже несколько фотографий. И... должно быть, вы не представляете, что я испытала, когда увидела на одной из них своего старого знакомого.
— Примерно представляю, — проскрипел господин Клавичек, несколько бледнея; что до Анны, то по ее виду давно уже можно было судить, что она в нескольких шагах от того, чтобы лишиться сознания.
— Взгляните, — произнесла она одними губами, расстегивая бывшую при ней сумку и доставая оттуда несколько сложенных бумаг. Это оказались фотокопии недурного качества; кое-где чернила расплылись, но изображение все равно вышло достаточно четким, чтобы понять, кто изображен на потрепанной, надорванной с одного краю фотографии. Одной была исхудавшая, маленького роста девушка в лагерной робе, пристально смотрящая в камеру и вымученно давящая из себя улыбку, больше похожую на истерическую гримасу; в руках ее был крепко сжат скрипичный футляр, который она прижимала к себе так, будто то был ее новорожденный ребенок. Но большее внимание господина Клавичека привлек второй человек, запечатленный на фото — молодой мужчина, кажущийся совершенно безмятежным и довольным жизнью, покровительственно положивший руку девушке на плечо и улыбающийся так беззаботно, что его можно было принять за развеселого студента, а не за офицера СС — но об обратном слишком красноречиво говорил его мундир, вычищенный, с иголочки, с украшенным нашивками воротником.
«Наша первая скрипка», — было написано с обратной стороны фото; очевидно, со временем надпись подстерлась, и господину Клавичеку пришлось напрячь глаза, чтобы прочитать. Чуть ниже той же рукой было приписано: «Да здравствует великая Германия!».
Дрогнувшей рукой господин Клавичек протянул бумагу Анне. Та, аккуратно сложив лист, посмотрела на своего собеседника серьезно и прямо.
— Когда я увидела на руке герра Призрака след от татуировки, то, конечно, подумать не могла, что это могла быть свастика, эмблема СС или какой-то оккультный символ... Альке своими словами поневоле заставила меня думать в ином направлении, хотя, если задуматься, в итоге оказалась права. Герр Призрак действительно был в лагере, но не в качестве заключенного, — из груди Анны вырвался прерывистый вздох, будто кто-то резко ударил ее под дых, — он был одним из палачей.
***
«28 августа 1944
Наш Скворец (буду называть его так, уж больно быстро я привык к его прозвищу) нашел первую скрипку для оркестра господина полковника! Вернее, если точно сказать, мы вдвоем нашли — торчали на перроне, чтобы встретить очередной поезд с нашими, с позволения сказать, рабочими. Как обычно, поднялся адский шум и гам: их отбирали тут же, мужчин и крепких на вид женщин оставляли, а остальных грузили обратно в вагоны, чтобы везти дальше — скорее всего, в Польшу, но точно я не знаю. Конечно, не обошлось без криков и стонов — кого-то тут же и положили, зато остальные присмирели и стали вести себя тише. Скворец, наблюдая за всей этой суетой, только морщился и головой качал; чтобы отвлечься, я завел беседу на какую-то пустячную тему — вроде того, как мы обойдем все лучшие берлинские и парижские кабаре, стоит только войне закончится.
Скворец охотно поддержал разговор, и мы, продолжая болтать, двинулись вдоль перрона, послеживая за тем, как работают солдаты. К этой сутолоке они давно стали привычны, так что, по нашим меркам, все прошло почти спокойно. Я даже не думал, что может произойти что-то из ряда вон выходящее, но тут Скворец остановился так резко, что я чуть не вписался со всего маху в его плечо. А он, оказывается, вытаращился на какую-то девчонку лет шестнадцати, миленькую на лицо, но тощую и низкорослую; для работы она вряд ли годилась, но солдат перед тем, как засунуть ее обратно в вагон, попытался отобрать у нее что-то, что я поначалу принял за чемодан. Только через пару мгновений я понял, что сослепу мне показалось — не чемодан это был, а скрипичный футляр, и судя по тому, как девчонка вцеплялась в него, явно не пустой.
— Не отдам! — храбро пищала она, пытаясь упереться ногами в землю под собой, а солдат, раздражаясь все больше, болтал ее из стороны в сторону, как игрушку. — Она моя!
— Сволочь! — рявкнул тот, выпуская многострадальный футляр, и замахнулся на нее прикладом; я немало повеселился, увидев, как она ежится и прячет голову в плечи, но сокровище свое, чтоб ее, не отдает все равно. Удара, правда, она так не дождалась, потому что Скворец, на ходу отбросив недокуренную сигарету, решил вмешаться.
— Отставить! — заявил он, и солдат тут же бросил девчонку, чтобы вытянуться и отсалютовать ему. Скворец даже внимания не обратил на его приветствие — девчонка явно занимала его куда больше.
— Твоя, говоришь? — уточнил он, чуть наклоняясь к ней. Девчонка, нервно сглотнув, поспешила кивнуть. — Умеешь играть?
— Умею, — подтвердила она, глядя на него исподлобья. Его, правда, этот взгляд нисколько не впечатлил. Схватив ее за локоть, он оттащил ее в сторону, подальше от толпы; что до меня, то я следовал за ними, гадая, чем кончится эта сцена. Мы отошли, насколько это было возможно, от источника шума, и Скворец приказал девчонке, указав на футляр, который она продолжала упрямо волочь за собой:
— Сыграй мне.
Дважды повторять ей не пришлось. Он наблюдал за тем, как она извлекает из футляра скрипку и смычок, со странной сосредоточенностью.
— Что вы хотите услышать? — спросила она, и он ответил сразу, не раздумывая:
— Хабанеру из «Кармен».
Клянусь, на этом моменте я чуть не застонал в голос. Скворец последнее время просто помешался на этой опере — стоит зайти к нему, сразу заводит пластинку; похоже, даже я, в театрах всегда интересовавшийся исключительно прелестями певиц и танцовщиц, скоро выучу это треклятое музыкальное исчадие наизусть. Может быть, я выместил бы свое раздражение на девчонке, вздумай она допустить ошибку в игре — но она, стоило признать, сыграла безукоризненно, в чем-то вдохновенно, хотя окружающая нас обстановка мало к этому располагала. Мне показалось даже, что звуки, извлеченные движениями смычка, заглушили гомон, царящий на перроне, и тогда же меня осенила мысль — а не подсказать ли господину полковнику идею встречать новоприбывших оркестром? Может быть, музыка удержит их от того, чтобы устраивать лишнюю сумятицу при распределении.
— Хорошо, — сказал Скворец, чрезвычайно довольный, когда музыка смолкла. — Иди со мной. Себастиан, договорим позже? Мне нужно отвести ее к коменданту.
И потом он ее увел — а она даже не обернулась на тех, кого оставляла за своей спиной и в чьем незавидном обществе могла оказаться каких-то четверть часа назад».
— Мне с трудом удалось проследить за ее дальнейшей судьбой, — призналась Анна, рассеянно перебирая на коленях остальные сделанные ею фотокопии — на них были изображены испещренные мелким аккуратным почерком тетрадные листы. — Автор дневника, один из младших офицеров, иногда писал о ней... первые месяцы она провела в бараке среди рабочих, но была не только занята на фабрике, но и играла для Тидельманна и его гостей по вечерам. Это не способствовало ее взаимопониманию с товарищами по несчастью: как я поняла из одной записи, однажды ее жестоко избили собственные соседки, и после этого ее перевели в число служащих «барака номер семь». Она убирала помещения после операций, и я боюсь вообразить, чему ей приходилось быть свидетельницей во время этой работы. Затем ей удалось подняться еще на ступень выше — если, конечно, это можно так назвать, — тот человек, которого я называла герром Призраком, а автор дневника Скворцом, сделал ее своей личной прислугой.
Господин Клавичек выразительно кашлянул, и тут же поджал губы, сочтя свою реакцию на ее слова чрезмерно непристойной, но Анна вовсе не выглядела оскорбленной — совсем наоборот, ее побледневшие губы тронула легкая улыбка, одновременно горькая и понимающая.
— Мне пришла в голову та же мысль, что и вам. Я не искала ей подтверждений специально, но автор дневника, герр Себастиан, сам решил написать об этом.
«25 декабря 1944
Как приятно собраться с боевыми товарищами в сочельник на бокал вина! Даже герр Тидельманн удостоил нас своим присутствием и был, что с ним бывает не так уж часто, в отменном расположении духа: много смеялся, шутил, налегал на выпивку и закуски, а затем решил одарить своим вниманием нашу музыкантшу, прислуживавшую за столом. Она приблизилась к нему, чтобы наполнить его бокал, и в этот момент он что было силы шлепнул ее по заду — так звонко, что у меня, уж на что я и так был пьян, в ушах зазвенело. Не знаю, как девчонка умудрилась не пролить ни капли на скатерть: вообще по ее лицу можно было сказать, что шлепка, от которого могли сотрястись даже стоящие на столе бутылки, она будто вовсе не заметила.
— Она всегда так мила и приветлива? — засмеялся Тидельманн, хватая ее за руку и удерживая подле себя; она взбледнула, опустила глаза и стала похожа на восковую статую. — Не думал поучить это создание хорошим манерам?
Скворец как раз в это время закуривал, и дым от сигареты попал ему в глаза — ну или просто слова господина полковника до того его задели, что он сделал вид, будто его сейчас стошнит.
— Пусть ее, — процедил он раздраженно, — на ее месте другие бегали бы за мной, наперегонки задирая юбки...
Похоже, предмет разговора был ему далеко не безразличен — по крайней мере, на девчонку он исподтишка бросил взгляд, полный чего-то вроде обиды. Тидельманн этого, правда, не увидел или просто не придал никакого значения.
— Так надо проучить ее как следует, — заявил он, крепче сжимая ее руку; тут ее лицо стало совсем напоминать маску, но она так и не проронила ни звука. — Думаю, ночь-другая во втором или третьем корпусах пойдет ей на пользу...
Кто-то рассмеялся, и я сделал за компанию то же самое. Идея была великолепной, и надо же было какому-то зануде все испортить:
— Тогда надо будет сначала найти новую первую скрипку.
Тидельманн, конечно, был раздосадован, и было от чего — что во второй, что в третий корпус засунули недавно очередную порцию новоприбывших, и это было правдой — они бы от девчонки мокрого места не оставили.
— Ну так отправим ее в седьмой, — раздраженно сказал господин полковник, наконец выпуская девчонку — я думал, она шарахнется от него в ужасе, но она отошла от стола почти неслышным, семенящим шагом. На секунду мне показалось, что она даже перестала дышать.
— В седьмой? — переспросил Скворец, и изо рта его вырвался, поплыл над столом клуб дыма.
— Именно, — подтвердил Тидельманн, явно недовольный тем, что это обсуждение затянулось, — может, тогда она почувствует на своей шкуре всю выгоду своего нынешнего положения. Заодно и станет послушнее...
Повисшая пауза длилась недолго. Скворец отхлебнул из бокала и пожал плечами:
— Прекрасная мысль.
На девчонку он при этом даже не взглянул».
— Несчастная девочка, — проговорил господин Клавичек, качая головой, и Анна поспешно успокоила его:
— Ей повезло... если, конечно, это можно назвать везением. Операция, конечно, была для нее крайне болезненной — изучали действие сульфаниламида на бактерии гангрены, — но опыт оказался удачным. Вдобавок, ей только разрезали ногу, а не отняли ее полностью...
— Да, — повторил старик ошеломленно, — в той обстановке это иначе как везением не назовешь.
— После этого ее вернули Скворцу — очевидно, она все еще была нужна коменданту как первая скрипка оркестра. Правда, не знаю, заставило ли ее случившееся... ответить ему взаимностью, — произнесла Анна с нескрываемой брезгливостью, — наш знакомый герр Себастиан не пишет об этом ничего. В последний раз он упомянул о ней в дневнике незадолго до конца войны — в лагерь должен был прибыть с визитом друг Тидельманна, один из видных партийных бонз, некий N***, в сопровождении своей жены. В честь гостей устроили концерт... никого словно не волновало, что запах близкого поражения уже не витает в воздухе, а висит в нем плотной пеленой. И все же одолевавший всех невроз не мог оставаться скрытым: когда стало ясно, что девочка не может играть (очевидно, она была больна или истощена к тому моменту, как ее заставили выступать), Тидельманн пришел в крайнюю ярость...
«29 марта 1945
...ничего хуже, наверное, я в жизни не слышал. И куда только делось то очарование, которое я когда-то испытал от ее игры? Ор мартовских котов прозвучал бы более мелодично, чем то, что девчонка сделала с этой несчастной «Египетской ночью». Конечно, полковник не мог оставить это вопиющее издевательство безнаказанным. Костерил он ее так, что вздумай я записать здесь хоть часть его монолога — бумага точно воспламенится; затем он отвесил ей пару оплеух и поволок на улицу, на ходу срывая с нее одежду. В последнем ему помогли и подоспевшие часовые — в конце концов она осталась совершенно обнаженной, с одной только скрипкой в руках, под порывами холодного ветра (а хоть весна уже в разгаре, но ночи здесь бывают холодными, и иногда, выйдя ранним утром на улицу, я замечаю, как в лужах плавают миниатюрные островки изморози), и Тидельманн, направив на нее пистолетное дуло, приказал:
— Играй!
Она попыталась, конечно, провести по струнам смычком, но руки ее уже не слушались, и тогда господин полковник выстрелил в нее. Пуля прошла через плечо навылет; девчонка упала на колени, но скрипки не выпустила, и Тидельманн заорал не своим голосом:
— Играй!!!
(черт возьми, никаких слов, доступных человеческому языку, не хватит, чтобы описать, как звучал тогда его голос — мне повезло стоять в нескольких шагах от господина полковника, но я все равно ощутил, что готов наложить в штаны)
Даже обливаясь кровью, она все еще делала усилия, чтобы извлечь из своей скрипки какой-то звук, но господин полковник, как с ним бывает, вошел во вкус — выхватив у нее инструмент, одним ударом разбил его о землю, а потом остатком грифа с жалкими обрывками струн как следует вмазал ей по лицу. Она упала, и я увидел, что она как будто пытается дотянуться до выпавшего из ее руки смычка, но Тидельманн не дал ей этого сделать — еще одну пулю пустил прямо ей в запястье. Не могу вспомнить, кричала она или нет — меня, по правде, как оглушило выстрелами, хотя я слышал их, конечно, не впервые в жизни, и я подспудно ждал последнего, направленного девчонке в голову, но так и не дождался. Тому была причина — в этот момент на крыльцо вышли наши гости, и я (а вместе со мной, наверное, и господин полковник) вспомнил, что говорили о госпоже N***. — она чрезвычайно брезглива и не переносит вида трупов рядом с собой. Конечно, после проваленного концерта господин полковник не хотел разочаровывать ее еще больше.
— Убрать этот хлам, — приказал он, кивнув Скворцу, и тот подозвал часовых.
— В корпус номер семь.
Его приказ тут же исполнили. Девчонку унесли, и все стали возвращаться в дом, где нас дожидался сытный ужин; только вот не знаю, почудилось ли мне или нет, но Скворца то ли плохо слушались ноги, то ли он намеренно задержался на крыльце, чтобы проследить, куда волокут его девицу, и губы его в этот момент дрогнули и шевельнулись, будто он хотел помолиться, да вовремя опомнился. Впрочем, я решил слишком много не думать об этом. Был бы я Лейбнихтом, который давно метит на его место — обязательно шепнул бы Тильдеманну словечко, и тогда запел бы совсем по-другому наш скворчик! Впрочем, я не из тех, кто будет лишний раз лезть на рожон; вдобавок, мне и самому могло показаться — что только ни привидится в сумерках с пьяных глаз! — и тогда не поздоровилось бы уже мне самому».
В комнате стало как будто холоднее от воцарившейся густой тишины. Господин Клавичек сидел спокойно, осмысливая услышанное, и его внешнее безразличие передалось и его собеседнице.
— Она умерла в ту же ночь, ближе к утру, — сказала Анна, подводя под своим рассказом черту. — Мне удалось найти эпикриз и даже фото со вскрытия — смерть наступила от болевого шока... от его руки. Интересно, убил ли он ее лично? Он ведь руководил опытами и иногда лично брался за скальпель — и поэтому, когда помог мне, решил бежать, боясь, что его раскроют... Должно быть, он предположить не мог, что, когда встретит меня еще раз, я буду знать, кто он такой... да, я видела его сегодня. Он жив, хоть выглядит еще хуже, чем раньше... я была так потрясена, что не смогла поднять шум в первый момент, а потом для меня было уже поздно. Я многое передумала за те минуты, что просидела за столом, глядя на него, и решила в какой-то момент, что моя спасенная жизнь ценнее всех тех, что он забрал... ценнее жизни той, что теперь не может рассчитывать даже на посмертное воздаяние. Как трусливо с моей стороны... боюсь, теперь это останется со мной до конца моей жизни.
— Вы позволите взглянуть на эпикриз?
Вопрос господина Клавичека прозвучал неожиданно приземленно и этим Анну чуть отрезвил; не произнося более ни слова, она протянула старику оставшиеся бумаги, и он, надвинув очки на переносицу, погрузился в их изучение. Поначалу его лицо было озадаченным, затем на нем проступило понимание, а затем — до глубины души изумившая Анну улыбка.
— Что-то в моем рассказе вызвало у вас оптимизм?
Господин Клавичек оторвался от бумаг. Глаза его искрились; он казался помолодевшим как минимум лет на десять.
— Вы прекрасная, прилежная студентка, моя дорогая. И когда-нибудь вы обязательно станете замечательным историком, но вы не медик. Воссоздав по крупицам столь многое, вы едва ли смогли бы заметить то, что вижу я.
— Что вы видите? — спросила Анна хрипло: в горле у нее пересохло, а про существование перед собой наполненной чашки она давно позабыла.
— Все это, — господин Клавичек встряхнул злополучные бумаги, — составлено весьма правдоподобно... но вы же сами говорили, этой девочке было лет шестнадцать? На фото, заметьте, одно лишь тело, без лица... и оно принадлежит женщине старше двадцати пяти и вдобавок, скорее всего, имеющей ребенка.
Анна слушала его, широко распахнув глаза.
— Вскрывали эту женщину, судя по краям ран, жарким летом, но никак не ранней весной... и той девочке, вы сами говорили, разрезали и сшивали ногу? У женщины на фото тоже есть шрам... но такой разрез не мог быть оставлен хирургом, это случайная травма, которая, возможно, была получена ей в детстве. В общем, на фото другая женщина, умерщвленная много ранее, а эпикриз, скорее всего, подделка. Молодой человек сильно рисковал... наверняка он потратил ночь, чтобы найти хотя бы отдаленно подходящую фотографию и замести следы, но его все равно могли раскрыть и наверняка раскрыли бы, если б война не кончилась.
— Так вы думаете... — медленно произнесла Анна, не смея поверить в то, к чему клонил ее господин Клавичек, но он развеял последние сомнения, высказавшись решительно и прямо:
— Я думаю, он не убил эту девочку, моя дорогая. Он спрятал ее, сделал поддельные документы, отправил на кремацию другое тело... наверняка крематорий в лагере работал без перерыва, никто не стал бы разбираться, кого именно туда привезли. Возможно, потом он смог вывезти ее... или выпустить, воспользовавшись своим положением. Мы знаем, что могло грозить ему, если бы он попался — и все же он решил рискнуть.
Пораженная почти насмерть, Анна не могла и слова выговорить, только беспомощным, наивным движением прижала к самому сердцу раскрытую ладонь.
— Я прожил долгую жизнь, дорогая, — заметил господин Клавичек, не переставая улыбаться, — и пришел к выводу, что ничто в мире не проходит просто так — и мы, отдав что-то, обязательно что-то приобретем. Он дал шанс девочке — может, и вы не зря дали шанс ему? Он стал причиной смерти многих и многих, но однажды его рука дрогнула — и это значит, что в нем оставалось еще что-то, что люди, склонные к мистицизму, называют душой. Мы, материалисты, еще не придумали подходящего термина, увы...
— Спасибо, — со всей искренностью произнесла Анна, с явным трудом удерживаясь от того, чтобы заключить старика в объятия. — Спасибо, что попросили меня рассказать.
— Я же говорил вам, — заметил господин Клавичек, разводя руками, — соглашаясь что-то отдать, одновременно мы соглашаемся и на приобретение... пусть и не всегда знаем об этом заранее.
***
«...я никогда больше не видела этого человека и не знаю, что стало с ним. Покинул ли он тогда Прагу? Бросился в Влтаву, не в силах больше постоянно выносить страх быть узнанным? А может быть, среди его вещей давно спрятан был золотой слиток или бриллиант, одно из многих украденных в годы войны сокровищ, и герр Призрак, продав его, уехал под чужим именем за океан, где прожил безбедную жизнь и тихо скончался в своей постели? Всего этого я не знаю, но знаю одно — среди сотен и тысяч лиц его жертв, явившихся к нему перед смертью, чтобы утянуть с собою во мрак, он нашел бы одно, ставшее его единственным проводником».
(из неопубликованной книги Анны Штауфен «Жертвы и палачи: судетские концентрационные лагеря в 1938–1945 гг.»)