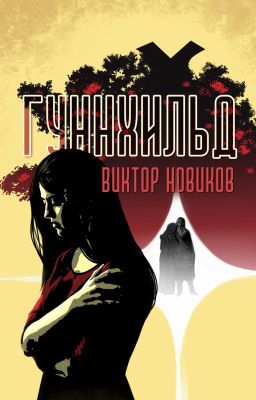Глава VI, в которой исполнятся заветные желания Гуннхильд
Ветер злится. Трава извивается под его порывами и рассыпается в труху, тут же сливающуюся с почвой. Он злится, потому что не видит, куда летит в вязкой темноте.
Утром будет отлив, и на серебрящейся глади уже чернеет коса из песка, подкреплённого галькой. Уходит на покой потерявшая сияющую кровь луна. Ей на смену придут несколько беззвёздных ночей.
* * *
Она бежала за ветром, зачем-то пытаясь перегнать его. Удивительно, но ни одна кочка не выскочила с подлым коварством под ногу.
Она не устала, сил у неё полным-полно. Правда, хотелось упасть лицом в эти кочки и разрыдаться — как рыдала она в прошлом, зарывшись в сено, под протяжные вздохи Краснобокого.
Если снаружи скотника её слышали, то просто уходили. Хорошо, если по своим делам, а не ради свежего повода пошептаться о дочери Сигрид. Скотник летом разломали, а позавчера забили Краснобокого.
Подумав об этом, Гуннхильд всё же споткнулась... Что это за треск?
«И такой противный!»
Это платье не выдержало на колене. Как и тогда, порвалось.
Закравшийся холодок говорил, что прореха широкая. Башмак с левой ноги слетел, но где он, в щели между камнями или в траве — она боялась отнять лицо от мокрого мха и оглянуться в сторону тревожно шелестевшего пролеска.
«Встанешь?»
Она опирается на ладони и...
«Ай!»
На ладонях блестящие, чёрные, сочащиеся горячим волдыри.
Неловко пошатываясь, источая от боли слёзы, она поднимается. Быстро-быстро, даже голова кружится несколько мгновений. Отряхивается и бежит навстречу утру.
Утро лёгкое и пока что холодное, но скорей всего будет солнечным. А позади ползёт умирающий тёмный и душный вечер.
Все тогда тоже бежали к морю — конунг Харальд Рыжий Волк прибывал в Гнездо как новый хозяин... Когда умер Олав, стало умирать и Гнездо. Только славный герой-добытчик мог его спасти.
«Это с тех пор ты полюбила бегать, — встрял кто-то в мысли Гуннхильд, — и днём, и в сумерках».
Все хотели видеть Харальда. Потому что, как сказал певец, слава Рыжего Волка летит быстрее ветров, надувающих ему парус.
* * *
Слуги убежали, бросив все дела, которые им приказала сделать Сигрид. Какой дурак захочет гнуть спину под началом вздорной хозяйки, когда неподалёку вот-вот причалит драккар с героем на борту?
Сигрид злилась недолго — одиночество её умиротворяло. Слуг, этих ничтожеств, она понимала. Но Сигрид не имела права позволять себе то, что позволяли себе они. Сейчас мысли её, как жареные рыбёшки в неразбавленной простокваше, всплывали и тонули, расслаиваясь, теряя чешуйки. Простокваша застывала, наливалась красками, превращаясь в полудрагоценный камень, с пузырями и примесями внутри... Где руны её матери — резные белые косточки, принадлежавшие ещё бабушке?
Вон они, лежат у крыльца, среди по-весеннему слабых, по-весеннему нежно-зелёных травинок. Пусть валяются хоть до конца света. Сегодня они каждый раз выдавали новый ответ, и каждый раз это не был ответ, который она хотела.
Сигрид вздохнула, и вдох пронзил её, как копьё... Когда она хочет прийти в себя, она держится за связку ключей. За ключи от дверей и сундуков со всем добром Волчьего Гнезда. Они висят под накидкой, ниспадающей до земли и сцепленной на плече золотой застёжкой. Олав привозил ей эти накидки и платья ворохами. Он утверждал, что подобные наряды, шитые золотом и драгоценными камнями, носят богатые женщины из великих городов Миклагарда и Йорсалы.
Она хозяйка в усадьбе уже двенадцать зим и хочет, чтобы ключи принадлежали ей до белого снега на голове. Но он не скоро выпадет на косы, скреплённые сейчас платком и серебряным обручем с узором из крылатых собак. Чтобы ключи у неё сохранились, Сигрид пойдёт по дороге, каждый камень которой раскалён в огне, каждая травинка которой стала телорезом, а каждая лужа — гиблым болотом. Дорога та зовётся Харальдом Рыжим Волком.
Гневное отвращение к Рыжему Волку пробуждало забытые, приятно-обжигающие ощущения, спускавшиеся к животу от грудей, а из живота к коленям, заставляя их трепетать и подгибаться. Чем ближе подплывал драккар Харальда, тем были жарче ощущения.
Сигрид точно знала ответ, который требовала от рун матери и бабушки. Но что его требовало — вдруг вовсе не разум, столь боящийся за ключи усадьбы? Неужели старшую дочь благороднейшей крови, как корову за верёвку, тянет к морскому разбойнику?
Она задохнулась в негодовании. Красивые, невозмутимые брови встревожила эта мерзкая мысль. Но разве не потому она волнуется? Ждёт разбойника, как верная собака, на пороге его родного дома? Разве она не ответит согласием на все его слова сегодня? Не потому ли торопит солнце к закату?..
Сигрид знает, кто наипрекраснейшая жена побережья, и самодовольно улыбается.
И красота её заблистала бы вдвойне, стой рядом дочка-преемница. Премилая, как сама Сигрид в детстве. Нет, только не Гуннхильд. Эта может заорать в самый торжественный миг тишины или заскакать козой, смеясь и мотая волосами. Нет, не дикая, несдержанная Гуннхильд, а кроткое, как оленёнок, создание с длинными золотыми косичками и глазками-фиалками — каковой в детстве была Лебединая Шея. Все бы пали перед воплощёнными богинями-покровительницами рода Сигрид... Гуннхильд унаследовала от Олава некрасивость и костлявое туловище. Не верили, что она дочь Лебединой Шеи. И она со всеми убежала встречать Харальда.
Сигрид не выдержала давящего изнутри напряжения и рассмеялась. Хорошо, что её никто не видел. Но и она не увидела, что в миг смеха, словно сбросив налёт, проснулась красота, которой славилась Лебединая Шея, когда её все любили и песенным героиням давали её облик.
В той жизни, в дни особых празднеств она надевала белые одежды и шла в череде жриц. Тогда в родной ей дубраве продолжали жертвовать женщин Хозяевам-Небесной-Деревни. Один требовал валькирий и прислужниц для встречи новых эйнхериев, а Фригг в чертог были нужны умелые работницы.
Сегодня Сигрид тоже приносит жертву, только без смерти и крови — и то тоже прещедрая жертва. Но жертва иного рода.
Сигрид жертвует себя, свою разорванную душу старшей дочери благородной семьи. Она бросит её прямо под сношенные сапоги морского разбойника и грабителя, в пыль, в грязь, в придорожный мусор. Ради самой себя в доме на зелёных холмах Волчьего Гнезда и с его ключами у себя в руках.
Сигрид точно знала, кем хотела остаться. Не приживалкой под крышей из милости или позорной прислужницей. Второй, как ведётся, после мужа и самой главной в его отсутствие. А Харальд будет отсутствовать много дольше своего брата Олава, и любовь к нему не обязательна. Хотя Сигрид полноценной любви ни к кому из своих мужчин не испытывала.
Она сделает всё, чтобы никогда не зажиматься в угол, моля богинь-покровительниц уберечь её от опасности. Она не будет проглатывать язык со своим мнением, пока говорят удостоенные. Она сама останется той, с кем надо считаться, сама поведёт за руку или за шкирку, повелевая, указывая путь пальцем или мечом...
Ибо быть хозяйкой древнего Гнезда почётно.
Сигрид выдохнула, отклонив голову в платке. Она ждёт, когда на той стороне холма появятся жители посёлка с невысоким морским разбойником в первых рядах.
Ты же, солнце, укоряющее божье око, умирай скорее.
* * *
Когда они вытаскивали и складывали на палубу вёсла, она пожелала навсегда ослепнуть. Чтобы, подобно пятну от солнца, последним отпечатком этого мира остался Рыжий Волк под алым соколом на сером парусе.
Казалось, все её любимые песни оживают в самое счастливое в её жизни утро. Вот-вот, и у мачты Сигурд Драконоборец вздёрнет под потоки света расцарапанную руку с головою Фафнира. И по доскам на пристань сойдёт спасённая на севере Идунн с молодильными яблоками в подоле. Да что Идунн — вдруг сама Фрейя?.. Кто-кто, а одна высокая не по возрасту девочка с берега ни разу не удивилась бы. Ни она, ни её пылающее сердце.
Гуннхильд смотрела на драккар во все глаза и запоминала всё-всё-всё. Пусть её пихали в толпе, вопили, напрочь оглушая, выпрыгивали перед носом и махали руками, а невысокого Харальда на палубе загораживали плечи его воинов. Надо подождать — вождю положено сходить с драккара последним, чтобы по прихоти богов на пир к морскому хозяину попал бы главный.
«Это мой отец... Он будет моим отцом!»
Радостные мысли прервались, и душу затопило ликование. Крупица за крупицей — что удавалось высмотреть из толпы — она запоминала размашистые движения, блеск порубленных кольчуг, поясов и мечей. Впитывала, чтобы помнить всю жизнь, обветренные смеющиеся лица, усы, щетинистые щёки и подбородки.
По доскам шёл и Трюггви. Гуннхильд не сразу его узнала. А когда узнала, то оробела — это был непривычный, незнакомый Трюггви, со сдвинувшимися от зимнего морского солнца бровями, с белой бородкой на тёмном, далеко не прежнем лице. На нём кожаный доспех, красные штаны и сапоги, пусть изрядно ношенные, но всяко крепче пастушьих опорок.
Гуннхильд старалась не думать о нём и каждый раз отводила взгляд. Боялась, что сердце разобьётся о рёбра от радости за него.
Быстрее всех она обгоняла Харальда и воинов. Ломилась сквозь красные ветки кустарника — потом эти кусты выжгут по приказу Харальда под новые пастбища — ждала на развилках, бежала по траве дальше... Гуннхильд была самим счастьем. Лес запомнил её такой и явил в солнечном сиянии годы спустя Торвальду. Ибо не так много счастливых людей бегало в нём.
Она первой ворвалась в круги старых глинобитных заборчиков Волчьего Гнезда. Добежала до порога и прижалась к матери...
«Матери? — влез кто-то в воспоминания Гуннхильд. — Ха-ха... Твоей?»
— Молчи! — закричала Гуннхильд. — Молчи-молчи-молчи!
Сквозь щиплющие слёзы она приказывала внутреннему голосу замолчать, вслед за отголосками в пролеске — их от её крика народилось предостаточно...
По пути она наступила на что-то беленькое и маленькое. Подняла и, подпрыгивая на бегу, стала рассматривать.
Это оказалась старинная родовая руна, которая почему-то валялась в траве. Мама словно не видела, что подобрала Гуннхильд, иначе б страшно закричала. Гуннхильд не дозволялось даже смотреть на мешочек с ними.
Сигрид, сосредоточившаяся на дороге, как кошка на кротовой норе, была один в один гриккландская статуя, убранная в платок, платье и накидку из Миклагарда. Кулак Сигрид, нервно жавший ключи на цепочке под накидкой из Великого-Города, был бледно-синим. Обнимая её, Гуннхильд щекой чувствовала, какой каменный и холодный у матери бок. Да-да, ну совсем как у статуи...
Гуннхильд отлепляет лицо от бока Сигрид. И, щурясь от слепящего солнца, оглядывает рябину около дома.
Жаль, весной на ней нет ягод. Из них можно сделать бусы — нанизать на нитку, как Гуннхильд показывали в детстве. Гуннхильд была бы в них такая же красивая, как мама. Солнечно-красные ягоды очень украсили бы её невзрачное платье...
Но на старой рябине нет даже соцветий. И её срубят по приказу Харальда при строительстве нового дома.
Слуги и жители прибрежного посёлка гомонящей толпою заходят в усадьбу. Воины Харальда останавливают их за ручьём.
К дому идёт Харальд. Рыжие волосы на солнце полыхают огнём. Его шлем под мышкой, подшлемник в руке. Плащ колеблется, за плечом подпрыгивает рукоять большого меча.
Повернувшись к толпе, Харальд со слишком нарочитой для судьбоносной речи ленцой и несерьёзностью объявляет, что отныне он муж Сигрид и хозяин Волчьего Гнезда.
В толпе натужно орут. Визжат, плачут... Кто как может, громко-громко, восполняя не выдержанную Харальдом торжественность.
Сигрид, поджав губы, опускает подбородок. Смыкаются серебряные ресницы — они у неё длинные, как звёздные лучи на морской глади.
Харальд берёт её за предплечья, пониже золотых цветов-нарукавников. Требовательно смотрит в глаза — чего никто не делал за долгое время без хозяина... Или никому не хватало смелости.
«Ты любишь его? Полюби его, пожалуйста!» — мысленно обращается к матери Гуннхильд, не отрывая глаз от Харальда.
Как же он близко, даже руку вытягивать не нужно!..
Локоть Харальда стукается о лицо Гуннхильд, скорей всего, случайно, и отодвигает её... Селевой поток всегда беспощадно убирает препятствия в русле. Если Сигрид была — до прихода Харальда, по крайней мере — плотной скалой-песчаником, то локоть Харальда по-настоящему твёрдый гранитный осколок.
Нога не нашла опоры вне крыльца, ни камня, ни доски, поэтому Гуннхильд плюхнулась в угол с сорняками и палками.
Клок паутины одного её знакомого паука прилепился ей на макушку — Гуннхильд, падая, посшибала все его ловушки. Он сам, переваливая брюшко с одной тонкой ножки на другую, устремился по старому стеблю в щель.
Он бы, может, пустил в неё Гуннхильд, только она бы не поместилась.
А останься он, в душе Гуннхильд не возникли бы ужасные кровоточащие ранки. Ей было бы куда легче дышать, без тяжести в груди.
Иссиня-красными пальцами Харальд обхватывает Сигрид за бёдра. Глумливо мыча, он целует её в губы.
«Что, копил долго в море?» — крикнул кто-то из толпы.
Толпа за ручьём в мгновение превращается в многоголовое хохочущее чудовище. За одной из его шей мелькает побледневший Трюггви. Побледневший настолько, насколько может побледнеть прожаренное солнцем лицо со сдуваемыми на лоб белыми волосами.
Кто-то из Харальдовых друзей, довольный шуткой, кидает монету в толпу. Монетка взлетает высоко и, блеснув, падает на чью-то ладонь. Они снова смеются — слуги, жители посёлка, воины с драккара... Гуннхильд в мусорном углу озирается с одной трясущейся бороды на другую. В бородах разинуты зубастые пасти.
Встать бы, но она наверняка заденет грязным башмаком Харальда с Сигрид. Гуннхильд ведь такая неловкая. Возьмёт и разрушит светлое, прекрасное видение рыжего Тора с золотоволосой Сив.
Сигрид обмякла в вытянутых руках нового мужа. Подол её платья шевелится, отчего кажется, что вышитая на нём птица, двигая туда-сюда длинной сизой шеей, клюёт яблоко на золотом дереве... Гуннхильд очень нравится эта вышивка.
Харальд хохочет вместе с толпой и явно подумывает, не уронить ли Сигрид им на потеху.
— Ай, — слетает с полураскрытых губ Гуннхильд.
«Эй вы! Помогите встать!»
На обмотанную паутиной Гуннхильд никто не смотрит, словно её нет.
Как ей думается, каждый-каждый, плача, улыбается Харальду и Сигрид. И Гуннхильд не отстаёт — с усилием проглотив комок в горле, плачет и улыбается из своего угла. Потому что сегодняшняя песня завершается счастьем. В конечной строке Тор после разлуки воссоединился с доброй Сив.
Какие они радостные!.. Смеются гостям и друг другу — Сигрид уже взяла себя в руки — с крыльца старого усадебного дома. Стоять ему осталось недолго.
Последующему, впрочем, тоже... Даже меньше зим, чем простоял построенный Бешеным.
Топая по порогу, гости заходят в дом. Их глаза, блестящие от предвкушения праздника, не видят Гуннхильд, будто в углу не она, а обычная дождевая лужа. Зелёные, коричневые, мелькают штаны, меняются рубахи, красные или голубые, и Гуннхильд кажется, что цветная река из них не кончится никогда.
«Помогите! — молит глазами Гуннхильд. — Помогите же...»
* * *
«Они заходили в дом... — Гуннхильд опять послышался шёпот. — И пировали в нём до вечера...»
«Нет, нет! Не надо!»
«И была ночь после пира. Свежая, тёплая, будто летом».
Заплаканная Гуннхильд упала в траву. Сама, подлых кочек не было.
Трава, густая, мокрая от тумана, проглотила её лицо, и прохладная роса ласково поцеловала разгорячённые потные виски.
Ночь после пира. Та проклятая ночь... Свежая, тёплая. Когда закат, пробивающийся сквозь рощу, бывает как золотое и серебряное шитьё на чёрном. Да, первая из летних.
Босую ногу без башмака свело, аж выкрутило в сторону. Стало очень больно, но подвигнуть ногу — значит, прекратить думать о причине слёз, и они опять останутся невыплаканными.
«Вставай, — сказал кто-то мохнатый внутри, — или будешь ползать, пока не рассветёт?»
Она подскочила с мокрой травы как заяц, до крови ударившись косточкой локтя о невесть откуда вылезший камень, и побежала дальше — тоже как заяц.
«Как ярок был огонь! — продолжил голос. — В нём тогда словно лежало сердце солнца... А почему ты плачешь? Ты что, вспомнила, как плавился на углях белыми и серыми каплями половник?»
«Что? — задрожала Гуннхильд. — Какой половник? Какой половник? Расскажи! Расскажи! Мне надо знать!»
«Нет, — испугался голос. — Нет, нет».
Гуннхильд всю, словно кувшин, до макушки наполнил холодный страх.
«Пожалуйста! — У неё перехватило дыхание. — О каком половнике ты говоришь?»
«Хорошо-хорошо... Если ты так просишь, я расскажу».
«Расскажи!»
«В доме пировали до вечера. После вечера пир вылился в гуляния на улице. Дом остался пустовать...»
«Нет! Нет-нет!»
Она наяву кричала? Или только в мыслях?
Гуннхильд вдруг осознала, что голос, который к ней лез, перестал быть незнакомым. Это был её собственный голос. Которым она всегда говорила с матерью. Которым отвечала вчера Харальду.
После свадебного пира Харальда и Сигрид воцарились удивительные прозрачно-жёлтые сумерки. Они текли по Волчьему Гнезду, не пропуская ни щёлки. Как мошки и соринки, в их недолговечном янтаре замирали сосны с пышными шапками, чёрные ели, луг с золотившимся ручьём посередине, все постройки... И Гуннхильд.
Она была не одна в этом застывшем удивительно-жёлтом мире. Тишину его нарушало не только её громко бившееся сердце.
У костра на брёвнах смеялись Горм, Уна и остальные. Проскользнуть за их спинами не удалось. Чьи-то большие жёсткие руки поймали Гуннхильд и усадили на большое жёсткое колено.
Это был кто-то из воинов Харальда — огромный, обжигающе горячий, полусонный. Перепуганная Гуннхильд глядела, не отрываясь, на шевелящиеся в его бороде розовые губищи:
— Ты куда? Посиди!..
Но сидеть она не хотела, поэтому, не встретив никакого сопротивления огромных рук, вырвалась.
Воин — все его звали Рагнар — медлил, словно угасая вместе с солнцем, поэтому ловить Гуннхильд не стал... Он большой друг Харальда, как она поняла. Странно, что не он, а кормщик ушёл в дом с Харальдом и Трюггви ради чего-то страшно важного.
Гуннхильд перескакала ручей по камушкам. Его позавчера расчистили от мусора, нанесённого половодьем.
Рагнар где-то позади продолжал звать к костру Гуннхильд, но вскоре затих. Его голос поглотили звуки из кустов — дыхание, стук веток, смех-стоны.
А может, Рагнар и не звал её. Вдруг его зов просто завяз в тяжёлом песке внутри головы Гуннхильд? Задержался дольше, чем нужно?
Перед Гуннхильд вырос опустевший дом. Гуляния выплеснулись из него, растеклись по окрестностям усадьбы, а дверь скрипела, раскрытая настежь и подпёртая камнем.
В зале ни души. Но можно услышать, как снаружи вскрикивают, смеются и исчезают разреженные голоса.
Светцы потухли, прогорев до угольков. На полу гордо вздымаются ворохи свежей соломы, такие сухие, что аж шелестят от одного только взгляда. Столы с объедками, с наспех скомканными скатертями, придвинуты к стенкам. Поверх горами навалены закоптелые горшки, грязные тарелки — всё, что посчастливилось не разбить сегодня. Ожидают, когда всех их до последнего черепка выгребут на улицу.
На парусном канате, протянутом среди потолочных балок, до самого пола провисают гобелены и шкуры, снятые отовсюду.
Их десятки и сотни; все они собраны в плотный занавес. По краям занавеса наискось по настенным доскам и полумесяцем на потолке пляшут аметистовые блики огня — занавес загораживает очаг.
Гуннхильд умеет бесшумно ползать по соломе. Достаточно вообразить себя зачарованной кошкой Фрейи.
Ни одна шкура не шевельнулась, не заметив протиснувшихся исподнизу её щуплых боков. Разве что заячий мех заискрился чуть-чуть иначе. В занавесе были куница, бобр, лиса, медведь...
* * *
Гуннхильд в щёлке между шкур виден только Трюггви в красноватом сиянии, вернее, голова его по шею. Если раздвинуть щёлку шире, то Гуннхильд наверняка заметят.
— Не отвратит, не отвратит твой желудок вид и запах кровоточащей, горелой или гниющей плоти... — шепчет кто-то рядом с Трюггви и захлёбывается.
За затылком Трюггви угадываются перетащенные из тайных и нетайных мест личины богов. Хмурится Одноглазый, пряча рот за узкой бородой. Взирают на людей из-за его плеч Леворукий и Золотой, скалится в священной ярости Рыжий — и прямо на неё, на Гуннхильд!..
— Любая из твоих рук, — просыпается шёпот подаренного ей сегодня отца, — знает меч, щит, весло, копьё. Она метко стреляет, крепко вяжет. Драккар испытал на выносливость твою плоть, а тропа испытает душу.
Словно стыдливые девы на купании, боги полуприкрыты перевязями с порубленными мечами, топорами, ещё пока мокрыми от солёной воды щитами с борта драккара. Стоят, блестя наконечниками, копья... Голос кормщика глухо скрипит, словно не говорил с сотню лет:
— Похлёбка сотрёт твою жизнь, насколько потребуется. Насколько ты, мальчик, хочешь жить по-новому.
У Трюггви на щеках темнеют мокрые дорожки, а глаза красны — дым чадит густо-густо. На нём потёртый коричневый доспех, в котором он выглядит усохшим ореховым ядрышком в скорлупке.
— Уши тебе даст старый ворон, — продолжил шептать Харальд, — глаза станут зоркими, как у охотящегося ястреба, а волчий нюх учует и помёт мышонка под корягой сохлого дуба. Не ради приобретения таких качеств ты вступаешь в ночь охоты. Тебе откроется сокрытый мир, где бродят умершие и их тени, безымянные духи и странные существа. Мир, куда выходят создавать песни своими деяниями йотуны-великаны и боги-Асы... Они явятся, это правда. Мельком, на один миг твоих глаз или, может, на всю ночь, но ты их увидишь, услышишь и почуешь. Не каждый выдержит себя в сокрытом мире, но мой сын выдержит и вернётся — потому что он мой сын!.. Утром в конце тропы многое забудется, останется одна смута. Только тело и душа будут болеть.
— Забудется? — спрашивает Трюггви.
Он роняет это слово бесцветно, как сосулька каплю. И как показалось Гуннхильд, даже не раскрыв губ.
— Забудется, — Харальд терпеливо разъясняет самое важное, — чтобы всплыть у тебя в голове, когда оружие врага взрежет твою плоть. Чтобы после ты не заплутал ненароком в Хель, а вышел на Великую-Радугу.
Трюггви быстро тускнел, уже теряясь в пресловутом сокрытом мире. В дыму его белые волосы и тёмное лицо сливались в одно серое пятно. Поэтому Харальд повысил голос и тряхнул его за плечо:
— И как выйдешь ты к Гнезду, так выйдешь к Великой-Радуге. Кроме души нужные знания получит и тело. Порою оно будет уходить от удара само, до твоего приказа ему... Я сказал тебе всё, что смог — остального о сокрытом мире не знает никто из живущих. Пей.
Трюггви глотает из плошки, круто задирая подбородок. Видно, насколько длинны уже на его кадыке белые волоски.
В его горле булькает, Трюггви выплёвывает плошку и с рокочущей отрыжкой нагибается на бок.
— Ничего-ничего, — опять скрипит Хёгни-кормщик, вытирая Трюггви губы и щёки, — каждый сблёвывает с непривычки.
Харальд обвёл пальцем полукруг, ведя уплывающие вовнутрь глаза Трюггви. И вдруг стукнул между ними, едва коснувшись переносицы.
Трюггви резко мотнул волосами. Его спина выгнулась, выпятив вперёд грудные пластины доспеха, и он обмяк на руки Хёгни.
— Побежишь за гору, — сказал Харальд. — Слышишь? И если будет тебе милость от богов, выйдешь на меня как равный на равного.
* * *
«Ты побежала в лес?»
Голос спросил так внезапно, что Гуннхильд с испугу соврала:
«Нет!»
Голос промолчал. Его молчание всполошило Гуннхильд до самых потаённых глубин души:
«Или да... Не помню!»
Потом подумала и согласилась:
«Да».
Дождавшись, пока Гуннхильд утихомирит разбушевавшиеся душевные пучины, голос взмутил их заново:
«Зачем?»
Ответ Гуннхильд выпалила сразу — сказав самые ёмкие, самые сокровенные в своей жизни слова.
«Трюггви туда побежал».
После чего в горле зачесалось, и из-под век брызнули слёзы.
Голос премерзко захихикал.
«Какая ты глупая...»
«Я не глупая!»
Сбоку вырастал огромный, как кит-касатка, валун, тёмный из-за мха. Гуннхильд остановилась отдышаться, прижавшись к нему. Вспомнила что-то и зло припечатала голос:
«Уна говорит, что признаваться в собственной глупости не глупо!»
«Значит, это была глупость? Бежать за Трюггви собачонкой?»
«Не цепляйся! Что ты всегда цепляешься?»
«Не буду больше... Кого ты увидела в лесу?»
«Трюггви».
Голос принялся всхлипывать, будто давил смех или рыдания.
«Ты обещал!..»
«Хорошо. И что Трюггви? Что делал Трюггви?»
«Бегал. В доспехе и глухом шлеме. Я даже подумала, что у него ведро на голове. Он бегал, шатаясь и толкаясь от стволов. И увидела я его случайно!»
«Никто, — вздохнул голос с притворным скорбным сочувствием, — никто тебя не ругает. Продолжай спокойно».
«Его мотало из стороны в сторону. Наверное, так действовало варево, которым его накормили... Я очень испугалась. Если съязвишь, мол, веский повод ринуться за ним полоумной дурой, то... То я соглашусь».
«Глупый, — вздыхал голос, — глупый Трюггви».
«Да, глупый. Он бежал, как истекающий кровью бык. Так воины не бегают. Я вот быстрее бегаю».
«Но ты лучше Трюггви знала лес и оббегала всё там много раз».
«Может быть! — отрезала Гуннхильд и, немножко подумав, продолжила: — Я преследовала его, прячась за деревьями. Вдруг он бы понял, что не один. Может, зря... Пролетай пред ним колесница с воронами вместо коней, он бы не заметил».
«Ты злая, — засмеялся голос, — но ты права».
«Наверное, он подвернул ногу, — Гуннхильд мучилась, вспоминая. — На ровном месте. Не было ни корней, ни кочек, как тут вот... Он так весело кувырнулся вверх тормашками, что я засмеялась».
«Как не стыдно! — деланно возмутился голос. — А дальше?»
«Он лежал и рвался, словно продолжал бежать по тропе. Дышал через раз. Когда я... Когда я потрясла его плечо, он затих. Но может, не поэтому. У него глаза были целиком белые, от уголка до уголка. Они в сумраке очень жутко смотрели на меня — я перепугалась ещё сильнее. Он напоминал овцу, которой дали камнем по затылку. Мычал, трясся, потел какими-то жирными каплями. Изо рта плохо пахло, как будто он съел аж ведро тины с болота».
«И ты стала раздеваться. Раздела и его. Надела на себя доспех и штаны, сапоги и шлем, — загибал где-то бесплотные пальцы голос. Помолчав, спросил: — Зачем?»
«Я не знаю! Не знаю, — заплакала Гуннхильд. — Не скажу...»
«Успокойся, — смягчился голос. — Пусть будет, что ты просто помогла Трюггви и побежала вместо него. Подставила ему в опору хрупкое плечико... Хотя, знаешь, это лукавство».
«Я хотела помочь ему! Была только рада! Пусть стало очень-преочень тревожно, но я была счастлива! Я тогда летела по тропе, ощущая себя птахой. Ноги касались травы едва-едва, а руки были крыльями по бокам тяжёлого доспеха...»
«Ты хотела помочь Трюггви...»
«Да!»
«Ты нашла поляну за горой?»
«Да. Ты же знаешь, что нашла. Но не знаю как, — Она скажет эти слова сегодня отнюдь не один раз. — Не могу сказать».
«Но раз от разу, — смеялся голос, — ты будешь вот так отвечать всё реже. Я добьюсь, я обещаю тебе, моя милая. Ты бежала по тропе ради одного Трюггви?»
«Я тебе всё сказала! — перебила Гуннхильд. — Почему ты мне не веришь?»
«А как же... — шепнул вкрадчиво голос. — Твой новый отец? Что же Харальд?»
«Он там стоял на поляне».
Гуннхильд принялась с охотой рассказывать о поляне, на которую её вывела тропа, но голос тихо хихикал. Он ждал другого ответа про Харальда.
«Он был без шлема. Его волосы под звёздами красиво серебрились, поэтому он напоминал Одина или Тюра, а не Тора, как обычно. Он сразу стал таким довольным, когда увидел меня в доспехе!»
«Ещё бы! Сын прошёл... И он ничего не сказал?»
«Нет».
Харальд был ослепительно красив. Намного ослепительней, чем на залитой зарёй палубе. Просто стоял на поляне и не двигался. Красиво. Не лезли предательски в глаза его невысокость или суховатое телосложение.
Коротким рывком, и потому до мурашек как красиво, он вытащил меч и махнул им, с оглушительным гудением рассекая воздух.
Годы спустя Гуннхильд снова готовится к тому поединку. Хотя Харальд лежал далеко за пролеском, а то, что от него осталось, мечом махать не могло. Однако Гуннхильд этого не знала.
Горячие мокрые веки опустились, чтобы померк и туманный пролесок, и звёздная поляна с Харальдом. Голова втянулась в плечи, а плечи поднялись. Никакой шлем о наплечники не стукнулся, потому что шлема и доспеха сейчас не...
«А знаешь, самым красивым в мече Трюггви были совсем не золотые змейки. Хотя они светились на рукояти как живые! Такие маленькие, хорошенькие, изящные! Я помню, ремень свалился на землю, за ним упали ножны, и от звёзд клинок прямо заполыхал! Горел по-настоящему! И красота была именно в нём... Меч был не тяжёл, просто непривычен. И я выставила его вперёд, как надо».
Как и тогда, ломящим жарким наплывом вспухло воображение. Оно полностью захватило голову Гуннхильд, и она стала всеми, кого только знала. Одином, крушащим турса в битве богов и великанов, Великим Атли во главе великого по числу войска, Сигурдом, пропарывающим брюхо Фафниру, служанкой Одина, Выбирающей-В-Мёртвые. И много-много кем ещё...
На звёздной поляне Харальд первым же замахом выбил меч Трюггви из рук Гуннхильд. От того же удара — вот силища! — слетел и шлем. Подшлемник сбился, выпала упрятанная под него длинная коса...
«Дальше!» — нетерпеливо потребовал голос.
Перед Гуннхильд возник тот Харальд из тогдашнего мгновения, во все глаза рассматривающий её. Ступор у него сменялся суеверным ужасом, а затем — отвращением.
«Мне было страшно смотреть на него. Он стоял и молчал. И ему тоже было страшно. Его лицо... Ты знаешь, он будто... Увидел, как самая чудовищная на свете великанша, гадко улыбаясь ему, исторгает из чрева на руки Локи очередного Мирового-Змея».
«Да-а, рот он раскрыл так, что казалось, за его задними зубами что-то заклинило. Была ну чисто норка для птичек в бороде».
«Не смейся, прошу... Он отмер и пошёл искать Трюггви. Это я сама догадалась, ведь он пошёл по моей тропе».
После ухода Харальда на поляне стало светло. Светились даже веснушки на носу и щеках Гуннхильд.
Боги готовили эту ясность ради Трюггви и Харальда, под их святой поединок. Выпустили её из волшебных ворот, но поединка не случилось.
Над соснами сияло подбрюшье громадной тучи. Под ней в полоске неба дрожали звёзды. С их приветливым светом страх уходил из Гуннхильд.
Тихо дыша, она сидела, съёжившись, на залитой этим невиданным светом поляне. Голая — как только Харальд покинул её, она стащила с себя доспех.
Прижав колени к подбородку, она следила за валявшимися в траве доспехом, шлемом и штанами, будто они могли сбежать. Напряжение не спадало, на место ушедшего за Харальдом страха ничего не приходило...
Спустя целую вечность, Харальд возвращается с телом Трюггви на плече.
Трюггви вконец обмяк. Видно, как он тонок по-мальчишески. Спина от ягодиц до лопаток чётко поделена на две белые половинки; руки, тёмные, длинные, висят безжизненными плетьми и едва-едва болтаются. Скомканная тряпка в руке Харальда и то мотается живее.
Тряпка — то платье Гуннхильд, которое она подстелила под Трюггви, чтобы он не простыл на холодной земле. В ночи оно выцвело с зелёного до синего. Красные штаны Трюггви поверх доспеха тоже выцвели до столь тёмного и неразборчивого окраса, что надо всматриваться.
— Твоё!.. — швыряет, рыча, Харальд платье.
В ночном воздухе нет ничего громче перестука веток, поэтому слово Харальда в ушах Гуннхильд грохочет громом. Следом долетает вся заключённая в него ненависть, и она так жалит Гуннхильд, что сердце, забыв о засасывающей тревоге, подпрыгивает аж до затылка.
Пока Харальд раскладывает Трюггви у доспеха, Гуннхильд через ворот быстро натягивает платье. Доспех снимать было неудобнее...
Сидя уже в платье, она наблюдала за Харальдом, за его пальцами, петля к петле вытягивающими завязки на боку доспеха Трюггви. Пальцы ходили ходуном, все девять с половиной, но узлы собирались сразу...
«А он кричал — мол, пошла вон?» — растревожил голос замершие воспоминания о поляне.
«Не помню».
«А что помнишь?»
Гуннхильд не отвечала.
Просто шла. Ей нужно, ступая по щиколотку в низинную почву, пролезть сквозь заросли одеревеневшей черники.
Голос, подождав, повторил:
«Ты помнишь, что было после?»
Мерзавец отставать от Гуннхильд не собирался.
«Не знаю. Думаю, я поняла, что он хочет забыться. И что надо убегать подобру-поздорову».
«И ты побежала в лес».
«Да. Как кошка Фрейи. Я люблю воображать себя котёнком».
Харальд, похоже, не заметил, что она убегает.
Под ногу Гуннхильд попал оторванный подол, она на малый миг потеряла равновесие и успела посмотреть поверх плеча.
Харальд баюкал Трюггви, положив его себе на колени и обняв за плечи. Но это лишь казалось — оба были неподвижны. Голова Трюггви запрокинулась, как если бы он удивлялся, что звёзды стали ярче. Те в ответ соглашались, весело светя ему на нос.
Харальд, безмолвно плача, тоже запрокинул голову и шарил в мешочке на поясе.
Когда он вытянул перед собой подрагивавшую руку, на ладони у него Гуннхильд разглядела бело-коричневые комочки. Суховатые настолько, что и за десяток шагов от их вида у Гуннхильд пересохло во рту... Харальд их жадно заглатывает, кусая ладонь и все пальцы по очереди. До рыжих волосков на висках протягиваются морщины, похожие на шрамы.
Не надо Гуннхильд видеть, во что он превратится. Быстрее, в лес. Он там не поймает её!..
Но он шёл за ней. Она это увидела, когда снова обернулась.
* * *
«Ну! — взвизгнул голос. — Дальше!»
Большая туча посторонилась, пропуская облачка полегче. На небе ожили звёзды, и их свет упал на поляну с Харальдом. Его волосы полыхнули жёлто-огненным цветком, сердцевиной которого стало заострившееся лицо. Грудные мышцы растянули кольчугу — и она радостно заискрилась. Внизу столь же радостно блеснул меч.
Харальд неторопливо шагал босыми ногами, смотря в сторону Гуннхильд. Неважно, видел ли он её или только шевеление в кустах. Меч блестел и требовал Гуннхильд.
Она с треском нырнула в чащу, не заботясь о том, что...
«... в эту волшебную ночь наступишь на альва, и он запищит, — пропел голос. — Врежешься в пятку великана, и он раздавит тебя».
Взаправду царила та ночь, когда сокрытое открывается. Гуннхильд это понимала и без варева, от которого вытошнило Трюггви, и без комочков из мешочка, которые съел Харальд.
«Комочков, — смеялся, мерзко икая, голос, — из мешочка!»
На вершинах сосен шепчутся великаны и боги, обычно лютые враги, но сейчас союзники. Шепчутся и смотрят на бегущую внизу дерзкую девчонку. Бородами, намотанными на сучья, свисающими до земли, касаются то её лба, то плеч, то пальцев, которыми она раздвигает кусты.
Дух воздуха с громким жужжанием пролетел у уха, едва не задев стрекозьими крыльями шею. А в ветвях над головою Гуннхильд и в траве звенят неисчислимые хоры его братьев.
Кто-то мчится многолапый, сшибая огромные столетние деревья. Кто-то идёт вслед, ступая осторожно по лесу, который для него — что трава для Гуннхильд.
Время пропадает. Сколько она бежит?.. Движения увязли, как в смеси мёда и патоки. В голове под стук крови трепещут разбуженные от её бега шёпоты, а чьи-то бесплотные паучьи пальцы касаются Гуннхильд, переворачивая её внутренности сверху донизу. Всё встречное билось в лицо, царапало его до крови, лезло в волосы и застревало в них, а руки работали, ноги перепрыгивали...
«С тех пор ты полюбила бегать в сумерках, — вспомнил голос недоконченную мысль. — Когда вечером посвящали Трюггви, они были жёлтые, потом синие. И звёздные-звёздные... Под конец, как пришла ночь — чёрные и белые».
Но Гуннхильд не слушала. Она не уследила, что забежала в густой березняк с ёлками, и теперь выпутывалась из него.
Тогда она тоже ломилась сквозь него. Его изрядно расчистили — и опять по приказу Харальда — он тогда был гуще.
Лапы крайних елей, как и тогда, схлестнулись за спиной. И Гуннхильд боялась опять увидеть каменно-зелёную пустошь с чёрным выступом усадьбы на другом конце...
По пустоши Гуннхильд умела бегать, подобрав платье, быстрее и бесшумней кошки. Как бегала здесь не раз.
Небу пришло время угасать, как бывает перед рассветом, в самый тёмный час ночи. Сил звёздам хватало лишь на светлые части, а теней с одной травинки растекалось по сотне.
Дом со стороны березняка казался потухшим и мёртвым, но из полуоткрытой двери на пару шагов плясал свет. Кто-то мелькнул в этом освещённом круге, входя в дом... Гости вернулись? Тогда Гуннхильд проскользнёт под лавками, чтобы спрятаться в её тайном месте.
Но зал в доме пуст. Странно пуст, словно лишь ненадолго. Вдруг хозяева с гостями отлучились на часок и вот-вот вернутся? А вернувшись, принесут вошедшему извинения за своё отсутствие и радушно даруют право быть ещё одним гостем.
Не успевшие догореть свечи и светцы кто-то зажёг, ещё и вставив новые лучины. У очага на цепи коптит светильник из франкского собора, полный дорогого масла. Меха, гобелены и шкуры — канат в занавесе перерубили — грудой высятся на полу, придавив подстилочную солому.
У очага спиной к порогу стоит Сигрид. Это она входила в дом.
Она поворачивается к Гуннхильд. Щёки и плечи её скрыты высыпавшимися из-под платка волосами, но видно, что правая скула опухла и будто бы сползла в сторону. На коже темнеет отпечаток пальца, слишком крупного для руки Сигрид... Ворот разорван через всю грудь, отчего платье больше не охватывает стан драгоценной кожей, а сморщилось без ключевой для кроя опоры. От узора с птицей остались лишь золотистые искорки, из самой птицы различим только пышный хвост от пояса до подола.
Гуннхильд всегда мечтала поближе рассмотреть шитьё на узоре, провести пальцем по нему, чтобы птица пробудилась. Но в свете заполночного пламени вышивка уже не столь желанна, как была днём. Птица подохла, и её не оживишь.
Гуннхильд проглатывает комок, вспухший из-за увиденных остатков вышивки. Она, как рыба на берегу, открывает и закрывает рот. Протягивает руки и собирается броситься к матери, прямо по сваленным мехам.
Сигрид смотрит сквозь дочь — будто та прозрачная.
Гуннхильд не замечает и не хочет этого замечать. У лица Сигрид всегда каменное выражение, но тут оно стало подтаивать. На щёках выступили краски, а в глазах заплескалось счастье
Но не плакавшую Гуннхильд видели эти глаза.
Сигрид злобно скривилась в слишком напускном презрении. Видимо, подчинив себе свои желания... Из-за них ли, забытых, но сегодня разбуженных, она не обращает внимание на безобразно погибшее, дорогое, самое лучшее своё платье? Как это не похоже на Сигрид.
Через порог громыхнул шаг.
На столах в ответ тренькнула посуда.
Гуннхильд отмерла, поняв, кто пришёл. Завизжала мигом сорвавшимся голосом. Дёрнулась, но вонь немытого мужского тела даже из-под стираной одежды за доспехом настигла её. В спугнутые мысли помимо этой дикой вони влетели хриплое дыхание, отрыжка с пива и браги, лесные запахи и волна воздуха с улицы.
Чужие железные пальцы ухватили пряди на затылке Гуннхильд, которые начинали косу. Образовалось месиво из этих пальцев, гнезда волос и боли, к которой Гуннхильд лучше привыкнуть — страха, колотившего до судорог, было предостаточно. Не надо думать о боли, чтобы не сойти с ума.
Она вырывалась. Один раз почти успешно, но споткнулась о какую-то шкуру или выступ и растянулась по полу. Харальд, тоже зацепившись, рухнул на живот, но Гуннхильд не выпустил.
Потом она будто оторвалась от пола и прямо в воздухе перевернулась. То Харальд, вставая, перехватил её за шею и верёвку, которой она подпоясывалась. Она осмелилась приоткрыть глаза, пока её рот исторгал безмолвный свистящий крик.
По шкурам над её головой, по сену, по блестящим мокрым доскам шагали ступни, на которые спадали штанины с бахромой из травы. Кривые, вытянутые, бледно-красные от холода, с венами-червяками и обломанными ногтями... Птичий хвост, играя златошитыми складками, качнулся прочь с их дороги.
Вниз, в прежний верх Гуннхильд смотреть боялась.
Там было что-то страшное. Кому отрезано понимание человеческих слов. Рычащее и клокочущее. Которое, если тебя растерзает, то не ради забавы. Будет сидеть и грызть твою грудную клетку...
Мир стремительно менялся. Ножки столов становились ворохами соломы, а та перетекала в гобелены, в шкуры, в златошитый птичий хвост, в границы очага, через которые перестреливали искры цвета звёзд. И вот мир стал углями, весело переливающимися золотом в чёрно-рубиновой оправе...
Щёку Гуннхильд обдало жаром от бока котла. Она хрипло заорала, раскрывая рот как можно шире. Двинула локтями с самым большим размахом, который только смогла сделать, и обоими попала в твёрдое.
С одной стороны в живое — то были бедро и пах Харальда — с другой же послышался гулкий звон, будто опрокинулось что-то железное...
На раскаленные угли из котла выпал половник. Дубовая ручка чернела, металлический черпак менял форму, будто был из блестящего масла.
«Кап, кап... Шшш!» — зашипели по зажелтевшим, пробудившимся углям серые и белые капли.
Жар из них выстрелил в глаза Гуннхильд вместе с диким криком Сигрид.
От крика в очаге вспыхнул звёздный свет. Он рвал в клочья зал, Харальда, Сигрид, чёрно-белых от жара — в глазах Гуннхильд остался лишь отпечаток дрожащих углей...
Гуннхильд вспоминала бурлившие тогда в воображении образы:
«Дракон передней лапой сорвал плащ, под которым на тропе прятался герой. И храбрый Сигурд вместо спёртой, земляной тьмы увидел ночь, раскинувшуюся над драконом! Битва началась... Что до крика — то вскричал вестник смерти, махом крыльев сдув гнёздышко пичужки».
Ещё под пронзительный крик воткнулся в столбовой брус меч Харальда, всё жаждущий крови Гуннхильд.
В грядущем новом доме эти красивые резные брусья заменятся столбами, которые будут не опорами, а украшением — таково строительное мастерство друзей-корабельщиков Харальда.
Рука, державшая шею Гуннхильд, вздрогнула — на неё налетели мягкие бесшумные удары. Так бьёт кошка, у которой срезали когти.
Гуннхильд попыталась кричать, но крик застревал в горле. Тонкие пальцы Сигрид, как лапы хищной птицы, больно вонзились ей в плечи и вырвали из Харальдовой хватки.
Чёрно-белые угли в бешеном повороте сменились головой Харальда. Хорошо, что она не смотрела на него — он испугал бы каждого. Померк, сник, даже волосы поблекли. Лицо было мёртвым и словно принадлежало пришельцу из сокрытого мира. Особенно пугала нитка слюны с бороды, болтавшаяся до груди...
Ноги Гуннхильд на пол никак не вставали, и Сигрид волокла её, заслоняя от Харальда. Отпустила — чтобы Гуннхильд упала к стене — и обрушила ей на голову дождь из хлёстких ударов, таких частых, что под ними можно было задохнуться.
Волосы Сигрид выбились из кос, платок съехал на макушку. В глазах, впервые за сегодня смотревших на Гуннхильд, пенилась отчаянная ненависть. Пенилась, вытекала слезами и летела в покрасневшее лицо дочери, в её опалённые ресницы... Гуннхильд тоже смотрела на мать, пыталась бить локтями в ответ и выла низким голосом.
Вырваться из рук Сигрид было легче, чем от Харальда... И Гуннхильд выбежала на пустошь, где уже выпала роса.
Харальд не пошёл за Гуннхильд. Даже не сдвинулся.
«Ты ничего не понял! Ничего! Ничего не сделал!»
Так вчера орал в теле Провидца мужской голос, похожий на голос Бешеного. Голос, похожий на обволакивающее, низкое гудение ветра изо всех щелей дома.
«Помнишь, что говорил Провидец? — вклинился собеседник Гуннхильд. — Харальд пойдёт по гибельной тропе, потому что не завершил что-то по закону. Выкинул меч, воткнув в мёртвое дерево, опозорил его сталь и чуть не навлёк на него промахи и проклятия... Не знаю, к чему я это приплетаю».
Он врал. Как всегда.
Всё он знал, и Гуннхильд тоже знала. Обида с тех пор навсегда засела в её внутренностях и жгла их — то сильно, то слабо. С тех пор с ней и стал говорить голос. Говорил ли он раньше? Она боялась ворошить память и даже запрещала себе думать о прошлом.
«А, — вспомнил голос, — помнишь?.. Не бойся, не то старое прошлое, а то, что случилось час-два назад?»
«Нет!» — Гуннхильд попыталась заставить голос умолкнуть.
«Это было».
«Не было!»
«Чего не было? — Голос застрекотал как птица: — Чего? Чего? Чего? Того, из-за чего ты обиделась и на Трюггви?»
* * *
Да, это было. Всё так и было.
Гуннхильд ушла...
«Не ушла, а сбежала!» — издевался голос.
Гуннхильд ушла в сумерки, когда пир в память Бойца вылился в бесчинствующее нечто, чему у неё не находилось названия. Ушла прятаться...
За углом шелестят шаги. Шагают прямо под стук в груди Гуннхильд. Надо, надо спрятаться. Под навес, под ним темно, там самые густые и высокие заросли. Гуннхильд не увидят.
Прячась, она видела, как работник из пока не напившихся пинал лежавшую на боку кошку. Кошка, наверное, неудачно спрыгнула с кровли — и теперь не шевелила хвостом и задними лапами. Работник двигал её в сторону с прохода, и кошка мявкала при каждом пинке.
Гуннхильд было жалко кошку. Пусть та вела себя гордо, шипела и царапалась, когда расстроенная и нуждающаяся в утешении Гуннхильд подходила её гладить. Гуннхильд тогда говорили — так тебе, глупой, и надо.
Посмотреть бы, что с ней, но Гуннхильд заметят. Заставят дорабатывать за тех подлых, кто сейчас веселится с гостями. Она и без того много сделала.
А из-за угла дома выходил...
«Трюггви!»
Да, Трюггви... Почему-то бедро его выворачивается вбок, а когда сапог ступает на землю, плечо подпрыгивает, как от удара.
Он болезненно бледен даже в темноте. Лицо влажное, с налипшими на лоб волосами. Губы вздуты, будто его вот-вот стошнит. Только отбежать успеешь. Лицо, похожее на безумное лицо Харальда тогда...
«Когда?»
«Отстань!»
К боку Трюггви прилипла служанка из посёлка. Она трётся животом об его большое тело, вся растрёпанная. Взвизгивает, когда его ладонь властно мнёт её спину.
Гуннхильд пятится к дровам. В самой чёрной тени жмётся к кладке. Долго жаться не стоит — заползёт ещё гадость из дров в волосы и кожу. Потом не вычешешь...
«Иди!» — приказал ей голос, прозвучав гулким колоколом.
Гуннхильд всполошилась:
«Что?»
«Иди!..»
Лопатки отлепляются от дров, мигом забывая их колючие сучки и неровности. Гуннхильд ящерицей выскальзывает из дровяника и ловит в темноте запястье Трюггви.
Рука его уже ниже спины служанки.
«О, — смеётся голос, — Трюггви покоряет не только красивым видом своих рук, но и их действиями. Слышала, как служанки шептались про всякое?»
У него пальцы длинные, крупные, такие твёрдые и такие шершавые, что у Гуннхильд холодеет в макушке. Прекрасны даже незаживающие, лопнувшие из-за соли суставы.
Рука Трюггви заполняет весь мир, который из темноты видит Гуннхильд. Но рука выскальзывает из её ладоней, как лосось сквозь негодный невод.
— Пойдём со мной!
Это просит не Гуннхильд, а одна высокая, веснушчатая девочка. Трюггви усмехнётся в усы, как усмехается его отец, и пойдёт за нею. Она покажет ему кое-какую чудесную тайну!..
Но он и не поворачивается, Гуннхильд ему загораживает служанка. Свет от дальних костров — около дома всё загашено за ненадобностью — дотягивается сюда слабо. А пьяная весёлость и обжигающая женская грудь не вызывают желания всматриваться в тёмные хлева с дровяниками...
Шатаясь, Трюггви и наглая девка скрываются. Пошли в пролесок, из которого начинается ручей.
Гуннхильд оглядывается на дом, чёрный и мёртвый в редком свечении костров. Долго всматривается, вслушивается.
В ответ ей вздыхают, щёлкая, дрова. Шебуршит между кладками позапрошлогодний бурьян. Каждая на собственный лад гавкают далёкие собаки.
Кошка под постройкой напротив не двигается, лежит на боку, повёрнувшись ушастым затылком и спиной к Гуннхильд.
* * *
С моря наползает белый-пребелый туман. Кажется, что берёзки, похожие на чёрные скелеты, лохматые ели, валуны, камни — все-все они торчат из молока. И это молоко разливается дальше.
«Такой же туман спустился на городок Эйре, который сжёг Ингвар Боец. Только сейчас осень, а не белые ночи».
«Помолчи!»
И голос послушно смолкает.
Гуннхильд хватается за вспыхнувшие рёбра, опирается о суковатую сосенку с пушистыми кисточками хвои. Надо отдышаться... Рука находит дырку в платье. Да сколько она уже его носит?
«Чего я ждала? Что он прогонит её и со смехом побежит со мной? Глупая... И все мои порывы глупые! Хорошо, что никто меня с ним не видел, а то смеялись бы!»
Туча отходит, и в каплях на колючих плодах репейника и сухих стебельках вереска сверкают звёзды. Наступил настоящий волшебный час. Вдруг и вправду, в чёрных соснах или вон в тех кустах покажется плащ Мудрого-Одноглазого?
А лучше пусть выйдет Трюггви...
Но в плотной молочной пелене виден только утёс, за которым шумит море. Полюбовавшись им и спустившимися на землю звёздами, Гуннхильд закрывает глаза и касается затылком неровной сосенки.
Точно ли у неё за спиной не дровяник? Проходил ли мимо Трюггви со служанкой?
Она, как и тогда, грызёт кончик пальца. Не поздно ещё догнать их? Она видела, что они пошли в дальний лес. Она тоже побежала туда после того, как...
Она, как и тогда, тверда, как опора дровяника. Опору всегда задевали при укладке дров, она гудела и колебалась, но стояла крепко. Поэтому Гуннхильд жалась так к ней.
«Скажи, был там Трюггви?»
Голос молчит. Нет очень нужного ей ответа.
Этого вопроса недостаточно, возникают другие, плещущиеся подобно рыбам в запруде. Она вправду подходила к Трюггви? Или это показалось?..
Наверное, она придумала всё.
А Трюггви не проходил мимо дровяника. Если всё-таки проходил, то Гуннхильд испугалась служанки и не вышла, навоображав всякого. С Гуннхильд так бывает...
И она не около дровяника. Дровяник сломали и раскидали, чтобы пожар на него не перекинулся, а Гуннхильд, не зная об этом, стоит в дюжине шагов от размытого прибоем берега.
Уже ничего не переиграешь, уже ничего не исправишь.
Боги прокляли её.
* * *
Прошли золотисто-янтарные сумерки, когда Гуннхильд пробралась в дом и увидела тайный обряд. Прошла звёздная ночь, когда Гуннхильд навсегда испортила жизнь себе и Харальду. Пришёл час умирать и утру следующего дня.
В старом доме Волчьего Гнезда очень душно — входную дверь даже сняли и унесли на задний двор. Трещат светцы, горят свечи, коптит светильник над очагом. В доме не протолкнуться.
Стоит Сигрид со слугами, стоят воины Харальда и сам Харальд. Платье Сигрид со златошитыми птицей-яблоками заштопывалось всю ночь. Штопка завешена накидкой и новеньким ожерельем из трюмового сундука драккара Харальда... Сигрид это платье больше никогда не наденет.
Трюггви один в середине зала. Без шлема, в доспехах. Нет, не в старых ритуальных, как на охоте. В полных, боевых, настоящих. От перчатки до пряжки ремня.
Ладони, сухие, горячие, собирают в складки суровую ткань штанов. Сердце отстукивает размеренно, будто куда-то шагает. Колени застыли камнями, и ноги позорно не подкосятся. Ночную тропу, как отец обещал, он почему-то не помнит.
Вместо бурлящего водоворота мыслей у Трюггви в голове высохшее болото... Он не замечает благоговения, с которым смотрят на него те, кто помыкал им всего несколько лун назад. Ему оно безразлично — хоть он и мечтал об этом.
Горм, худой, невысокий, где-то позади, около дверного проёма. Оттуда разливается свет, и лицо его просматривается плохо. Трюггви хочется обнять Горма и прижаться к его плечу, как в детстве. Но он вот-вот перестанет быть тем сопливым мальчишкой.
Видел ли Горм, сколько волосков на щеках и шее Трюггви выросло со дня, когда тот ушёл из Гнезда в качестве сына Харальда? Хороший певец скажет, что они чудо как красивы, и их можно сравнить с подснежниками, проклюнувшимися в весенней чёрной земле.
— Это ради тебя Отец-Богов висел на Ясене, — звучат Слова-Которые-Всегда-Говорятся.
Очередь их говорить пришла донельзя гордому Харальду.
— Вот тебе оружие для защиты его чертога и шлем...
Харальд принимает родовой шлем из рук жены и опускает на голову Трюггви.
По подшлемнику, по слипшимся белым прядям тихо шелестят кольчужные кольца древней вязки. Узорчатая маска садится на переносицу, а в прорезях распахиваются серые глаза под густыми белыми ресницами...
Харальд замечает, что рядом с Трюггви кто-то стоит. Ближе, чем требуется. И смотрит на Харальда.
Все в доме прекратили дышать.
И Харальд тоже.
* * *
«Это всё Краснобокий!»
Гуннхильд лежала на краю обрыва. Она била себя кулаком по голове и беззвучно плакала, раскрывая рот. Что она наделала! Что она наделала!..
«Я чуть не заревела, когда его начали отвязывать! Я ушла помогать перебирать запасы в самом дальнем погребе! А потом знать не хотела, которой он был из туш! Пусть эти злыдни на него показывали!.. Я тогда оторопела от своего решения».
Вдруг выдернув эту мысль из подзамочья, Гуннхильд вытерла слёзы и посмотрела на светлеющее небо.
«Ходила весь вечер сама не своя. Хотя сразу забыла Краснобокого. Перестала думать о нём. Было что-то другое».
... То, что Гуннхильд до припадков боялась ожогов, Сигрид прекрасно знала. Даже в лютейшие морозы Гуннхильд укладывалась подальше от очага, порою у самой двери. Но, возможно, Сигрид забыла. Или решила сорвать злость хоть на глупой безответной дочери, раз не получилось на муже или на его пьяных свиньях.
«Так кто у тебя виноват — Краснобокий, Харальд, Сигрид или Трюггви?»
«Я твёрдо решилась из-за Трюггви у дровяника... Горшок с углями и золой в ручей я не высыпала. И вспомнила, что придумала так сделать ещё до её приказа».
Сигрид дала Гуннхильд подарок щедрее щедрого. Вернее, намерению Гуннхильд, переставшему быть мутно-неясным. Она смотрела на дочь, пусть и искоса. Она кричала не только Гуннхильд — приказ долетел до слуг, но они отложили его...
Торвальд, выискивая среди служанок рыжую, увидел подходившую к очагу Гуннхильд, но не придал этому значения. Служанки пока что бегали вдоль столов — сидеть за ними на коленях гостей они будут позже.
А Гуннхильд просто закроет глаза. Или посмотрит на очаг и на свои страхи, как мать — искоса, с презрением. И выберет из золы под котлом уголья. Их высыпают в излучину ручья, где углублено дно, и мешают с песком. Одежда так лучше отстирывалась, да и было чем растереть грязь.
«Ты высыпала их в ручей? Как велела Сигрид?»
Голос словно не услышал признания. Гуннхильд подумала и решила ответить:
«Не помню».
«Где ты спрятала горшок?»
«Не помню! Перестань, — Гуннхильд отчаянно плакала. — Нашла».
«В нём тлели уголья?»
— Да! — вскричала Гуннхильд. — Я, наверное, с ними что-то сделала, из-за чего у меня ожоги, и убежала!
... Она снова вскочила и ринулась вдоль кромки обрыва, крича на бегу. Рыжие ёлки на камнях, которыми давным-давно любовались ныне мёртвые Рагнар и Харальд, вырубили прошлыми зимами — в умелых руках сухостой разгорается быстро. Поэтому бежать было привольней некуда.
И крик её свободно нёсся с утёса, сердцем которого была скала, прочно вклеенная в берег наносом из гальки, глины и песка. На ней милостиво позволялось расти лишь вереску и его сорным собратьям.
— Гуннхильд! Гуннхильд! — звали отставшие крики.
«Ты рассыпала угли по соломе в проходе. Потом заперла дверь и завалила её всем, что было поблизости. Тебе повезло, что в доме никто не проснулся, и что на улице все далеко разошлись!»
Вот этого ноги не выдержали. Прекратили бежать, бессильно пропуская колени гнуться вперёд — туда, за обрыв... И Гуннхильд катится по склону. В руках треплется репейник, за который она уцепилась. Прошлым утром он оставил семена на одежде пришедшего с моря одноглазого мужчины. Репейник не жалеет о напрасной смерти, потому что весной у него вырастут дети.
Накувыркавшаяся Гуннхильд, плача, застыла в луже у прибоя. Она плачет навзрыд, во всю грудь, подвывая, даже сдавленно рыча — и из-за обиды, и из-за отбитых боков.
Обожжённую руку сводит от зуда, которому ни в коем случае нельзя поддаваться и не расчёсывать. Морская вода ласково проглатывает ожоги. Гуннхильд чувствует, как они, пульсируя в ней, успокаиваются.
Всплески входят в горячую голову, как молотки в глиняную стену. Один из них выбивается, словно наперекор другим.
Это у бывшего столба покачивается лодка. В уключине скрипит весло, упирающееся в камень — лодка одновёсельная. От столба до носового кольца провисает толстая плетёная верёвка. На бортике наполовину в воде лежит кожаный плащ с шевелящимся от ветерка меховым воротником.
Гуннхильд протяжно вздыхает. Кусает себя за рукав, забивая рот его колючей лохматой тканью и вытирая о складки слёзы.
Она громко, радостно смеётся — даже спина трясётся. Давай вставай, прыгай, кружись!
Боги не прокляли Гуннхильд.
* * *
Стоя тогда, в свете умирающего утра, близко-близко перед Харальдом, Гуннхильд словно бы надела его лицо.
Плотно-преплотно сжала губы. Их было не прорезать и кинжалом — случался по весёлым слухам такой опыт у Харальда, оставивший бугристый шрам под рыжей бородой. Между бровями легла складка, заметная даже в скопище веснушек. И из-под них Харальда пронзал напрочь, до затылка, знакомый взгляд — который он ловил в отражении на воде или в натёртой стали.
Да... Это было фамильное, как говорят южане, лицо. Переползло к Гуннхильд, предав недостойного Харальда.
Гуннхильд видела, что на его лбу, под зачёсанными рыжими волосами, вот-вот заблестит испарина. Догадается ли глупая дура, что он на самом деле малодушно сдался?..
Вскинув брови, Харальд обернулся к Сигрид. У той белел подбородок, а на скулах проступали опасные пятна.
Харальд кашлянул в кулак с неприлично хриплым харканьем. Послышался его негромкий смех.
Опасные пятна со скул Сигрид разрослись на щёки.
Смех Харальда уже летал вокруг брусьев — на одном белел свежий заруб — и бился о нарисованные цветы. Воины и напрудившие в штаны слуги прокусили языки, чтобы не одёргивать Харальда. Мол, смеёшься в такой час...
Пылинки, пляшущие в световых потоках, смеются вместе с Харальдом. Около одного воздуховода в крыше пылинок больше, чем людей на землях побережья, и все они очень громко смеются над Гуннхильд.
Хочется вырвать с корнем себе уши и засунуть их в рот Харальду, только бы он перестал...
Вслед за пылинками и Харальдом посмел засмеяться и кто-то из воинов. А потом ещё кто-то. И ещё...
Рагнар, тот с большими руками, кто вчера ловил Гуннхильд, с укоризненной улыбкой покачал головой. Когда Гуннхильд второй раз подняла в его сторону плывший от слёз взгляд, Рагнар смеялся вместе со всеми.
Они смеялись, а она вспоминала их имена — вот Рагнар, вот Хёгни, Кнуд, Свейн... И Трюггви под блестящей маской криво и нерешительно приобщился к радости своих братьев. Гуннхильд его губ не видела, но всё было понятно по поднявшемуся подбородку.
От хохота гудит каждая щепочка в стене, каждая соломинка в крыше.
Харальд кладёт жёсткую ладонь на шею Трюггви, прижимает сына к себе. Коротко говорит ему пару слов, но что — не слышно. Поворачивается с ним к дверному проёму, из которого в дом врывается полуденное солнце.
Под солнцем рябится серебряная колыбель из песен матери Трюггви, и в неё огромными горами спускаются облака. У самого её краешка покачивается драккар с серо-алым парусом.
«Всем!.. — заявляет Харальд. — Всем, от листочка на омеле до великана в горной пещере! Каждому в этом мире говорю, и вы скажите, что посвящение сына Харальда Рыжего Волка закончено!»
* * *
«Тогда тебе, Харальд, достаточно было кивнуть, а не смеяться, — звенел в памяти Гуннхильд бесполый голос Провидца... Тот, который никто не запомнил. Никто, кроме Гуннхильд. — Вот как ты сошёл на тропу к смерти».
«Я всем сердцем хотела приблизиться к нему. Как сильно я этого боялась и как сильно хотела. Я обмирала, когда в день свадьбы бегала около него и следила за всеми ними. Меня трясло, но я была счастлива, когда даже на полшажочка приближалась к нему. Задерживалась, а потом с деревянной спиной отбегала перевести дух. Почему? Я боялась, что он заметит меня и прогонит. И никогда не поймёт и не захочет понять, что же к нему... Я ненавидела Трюггви за то, что он с ними, а я нет. Ему было можно, мне нельзя... И той волшебной ночью мои сокровенные мечты сбылись! Всё было как сон! И даже лучше сна! Я хотела поразить Харальда, доказать ему... Но чуть-чуть, с капельку! Мне ведь стало жалко Трюггви. И всё!.. Хотя о ком я думала больше, о Харальде или о Трюггви, я сказать тебе не могу».
— Ох, Харальд, — как вздыхала из тела Провидца бабушка.
Гуннхильд хотела, чтобы это была бабушка.
* * *
С каждым днём становится холоднее, поскольку осень на полных правах воцарилась на побережье. Вода в море тоже стынет, и Гуннхильд ощущает это, бредя в нём по грудь, но вода мягче лесного тумана. Она, кажется, пока тёплая — совсем как парное молоко.
Лодка-одновёселка сама подплывает к Гуннхильд.
Гуннхильд отвязывает от кольца верёвку, упирается животом в борт и перекидывает ногу.
Пройдёт время, прежде чем она приноровится к рулю с веслом.
У плаща тёплая войлочная подкладка, это он только снаружи кожаный. Но он весь промёрзлый, будто лежал тут дня два. Мокрый, склеившийся, и трещал талым льдом, когда Гуннхильд его раскрывала.
... Мореходы верят в то, что у каждой волны есть имя. И что в них обитают волшебные девы.
Морская вода лижет проконопаченные, просмоленные бока лодки. В её толще видны хрупкие руки, качающие борта как колыбель, и длинные волосы — похожие на траву, как поётся в восточных песнях. Лёгкие, словно пена.
Но печалью светятся глаза на прозрачных девичьих лицах. Или всё же это отражённые звёзды?..
* * *
Волдыри на пальцах лопнули, по черену весла побежали маслянистые подтёки сукровицы. Ладони вспомнили о горячих углях, и огонь опять закрутился в запястьях, рассылая жгучие искры в пальцы и в плечи.
Но Гуннхильд не до боли. Она только-только укротила вырванное из уключины весло и стала, наконец-то, подчинять ход лодки. Что было непросто, так как руль оказался обломан, а волны, будто нарочно, перебрасывают нос друг другу.
Опять пришёл туман, и звёзды пропали. Только светятся слабенькие серые крапинки — и то, если запрокинуть затылок на самые лопатки. Туман тоже серый, вездесущий, плотный. Такой плотный, что можно щупать.
Пусть он станет сегодня провожатым Гуннхильд. Тем, кем был для Ингвара Бойца.
А голос хоть и смолк, но не исчез. Как Гуннхильд направляет руль, так и он направляет её руку, держа свою, бесплотную, поверх. Он пискляво хихикает откуда-то из задворок разума, предвкушая, как скрипнет о грубый песок днище лодки, и Гуннхильд, перевалившись через борт, рухнет в прибой. Уж тогда-то он будет хохотать в открытую, как безумный — тут он Гуннхильд даёт слово.
Лес, поросший поверх прибрежных щитов из гранита, пропадёт, как будто не пугал никогда своею мрачностью. Колючие, погибшие в морозы ёлки разойдутся, как в хороводе девушки, чтобы открылась поляна с деревом, чьи листья золотые, ягоды алые. Светлые, красивые, там с улыбкой ждут её...
Её, Гуннхильд!
... Ждут ласковая Мать, а рядом доблестный Отец в сверкающих доспехах. За ними, стоя полукругом, ждут и добрые слуги. Все те, кто любит Гуннхильд.
А после радостной встречи с семьёй, слёз и объятий она отнесёт узелок с обедом одному светловолосому пастуху с горного пастбища. Он ведь тоже любит её.
Пускай под правым башмаком пробивается струйка, пускай вода пропитывает подкладку и чавкает в мыске, если на него наступить. Босая ступня болит, онемевшая и — «мёртвая!» — холодная, как проникающая вода. Но обутой всяко холоднее — вон какая дрожь колотит колено, которое прыгает и дрыгает, не успокаиваясь. Плечи, ответственные за руль-весло, согревают туловище под мокрым плащом, поэтому ноги рано или поздно тоже согреются. Надо потерпеть и подождать... Налипший на ступню песок прежде был светлым и лёгким, а под водой почернел, и кожа стала цветом совсем как луна или молодой сыр.
Наверное, остров с поляной будет скоро.
Гуннхильд так думает.
«И хватит плакать! — строго, как сестрёнка младшему брату, приказывает она себе и добавляет любимое слово Уны. — Попусту».
* * *
Как говорят старые люди, в море каждому воздаётся. Певцы говорят, море породило мир.
Боги его справедливы.