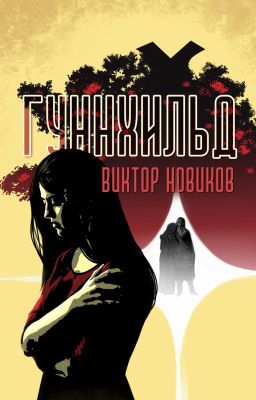Глава IV, в которой пир пойдёт по должному пути
В доме стало душно, как если бы в стенах и окнах закупорили все щели.
— Доспрашивался, — сказал Рагнар.
Грузно облокотившись о стол, он потянулся к любимому блюду с телятиной. Выбирал придирчиво, тщательно, чтобы кусок был побольше, приправа-зелень погуще.
Торвальд удивился, но... Да, Рагнар всё слышал и всё понимал. Торвальд подозревал правильно — Харальд и с ним вёл такие беседы.
Рагнар положил телятину в рот и принялся жевать, шумно выпуская воздух из ноздрей.
Все, кто был под крышей этого дома, будто тоже наряду с хозяином получили нежданный подарок. Все боялись шевельнуться, чтобы не обрушить упавшие стены, опасно зависшие над затылком.
Служанки скучились у очага. Сигрид судорожно сглатывала, как если бы собиралась расплакаться. Кнуд сдвинул брови и посапывал, будто во сне.
Харальд перестал казаться Торвальду вконец пьяным.
Сполна изучив руки перед собой, он поднял их за шею. Долго копался под косами — чтобы поковырявшись в пазухе, вытащить Торов-Молот. А после повертеть его у кончика носа и подтолкнуть через стол Торвальду...
Торвальд подобрал молоточек и разгладил его ремешки из кожи. Молоточек медный, грубой работы, ремешки рваные, искусанные; судя по виду, он много где побывал. Висел, наверное, в волосах на груди Харальда с тех пор, как они проросли.
— Торвальд, — прошептал Харальд в зудящей тишине. — Умоляю, поклянись на нём, что не солгал мне.
Торвальда нечасто просили клясться в правдивости его дара. Поклясться, что солнце встаёт утром, а заходит вечером. Захотелось рассмеяться.
Пару смешков он не сдержал, но поклялся со всей серьёзностью:
— Если просишь... Клянусь.
Положив молот в роковую чашу, он возвратил её через Рагнара Харальду.
Харальд покрутил чашу в ладонях, будто палочку для розжига костра. Вынув молот, он кивнул Горму, и тот на своих тонких ногах пошагал к бочкам.
— Я не понял. Кто мой убийца? — перебирая ремешки, спросил Харальд.
Теперь один лишь Торвальд смотрел на него. Харальд, почуяв это, повернулся.
Его и без того блёклые глаза светлели. Обычно они светлеют, если Харальд пребывает в ярости... Торвальд подумал, что такие плачущие глаза бывают у ребёнка, на которого кричит мать. Всегда бывает трудно скрыть настоящий детский страх. Однако не каждый имеет смелость посмотреть в глаза гневающегося конунга. И узнать, что конунги тоже смертельно боятся.
— Клянусь, — повторил Торвальд, — что не видел. Был яркий огонь. Боль того, виновного, била, как мешок мокрого песка. Она выросла сильной и большой, потому что когда-то давным-давно ты отверг самое искреннее в его жизни желание. И почва для обиды в его душе благодатней некуда.
— Говоришь, он тут, под моей крышей? — встрепенулся Харальд. — Будь на моём месте Бешеный, он бы вас всех перерезал, не раздумывая. И не по своей обычной дурости, а из трезвого расчёта. Ну, кто же моя вторая душа?
Он сам уже казался трезвым. Хотя изо рта его пахло, нос позорно рдел, и язык заплетался.
— Харальд, — Торвальд продолжал качать головой. — Я на короткое время оказался в его шкуре, чтобы только понять причину твоей смерти. Мне показали, а не рассказали. И показали очень скудно. Это сложно объяснить.
— Так попытайся, — Харальд, вскинув брови, стукнул чашей о стол.
Торвальд помялся, прежде чем принялся истолковывать образы, недавно бурлившие в голове...
— Ты оттолкнул его когда-то и не заметил. Не придал значения, а в тот миг это был самый близкий, самый верный тебе человек. Он прыгнул бы за тобой и в ледяное море, и в огненную гору.
— Понятно! — выдохнул Харальд. — Так про вас всех сказать можно. За что он меня убьёт?
— Тебя очень много и очень сильно ругали. Помнишьте глухие голоса? Они бубнили и бубнили, что однажды ты поступил не по закону. Не решился проделать должное. Проявил слабость, и твоя тропа повернула к смерти.
Харальд посерел. Пальцы его на ножке золотой чаши дрожали.
Головы слуг и гостей в свете свечей и светцов склонялись и выпрямлялись, словно кроны деревьев в беззвучном ветре.
— С ними спорили. Мол, ты не был добр и ласков к нуждающемуся, оттого и привлёк смерть. Испортил всё одним поступком...
Харальд стукнул кулаком по столу и, наклонившись, почти коснулся его лбом.
— Я это и сам слышал. Я совершил много всяких поступков. Я не понимаю, о чём ты. Только понимаю, что ты был прав, когда отговаривал меня. Беззаботное неведение много приятнее... Кто он? Я дождусь имени?
— В этот раз всё виделось иначе, — покачал снова головой Торвальд. — Не забывай, что мне не легче. Я тоже... В твоей шкуре.
— Значит, сам узнаю, — рассмеялся Харальд. — Сам узнаю. Рассужу, если надо. И покажу, как твои друзья оттуда неправы... Это, наверное, не ты. Я называю тебя братом, но сам знаешь, что мне ты не вторая душа. И я не помню, чтобы толкал или обижал тебя. Может, ты помнишь? Ты у нас злопамятный?
— Нет.
— И по твоим словам ты умрёшь от той же руки. А помните, — Харальд обратился к гостям, — как ужинал Белый-Бог со своими воинами?
Рагнар кивнул. За ним кивнули и остальные.
— Один из них предал его, и Белый-Бог знал это. Понимаю теперь, как тяжело ему было. Я каждого из вас, кто не смотрит мне в глаза, назову своей второй душой... Вы ужинаете со мной, я лью пьяные слёзы, дарю вам оставшиеся часы, а кто-то из вас подумывает убить меня с Торвальдом.
Хотя никто не ел. Все боялись подавиться после таких обвинений не особо радушного хозяина.
Торвальд вдруг подумал, что ни он, ни они не смогут мгновенно выхватить оружие. Все мечи, топоры, щиты висят сзади на стенах привязанные или закреплённые на гвоздях, скобах и крюках. А Харальд выходил с блеском из положений и похуже, чем один против нескольких — да ещё нетрезвых. К тому же на подмогу ему прибегут слуги с кольями-копьями и вилами. И на чьей стороне будет Трюггви? Да и ревнительница Сигрид... А Рагнар? Тогда уж и Кнуд, Свейн. Про всех них так сказать можно.
Нет, никто не ел. Поверх ломившихся от еды столов словно воздвигалась невидимая плотина. И словно речной мусор, она собирала напряжение и страх. Пока её не прорвало...
— Когда ты молчал, было намного веселее, — сказал с издёвкой Рагнар. — Собственный пир собственным языком испортить, вот где редкий дар! Встречается пореже Торвальдова! Вот про что неплохо бы сложить песню, а не про то, что однажды ты, видите ли, умрёшь. Хоть так выделишься среди мёртвых конунгов. К чему тебе эти подозрения? Мы же у тебя как на ладони — как и ты у нас!.. Иди лучше отоспись. Или быка снова проведай.
Харальд очнулся от оцепенения. Зрачки его уменьшились.
Рагнар был из немногих, кто смел сколько угодно смотреть Харальду в глаза.
— А-а, ты, Рагнар, — проговорил Харальд, словно впервые увидев его.
Найдя на дне чаши остаток вина, он допил его.
— Говоришь, отоспаться? Я теперь долго не буду спать спокойно. Особенно, если приснится Сосновое Устье.
Рагнар побагровел, будто его с огромной силой ударили под дых:
— Ты опять?..
— Я считаю лицемерием весь твой бред о прощении, — со злобным, надрывным вызовом просипел Харальд. — Да, опять! Наверняка всё мечтаешь пустить мне кишки. А вдруг у конунгов они другого цвета? Проверь!
Торвальд переплёл пальцы у носа. Сердце билось невпопад, сорвавшись со всевозможных цепей.
Харальд бил Рагнара прицельно, знаючи, в старую рану. Из ран особых, долго заживающих после воспаления.
Когда она возникла, волосы Харальда полыхали пламенем не только на солнце. Самой внушительной частью Рагнара тогда были плечи, а не живот — он, бывало, быков на них переправлял вброд через родную реку.
Про Сосновое Устье Торвальду рассказал Ингвар.
* * *
Это случилось в ледниковых разломах Грёнланда. Однажды в прошлой жизни.
В высокогорной пещере трещал костёр. Лицо Торвальда от жара почти плавилось, но до спины и укутанных ног тепло не добиралось. Найти в здешней стране веточки огню на подпитку — было сродни подвигу, и сбор их занимал весь световой день. Как выл снаружи ветер, было слышно даже за стенами пещеры толщиной в человеческий рост, за всеми осыпями и валунами.
Путники спали под пухлыми одеялами из шерсти и сшитых шкур. Только Торвальд и Ингвар бодрствовали.
Ингвар всматривался в игольчатый узор миски, которую он держал в своих ладонях, и которую ему вылепила и расписала Гудрун. Весь поход он прошёл в чём-то связанном ею. Пальцы Гудрун сотворили много прекрасного, прежде чем она стала плохо видеть — сказались часы работы при скудном освещении в зимние вечера.
И хотя Ингвар преданно возил ей с походов связками лучшие свечи, ни ткацких крючков, ни деревянных или железных спиц, ни рисовальную палочку с разлохмаченным концом в руки она больше не брала.
— Я думал, ты всё знаешь, раз помирил их на моём мече. Немногое?.. Тогда добился, упрямец, я тебе расскажу. Начнём с того, что у Рагнара на самом деле иное имя. Он с востока, и зовут его Раттибур.
Он всегда был Раттибуром. И никогда от этого имени не отказывался. Он зовёт себя Рагнаром, только когда говорит на нашем языке.
Вы с ним похожи как братья-близнецы. Что, смеёшься? Правильно, ты, сколько ни съешь, останешься тощим, а живот Рагнара в штанах и канат не удержит. Однако он, венд, и ты, финн, стали здешним людям братьями. Оба — сперва Рагнар, спустя годы ты — при свидетелях введены в род Харальда.
А с Харальдом... С Харальдом будь настороже. Со временем ты узнаешь его так, как знаем мы с Рагнаром.
Какой бы благодарностью он к тебе ни проникся, он будет бояться Меченного-Одином... Ты к этому страху привык. И понимаешь его причины.
Разлад начался с того, что Рагнару наскучили попойки с походами; и он распрощался со всеми, даже с Рыжим Волком, своим неразлучным другом, и вернулся в родные края.
Дом он покидал ещё с пухом вместо усов — как все мы, в поисках славной жизни. Деревня его с той поры разрослась на обе стороны устья, давшего ей полназвания. Густой бор, давший вторую половину, изрядно проредили, утёсы и обрывы сгладили, и поселение по чьей-то благой воле очутилось на торговых картах.
У его племени кровные связи крепче, чем у нас, поэтому за семейным столом скитальца посадили к прадеду, согласно старшинству. На поля его не пускали — по их обычаям земледелие считается слишком святым для человека с кровью на руках. Потому он с рассвета до заката бегал с рогатиной и стрелами по лесам. Бил каждый день зайцев и белок, а на праздники притаскивал даже лося.
Но в злополучный день зверь не шёл. Рагнар-Реттибур вернулся из леса раньше. Перегнал овец, которые забрели в чужой загон, прикрыл распахнутую дверь родового дома, в котором никого не было. И только тогда услышал, что от деревенского храма доносится колокол.
Около храма ползали и выли растрёпанные, полураздетые женщины. Из-за заборов и оград, как грибы, торчали головы детей. Старики, хмурясь, исподлобья взирали на разведённую грязь.
Бревенчатые стены храма затянулись чёрными разводами, окна без слюды стали пустыми, тоже чёрными глазницами. Дверь, кованная железом и медью, гулко хлопала. Через неё мужчины выносили тела убитых.
Наёмников торгаша, друга деревни, благодаря которому она расцвела, складывали рядком на лугу.
Отдельно, на расстеленные скатерти, положили торгаша и деревенского старосту. Полуотрубленная голова торгаша упала на плечо, на лице друг на друга наслоились тени, а под задранными губами оскалились зубы. Староста выглядел получше, но тоже жутко — навсегда поймав гневно-удивлённое выражение лица в миг, когда ему под ключицу вошёл клинок. И староста, и торгаш перед смертью стояли на коленях, поэтому раны были верными.
По реке плыл парус с лодьи торгаша. Прибился к куче мусора, и его трепало течением. Лодья, скособочившись, села у причала на пробитое днище. На самом причале пускали дым боевые горшки с маслом и угольями...
Деревня умерла, лишённая многоумного старосты и торгового успеха.
Рагнар нашёл знающих людей. Люди, которые всё знают, находятся быстро — это нехитрое правило всегда работает. И с черепами наёмников, напавших на деревню, Рагнар и его топор объяснились той же зимой...
— Не помню, кому именно перешёл дорогу торгаш, — сказал Ингвар, — но свидетели почему-то приплели Харальда.
* * *
Снова, спустя долгие годы, Харальд и Рагнар жестоко ругаются из-за Устья.
Харальд грязно оскорблял Рагнара — нападая, защищая свою честь. Рагнар отчитывал его словами, на которые Харальд не мог возражать...
Давным-давно, на одном скалистом берегу били друг по другу их меч и топор. Торвальд следовал за ними с мечом Ингвара, лишённым ножен по обряду примирения. В конце концов, они поклялись в дружбе на том лезвии. Кровь обоих, смешиваясь, текла с лезвия на песок, на скалу, в морскую воду.
Хорошо, что их оружие сегодня повешено на стену. Пока оно висит, ничья кровь не прольётся.
— Хватит, Харальд.
Голова Торвальда гудит, как расколотый улей, и он задаётся вопросом, говорил ли он это или только подумал?..
— Ты же знаешь Рагнара. Это вряд ли он.
Но Харальд тряс бородой, всё крича на Рагнара. Сигрид рядом закрывала лицо цветастыми блестящими рукавами.
Рагнар зажимал молот Харальда крепко-прекрепко. На его кулаке, подрагивая, шевелились мышцы. Казалось, это безглазая волосатая змея заглатывала добычу, оставив снаружи хвост из ремешков. Глаза Рагнара прекратили всякое движение... Обычно больной медведь так смотрит на охотника, подкрадывающегося с ножом и рогатиной.
Торвальд прислушался к гремевшей, как горный поток, беседе. Странно, но под неё улей в черепе прекращал источать нестерпимую боль...
— Они научили меня прощать, — нехотя признавался Рагнар. — Всё прощать.
Кнуд трахнул о стол кружкой, со вкусом расхохотавшись. Наконец, сказано что-то смешное, и всё, как кажется наивному Кнуду, возвращается обратно... Трюггви усмехнулся. Слуги тоже хихикали.
— Всё прощать? — У изумлённого Свейна поднялись белёсые брови. — Никак не понимаю. Это не по-человечески. Если так нужно поступать, я не могу.
А Харальд впился взглядом в Рагнара как клещ.
— И дали большую силу, чтобы прощать, — продолжал Рагнар. — Для этого нужна большая сила. Дали в первую очередь силу... Простить тебя, Харальд. Я всегда буду там, где правда. А я сейчас тут.
На что Харальд, задумавшись, кивнул.
Лавина веселья в честь Рагнара хода не сбавляла. Плечи Торвальда оставались обмякшими, как будто их вырвали из суставов и вложили обратно. В себя он приходил с трудом, поэтому-то поддался мерзкому стадному зову к травле.
Не будь он в полуобмороке, то очень хорошо бы подумал, прежде чем вслед за остальными грязными сапогами лезть в душу Рагнара:
— Поэтому про своих святош постоянно болтаешь?
Кнуд махал руками часто-часто, словно собирался взлетать:
— Из-за таких смутьянов, как ты, стали ходить туда, куда издревле ходить запрещалось! В этом-то твоя правда? Леса, ельники, ущелья... Места гиблые! Люди гибли! Нет старого, прежнего, сильного страха больше! Предки наказывали, духи отвращали!.. А этим нечестивцам нипочём — говорят, их бог ходит с ними! Ходите и другим показываете. Не-чес-тив-цы! Тьху!
— Но я не хожу. Зачем мне...
— Ты не ходишь — другие ходят! — заревел совсем ставший морковным Кнуд. — Кто? Да все!..
Рагнар горько усмехнулся. Вспотевший, напряжённый, он собрался гаркнуть что-нибудь в ответ, но неожиданно Харальд напал на Кнуда, как орёл на ягнёнка:
— Закрой свой пьяный рот. Этот, как ты орёшь, нечестивец не раз спасал твой дырявый жбан!
— Я не называл его нечестивцем!
— Сплетничаешь, как баба, и плюёшься на него! У тебя всегда такая благодарность? Его боги — его дело. Пусть хоть Старухе-В-Железном-Лесу молится, если именно это делает его нашим Рагнаром.
— А я что тебе весь вечер толкую? Подозревай кого угодно, но не нашего Рагнара!
— Ты не предашь, — Харальд обхватил Рагнара за крутую шею и ткнулся лбом в его плечо. — Торвальд прав. Твой брат очень жесток и виноват. Ты намного лучше старого рыжего дурака, поэтому прости его, если можешь.
— Да-да. Прощаю... Я лучше тебя, поэтому прощаю, — засмеялся Рагнар, похлопывая Харальда по лысеющему затылку.
Харальд тоже засмеялся. И будто случайно повернулся вправо, где сидел его сын.
— Ну, — спросил он, — а ты меня не предашь?
Он стал очень похож на скорбных людей с мозаичных стен какой-нибудь южной церкви. Прекратив лишь искренне смеяться.
— Нет, отец, — Трюггви резко вскинул белую голову.
Воздух даже зазвенел от его молодого голоса. Не слышалось ни капли хриплой глухоты, образующейся за годы, как провал в песке.
Серые и ясные глаза Трюггви встретились с глазами Харальда. Тоже серыми, но не ясными, а с пьяной мутной пеленой. Глаза Трюггви в песнях сравнивались с прохладными озёрами в белой пшенице, а Харальдовы были схожи... Разве что с осколками меча среди рыжей травы.
— Возьми молот, — негромко попросил Харальд...
Под днищем котла, закоптелым, никак не остывавшим, щёлкнуло на весь зал. Угли переливались яростным багрянцем — в очаге словно зевал неизвестный отпрыск Обратившегося-Лососем.
Трюггви перебирал пальцами ремешок.
Харальд облокотился на стол, не спуская глаз с Трюггви. Прямо на мокрые пятна разлитого вина. Под рукавом напряглись все мышцы, от плеча до запястья.
— Сын, — почему-то прослезившись, сказал Харальд, — помнишь песню, что пел нам тогда Ингвар?
— Он пел много песен, — улыбнулся Трюггви своей необычайно светлой улыбкой. Улыбкой, которую ему волей-неволей приходилось примерять. И которой научился улыбаться недавно, не с рождения. — Все они были длинными. Ты про какую?
— О кинге, который однажды не сменил паруса, и из-за чего его старик-отец спрыгнул со скалы в море.
— Помню, отец.
Но Харальд поднял ладонь, веля сыну замолчать.
— Мне понравилась половина про кингову жену. Как ей была отвратительна любовь к пасынку... Помнишь?
Сигрид распрямилась — как распрямляется стебель цветка после высыхания капель росы. Вдохнула, чтобы кровь отлила от скул. Но до неё никому не было дела, всё внимание удерживали Харальд и Трюггви. Хотя эти скользкие речи касались её.
— Безответная, страстная любовь, — с горестной усмешкой покачал головой Харальд. — Именно в ней была вся печаль песни, именно в ней заключалось волшебство. Песня без неё не родилась бы... И не пелась бы спустя века у нас на севере.
Смутившись собственного сверлящего взгляда на Трюггви, Харальд улыбнулся своей золотой чаше.
— Как и ты, сын кинга был славным воином. Бесспорным продолжателем дела своего отца... Как и ты.
Трюггви тоже отвёл взгляд. И тоже улыбнулся... В свете свечей и факелов очертания его лба, носа, бороды напомнили Торвальду лица кингов, отчеканенные на древних монетах.
Торвальд понял, что же увидел утром в лесу по пути на пир, и вздрогнул.
Когда-то в болотце на одной из лесных полян стоял старый ясень. Его давно выкорчевали, болото осушили, и на расчищенной поляне устроили крытую яму для дров...
* * *
В каждый-прекаждый уголок поляны простирается тень от громадного, узловатого ясеня. За лето болото высохло, под корневищами почва просела, показались норы и гнёзда. По ранней осени дни ещё тёплые, но скоро придут бури, и ясень рухнет.
Между наружных корневищ сидит худой светловолосый паренёк лет тринадцати с виду. Сидит спиною к стволу, не жалея, что пачкает землёй новые красные штаны. Ясень его закрывает от злых глаз со стороны усадьбы.
И это очень хорошо. Так и надо.
— Трюггви!.. — разлетается зов.
В ответ только удивлённо шумит пролесок, вторящий недалёкому прибою. На поляну выходит очень худой, невысокий человек в куртке на медвежьем меху и в штанах из кожи моржа.
— Трюггви! — кричит он во второй раз.
«Крак!» — В шелест листьев вклинивается резкий треск.
Человек оборачивается и чёрными глазами, распахнутыми будто настежь, вглядывается в желтолистную берёзовую поросль, которая протянулась до самого моря. Небритые щёки поднимаются в улыбке. Сверкает полоска зубов...
Как ни старается Трюггви бежать тише, под ноги то и дело выпрыгивает предательский хворост. А прозрачный березняк даже не думает скрывать прыгающие белые волосы и штаны предательского красного цвета.
Человек в медвежьей куртке неторопливо сворачивает на тропинку. Более длинную, но сухую и хоженую. Дальше берега Трюггви всё равно не сбежит...
— Можешь пороть, Горм. Мне надоело бегать.
По плечу Трюггви хлопает тёмная ладонь, и он вздрагивает от неожиданности. И от холода.
Старая рубашка, впрочем, как и новые штаны, не спасала от студящего дыхания моря. Удерживать дрожь с лицом, полным, по его мнению, достоинства, Трюггви больше не мог.
— Пойдём, — Горм накидывает медвежью куртку на плечи Трюггви.
От куртки пахнет потом Горма, тёплой овчарней и очагом. Потребность согреться пересиливает кипящую злость. Трюггви кутается в куртку... Обида теряла смысл. Становилась по-детски мелочной глупостью — поэтому с ней надо было заканчивать. Как положено взрослому человеку.
Выдержав обязательное гордому достоинству мгновение, Трюггви поднялся с обрыва, на котором сидел, и пошёл с Гормом в лес.
В лесу Горм попытался разговорить его:
— Упрямый ты, хуже своего любимого козла. Такой же строптивый.
Трюггви не ответил, но дёрнул щекой. Мелко-мелко, как если бы её потянули за ниточку.
А Горм вспомнил, у кого щека дрожит точно также.
— Ты сам понимаешь, что неправ, — продолжал он. — Как обычно, натворишь глупостей, а когда надо отвечать за них, молчишь как пень.
Трюггви вспыхнул:
— Надо каждый раз оправдываться?
Горм опустил подбородок на кадык.
Под нижней челюстью у него курчавилась бородка чёрно-смолистого цвета. Волосы его из-за частого подрезания росли очень густо... Кем Горм был по рождению? Он отвечал, что не помнит.
— Не мне этому тебя учить, — Горм посопел ломаным носом перед тем, как начать воспитание. — Отвечай старшим, отцам, братьям, когда они прикажут. Они увидят, где в твоих словах правда, а где ложь и самовыгораживание. А перед врагами поступай, как хочешь. Им ты ничем не обязан.
Несчастного, раскрасневшегося Трюггви прорвало. Голос не дрожал — по крайней мере, ему так хотелось думать.
— Горм, мне стыдно. Это даже для ребёнка низко и подло, а я себя считаю мужчиной. Гуннхильд тоже весь день трудилась... Но я днями и ночами гонял стадо и устал так, что отдал бы коров первому встречному волку. Она сказала подождать до вечера, пока в коровнике не сменят подстилку. И я, кажется, ударил её.
Ждал ли Горм от мальчика таких слов?.. Конечно, ждал, раз не удивился.
— Ты мнишь себя мужчиной, но пока ты мальчишка. Не рвись в жизнь быстрее, чем требуется. Не может росток в одночасье стать деревом. Ничего путного из такого дерева не получится. Но ты свою вину всегда понимаешь, и это хорошо. Правда, позволяешь себе выпускать гнев не вовремя. И не на того... Несдержанный, — Горм потрепал белые волосы Трюггви, изрядно отросшие за лето. — Как отец.
На последнем слове мука как по волшебству исчезла из глаз Трюггви. Вместо неё серыми солнечными лучиками засверкали вопросы.
— А-а... — протянул Трюггви. — Какой он?
Горм сделал нарочито-непонимающий вид.
— Какой он, мой отец?
Горм заложил руки за спину. Его худое лицо, с широкими, сильно впавшими скулами, сморщилось.
— Пусть Премудрый и Жители-Небесной-Деревни хранят ему жизнь, чтобы вы встретились однажды. Он похож на огонь, который клокочет под горами. Твоя мать, напротив, была равнинной рекою. Ты очень на неё похож... У тебя её доброе лицо и её душа. Но иногда в тебе загорается и подземный огонь. Как сегодня, да?
Налетели давящие на сердце и на глаза воспоминания.
Трюггви воспоминал длинные волосы, белей, ласковей и блестящей его вихров. Негромкий, задавленный навсегда в груди голос и огромные глаза на исхудавшем за долгую зиму лице. Вспоминал и видел, как горит лучина в их с мамой углу, как покрасневшие мамины руки поправляют на нём старое овчинное одеяло.
Никакая она не река, а валун, земля и цветы в лесу. И колыбельная, что всегда приходит, когда засыпаешь.
Мама пела колыбельные без слов, чтобы во снах Трюггви волновалось море, плыли корабли с драконами на носах, под парусами с соколом. Отец стоял на палубе одного из них...
Горм понял, о чём думает Трюггви. О более мрачном, нежели опрокинутая бадья с молоком. Будет молчать и думать дальше — снова надолго закроется.
— А у Гуннхильд попроси прощения и подари чего-нибудь. У неё и без тебя мало радости. Она ведь носила летом тебе поесть. Вырывалась, когда могла. И молоко, которое ты разлил, твою совесть больше тревожить не будет. Её все обижают, хоть она и дочь хозяев. Но ничего, скоро зима, приедет Олав-конунг — присмиреют.
— Хорошо... Коров загнали?
— Загнали, — Горм заулыбался. — Я загнал. Куда б они делись. А да, будут спрашивать, высек ли я тебя, говори, что высек. Попросят показать спину, вот тут упрямься, как умеешь. Вволю и досыта.
Трюггви покивал:
— Не покажу.
— Это хозяйка велела тебя высечь, но я решил посвоевольничать, — Горм, нахмурившись, покачал головой. — Она жестоко накричала на Гуннхильд из-за молока.
В чёрном тяжёлом пепле вины Трюггви тлеющим угольком расцвела радость.
Неужели?.. О нём думала прекрасная Сигрид! Золотоволосую голову пусть и жалкий миг, но занимала мысль о нём, о Трюггви...
— Я стану конунгом и заберу отсюда тебя и Гуннхильд, — сказал Трюггви. Сказал без клятв, поскольку это его дело, и боги здесь ни при чём.
Просто устыдившись недостойных мыслей о хозяйке, он стал думать о достойном, как подобает мужчине... Он думал о будущем. О возможной жизни вне Гнезда. О море и про песни о нём.
Трюггви повернулся к Горму — мол, одобряешь мою мечту?
Но Горм шёл и молчал.
Молчание было сильнее любого из ответов. Взрослые молчат, когда ребёнок осознаёт нечто важное, а затем говорит слова, к которым нечего добавить. Взрослые ещё молчат потому, что им всё видится чуть иначе. Ведь взрослый выше ребёнка и видит чуть дальше.
Горм усмехнулся. И обнял Трюггви за плечи, которые, как мелькнуло у Горма в голове, скоро обрастут мускулами. Парень сложен на редкость ладно.
Лес редеет, где-то по ровному каменистому ложу журчит ручей. С каждым кустом, с каждым стволом, уплывающими за спины Трюггви и Горма, всё резче и резче проступает складка между светлыми бровями будущего конунга.
Трюггви нервно повёл плечами. Стянув куртку, вернул её Горму... Потому что впереди сквозь кусты уже проглядываются серые стены усадьбы на зелёном холме.
Осень кончится, неожиданно вернётся отец Трюггви, и жизнь мальчика-пастуха изменится.
* * *
Трюггви, глядя на всех, улыбался, белозубо и с ямочками на щеках. Зубы были круглые, красивые, как жемчуг.
— Помню. Вы знаете, как я жил до плавания на Сером... Тогда под песню я думал о своей внезапно переменившейся жизни. О знаках, снах, случайных разговорах и клятвах, которые её определили. А чтобы наш Кнуд не заснул, признаюсь, что мальчик думал и о клятве сына кинга стеречься женщин. Можете смеяться, но вот наше с ним различие — я ни в чём таком не клялся!
— Это пустые слова, — ткнул на Трюггви толстым пальцем Кнуд. — Кто поручится, что ты не передумал? Вдруг, как наш Рагнар, передумал, а перед нами притворяешься!.. Рагнар, не обижайся.
— Твой конунг знает, что моего слова достаточно, — улыбнулся Трюггви. — Если без шуток, отец... Гости посмеялись и в разряженном воздухе быстрее поверят в мою правду.
— Как ты хорошо научился вилять разговором, — сказал Харальд польщено и не без извечной гордости. — Что у тебя за слово? В чём твоя правда?
— Никогда. Вот моё слово и моя правда.
Харальд продолжал глядеть на сына.
Трюггви был косноязычен для долгих речей, он не всегда умел разворачивать их нити правильно, цельным полотном, без излишней цветистости. Но когда говоришь от сердца, в первый или не в первый раз, это становится неважно.
— Я уважаю тебя, — Трюггви смотрел в глаза Харальду. — За то, что ты взял за руку оборвыша-пастуха и вывел его в жизнь. Я никогда не сделаю того, в чём ты нас обвиняешь. Пусть меня съедят змеи в позорной яме до костей и желудка. Ты прав, мы порой хотим сделать то, чего ты боишься, и порой ты того заслуживаешь. Но между рукой с ножом и твоей спиной всегда встаёт стена, а мысль рано или поздно гаснет.
Кнуд не сдержал язык за зубами:
— А как часто у тебя гаснет мысль прибить своего старика, чтоб тот не бросал тень на твою славную красоту?
Трюггви был бы плохим воином, если б не умел отшутиться:
— Реже, чем на твой счёт. С тобой рядом даже Локи будет Бальдером.
— Хорошо, что ты, Кнуд, охотно влезаешь в разговоры, — улыбнулся Харальд, и улыбка его была опасной. — Думаешь, это я тут шучу для тебя?
— Разве нет? — Кнуд, веселясь, пожал круглыми плечами.
— Для тебя со Свейном? — Харальд словно ничего не слышал. — А, Свейн? Смешно?..
В красном свете пещерного костра Торвальду явился Ингвар:
«Когда Кнуд пьяный, язык у него развязывается узлов на двенадцать, не иначе. Обычно — где-то на шесть. Было время, они со Свейном жестоко издевались над Харальдом. Свейн, которого ты знаешь — жалкое подобие прошлого Свейна. Пока Харальд возвышался, Свейн от страха возможной мести таял, как свеча... Он меряет Харальда и других по своей мелкой мерке, не знает, что Харальд, как остальные конунги, не считает нужным отплачивать за детские обиды. Но умный Харальд, может, мстит ему, держа в нескончаемом страхе. Свейн всё понимает, но не хочет срываться с крючка — ему нравится бояться».
Сгорбившийся и хмурый Харальд выговаривался:
— ...Я был неопытным, беспёрым выкидышем из пухового гнёздышка. Шутить над таким юнцом надо обязательно, ему это на пользу. Ну а вы часто видели вашего будущего конунга в недостойном положении. И часто туда его загоняли — как свинью на убой. Много было всякого, даже больно вспоминать то время... Время нашей молодости. Да-да, нашей. Моей с вами, Кнуд и Свейн. Я не отделяю вас от себя.
У Кнуда по-лягушачьи раздувались шея и щёки, а лицо багровело до жуткой синевы.
— А другой конунг выгнал бы вас.
— Харальд, ты... — Кнуд поднялся на случай, если это была его последняя попытка на оправдание, и он её без шуток проваливал.
Свейн, роняя слёзы, что-то тихо лепетал.
— Но я вас держу, — Харальд продолжал не замечать Кнуда. — Вы мне дороги.
Кнуд упал на лавку с отвисшей челюстью. И опять встал.
— Вы мои старые друзья. Было много хорошего, я помню это и как конунг обязан напоминать вам только это. Но и много чего идёт поперёк хорошего, как ни выпрыгивай из штанов. Оттого я вижу вас со Свейном сегодня иначе.
Кнуд сомкнул глаза в щёлки. Он хотел сказать что-то примирительное или новую шутку. Если та не испугается, а как всегда ловко ввернётся на язык. Если получится вообще заговорить... Кнуд обильно потел, задыхался — словно хотел прокашляться, чего, однако, не получалось.
— Сын, — ласково поглядел Харальд на сосредоточенного Трюггви. — Молот у тебя. Покажи, как метко ты умеешь бросать. Ты, Кнуд, подойди сюда.
Кнуд-то поймал. Кнуд всё ловит...
Молот был готов вот-вот разломиться в коротких толстых пальцах. Хотя он из сплава надёжного, выдержал многое. И это тоже выдержит.
— Бородой Всеотца! Бородой этого покровителя лжецов! — в бешеном испуге захрипел Кнуд. — Светлыми Асами! Добрыми Ванами!
Под божбу молот на ремешках метался, как куколка.
— Твоим очагом! — частил Кнуд. — Слышишь? Чтоб огнём мне в горле стало твоё пиво!
Харальд поморщился, словно от гнилого лука под носом.
— Всё, — махнул он. — Дай молот Свейну, пока он тут не умер... И не опередил меня.
Нехорошая вышла шутка, потому что Свейн побледнел до мертвенной черноты.
Кнуд продолжал уверять с преданным лицом:
— Ты мой отец, Харальд!
— Сядь, — укоряюще посмотрел на него Харальд.
— Да-да... — Кнуд уже надевал молот на шею Свейну.
Не успели на его ладони разгладиться отметины молота, как Кнуд заглотил в себя всё пиво, оставшееся в кружке. Пил жадно, охая при каждом глотке. Горло оно ему теперь не прожжёт.
Свейн, словно пойманный кот, втягивал в плечи шею с молотом.
— Выходи.
Свейн шёл прямее и твёрже Кнуда. Он пил куда скромнее, был трезвее, но явно упал бы быстрей.
— Я, — заикнулся, плача, Свейн, — я...
Смотреть на него было неловко. Харальд не смотрел и слёз не видел.
— Не говори, — Он кивнул, — я тебе верю.
Свейн отвернулся, шепча благодарности. Не улетавшие, впрочем, дальше его усов.
Постучав по скатерти пальцами, Харальд набрал воздуха в грудь и окликнул:
— Свейн!
Согбенная спина Свейна вздрогнула. Как недавно стол от пинка толстой ноги Кнуда. Харальд напугал его слишком рано — тот не дошагал до спасительной лавки.
— Верни молот, — тихо попросил Харальд.
Рагнар вытянул руку, но Свейн с виноватой улыбкой, поморгав, пошагал к Харальду.
Харальд, зажав молот, повёл кулак вправо, где сидела...
— Хватит! — вскрикнула Сигрид.
Она птицей взлетела со старого резного стула. Розоватые пятна на щеках наползали друг на друга, а около уха прыгала прядь, выпавшая из-под головного платка, похожая на серебряно-золотую серьгу.
— Вы! — с накопленной за вечер ненавистью выплюнула Сигрид.
Её потемневшие глаза сверкали, как молнии в нависшей над драккаром грозе. Сверкали и Харальдовы — вот такой она была, когда он как её муж взошёл на порог усадьбы.
Сегодня ночью она будет такой же. Страсть не успеет угаснуть, до конца вечера осталось недолго. Для этого у Харальда сил и умений предостаточно.
— Вы, — Сигрид смотрела на всех со злобой. — Напились и верите всякому дикому вранью, как выжившие из ума старухи.
Резной стул с грохотом упал. Ударившись о стену, жалобно скрипнул и, видимо, треснул где-то в резьбе на подголовнике.
Сигрид обходила Трюггви и брезгливо кривилась. Она ни одной своей ниточкой не коснётся его невозможно твёрдой, мускулистой спины... Её дорогое платье с визгом проскользнуло по стенным доскам, собрав с них всю смолу.
Когда она входила на пир, гости мужа на неё не обернулись. Но когда уходила — жадно следили за ней, как привязанные собаки... Из прекрасного сине-красного осеннего заката, где горели костры, прилетел её крик:
— Почистите очаг! В доме дышать нечем!.. Да, ты! Иди и чисти! Мне сказали, ты весь день ничего не делала!..
Не успел стихнуть этот крик, злосчастный молот стукнулся о столешницу. Его ремешки Харальд зажимал между пальцев.
Маленький нос Харальда налился кровью. Тоже, как кровь, красное, к его кулаку подтекало вино из опрокинутой чаши Сигрид, больше похожей на бутон белой лилии. Пытался ли Харальд прочитать что-то в этом тёмном озерце — ну, как Торвальд час назад?.. Вряд ли. Просто смотрел задумчиво на влажное место.
Откашлявшись, Харальд принялся надевать молот. Правда, негнущиеся пальцы завязали узел только с третьей попытки. Щёки его мелко-мелко подрагивали.
— Гусыня хоть и глупа, — Оставив, наконец, ремешок в покое, он заулыбался своей некрасивой улыбкой. — Глупа как... ха-ха!.. гусыня. Но она права, скажу я вам.
— Скажешь-скажешь! — передразнил Кнуд.
— Да... Мы пьяные... И еды толком у нас нет! Так ведь, сын? Чуете, какой запах? Быка зажарили на славу! Где Горм? Горм!
Харальд раскричался, не щадя связок, будто кричал последний раз в жизни.
В дверях возникла худая тень в медвежьей безрукавке. В сумерках за ней дрожал огонь.
— Где мясо? Твои слепые курицы не видят, что моим братьям есть нечего? — Горло Харальда сдавило удушьем, не позволив разлететься новому крику.
Горм, самый верный в мире слуга, нырнул обратно в сумерки.
Харальд перегнулся за стол, чтобы белой чашей Сигрид зачерпнуть вина из бочки. Рука, которой он опирался, дрожала, на пальцах взбухли вены.
Нужно прополоскать рот, пока голос не пропал насовсем.
— Мне уже... Я как догорел. Безразлично, — Харальд повеселел. — Хотя нет! Нет! Я хочу, чтобы вы помнили мой пир! И другие завидовали нам, жалея, что не попали сюда!
Кнуд подпрыгнул со вскинутой кружкой:
— Харальд!
— Веселитесь, братья! Я с вами по-настоящему живу! Пируйте вволю и на славу!
— Ха!.. Ральд!
Это встал с рогом и чашей Рагнар. А Харальд, тоже встав и обхватив его за шею, кричал то, что хотел прокричать весь вечер:
— Но если кто-то из вас, недоносков, всё-таки меня прикончит, уповайте, чтобы я научился прощать у нашего доброго Рагнара!
— Ха!.. Ральд! Ха!.. Ральд! Ха...
— Я не уйду в одиночестве!
Сиплый голос Харальда растворяется, тонет подобно жертвенному петуху. Не в пенящихся, правда, дочках Ньёрда, а в оре, которому проигрывали бури.
У Харальда счастливое и немного растерянное лицо.
Ему, оседающему от усталости и выпивки на опрокинутый резной стул Сигрид, помимо нынешних слышатся и другие его друзья.
На пир пришли гости из прошлого. От которых — о, неумолимые годы! — в скудеющей памяти остались лишь обрывки воспоминаний.
* * *
Торвальд ему поклялся.
Рагнар никогда его не предаст. Они друг другу не совсем доверяют, но покажите того глупца, который доверяет кому-то целиком и полностью?.. Обида Рагнара смертная, но поросла тем давнишним мхом, который не следует раскапывать. И как говорилось уже не раз, Рагнар умеет прощать.
Трюггви благодарен отцу за новую жизнь. Его тайная любовь к мачехе тут ни при чём, да и в тайне-то её он не держит. Это простительная слабость — и на самом светлом образе должны быть пылинки. Нет людей безупречных.
Свейн и Кнуд многое претерпели от Харальда, но камня за пазухой не имеют. Иногда несмотря на своё несогласие с конунгом в качестве старших. Кроме Харальда у них никого нет. Крыши, вина, еды и очага им, старикам, больше никто не предоставит. Поэтому они Харальду в рот смотрят, как птенчики.
Не бойся, Харальд. Хотя в страхе перед будущим нет ничего постыдного. Боги связали Фенрира, потому что тоже боялись.
* * *
«Если б ты, Тове, не подливал масла в костёр, вечер вышел бы веселей».
Как обычно, лишь Рагнар прислушался к его бормотанию.
— Мать звала меня Тове, — сказал Торвальд. — Это значит надежда. Она ошибалась... Какая из меня надежда. Псу под хвост, как говорил Бешеный. Меченный-Одином, кривой-увечный.
Рагнар раскрыл рот и даже поднял руку, чтобы с её помощью развернуть мысль правильно. Но мысль, от вина такая мудрая, от вина же на язык не торопилась; поэтому Рагнар опустил рог Торвальда в бочку перед столом, а Торвальд кивнул, разрешая.
Рагнар выбрал наиболее верный ответ на его стенания.
— Бери, — Торвальду ткнулся под ребро увесистый локоть, — пей быстрее, а то они вон без нас спать лягут.
Рагнар захохотал и хлопнул не понявшего Торвальда по шее. Поперхнувшись вином, Торвальд с тёплой благодарностью присоединился к веселью Рагнара.
Торвальда поведёт спать рыжая.
«Ну что? — скажет он ей и куснёт в белую с прозрачными веснушками шею. — Где сено мягче?»
Она засмеётся стеклянным колокольчиком, которые привозят с востока. Когда она смеётся, видна щёлка меж верхними зубками.
* * *
— Харальд бесспорно великий конунг, — подал голос Ингвар после молчания, во время которого лишь щёлкал огонь. — Так тебе скажет любой. Великий словами и делами. Нам повезло, что мы, жалкие, живём в век великого человека. С ним не скучно... Эй-ка! Торвальд!
— Ну, — отозвался один из меховых мешков.
— Спишь?
— Уже нет, — Торвальд повернулся к огню.
— Объясни тогда, почему утром... Хотя какое в здешних местах псам под хвост утро... Почему ты сказал, чтобы я не плыл в Альдейгью?
Торвальд, уморенный жаром и дымом, молчал.
— Не уговаривал, как полагается, не умолял, ползая в соплях. Просто буркнул под нос, что...
Недоговоривший Ингвар очень долго ждал. Очень долго.
— Забудь, — был, наконец-то, ответ. — Считай, что мне приснился плохой сон от твоей солонины.
* * *
Вино липкими сладкими дорожками бежало откуда-то из бездны по щекам в глаза, в бороду, с бороды по кадыку, скапливаясь и нагреваясь под воротником.
Рог Торвальда вправду бездонен. Вдруг это из него обманутый Сын-Одина пил море? Каким-то чудом он оказался в доме Харальда и попался Торвальду.
Встал на стол и закричал Кнуд. Кажется, у него развязаны штаны... Свейн шевелит губами и пытается спустить буяна на лавку. Он как Сигрид из прошлого часа. Торвальд моргает раза три и видит, как то ли Сигрид, то ли Свейн в дорогом платье Сигрид тщетно пытается усадить Кнуда.
Рагнар и Харальд смеются над этими двоими, и трясутся окаймлённые светцом их макушки. Одна, прилизанная, пышновласая, наклонилась к другой, с танцующим рыжевато-золотистым нимбом. Та неумело смеётся, задыхаясь и захлёбываясь...
Трюггви обнимает за мускулистую шею служанка, сидящая у него на колене. Смешались его и её волосы — он и она нежно целуются. В Торвальде всплывает горячее и стыдное ощущение, что он ненужный третий, как поётся в старой песне.
Служанка соскочила на пол, позволяя губам Трюггви зарываться ей в живот и бёдра. Она сдерживает стоны, но не сдерживает что-то язвительное вездесущий Кнуд. Все смеются, и Трюггви смеётся, не вынимая лица из платья.
Торвальдов глаз плывёт по служанкам. Рыжую он не находит, потому что веки слипаются. Ничего, она будет, раз пообещала.
Дочка Сигрид и Олава идёт к очагу. Со старыми горшками. Зачем?.. А, Сигрид, бывшая Лебединая Шея, кричала на улице про угли. На девочке почему-то лица нет. Гуннхильд глядит в очаг, как зашуганный котёнок...
Тепло от хмельных солнечных ручьёв, речушек и рек всплывает в затылке высоко-высоко, прямо Ясенем-Всех-Миров. Оно превращается в жаркую тучу, с которой по телу льётся другая река, разносящая сон. Торвальд оглох к шумам в зале, покачиваясь под её спасительным потоком.
Он вслушивается в пение побережных сосен, столь похожее на прибой. Ветер, что ли, приносит его?..
Нет. Торвальд так не думает. Это всё же море.
Море от него не ушло. Как и обещало, осталось на всю жизнь.