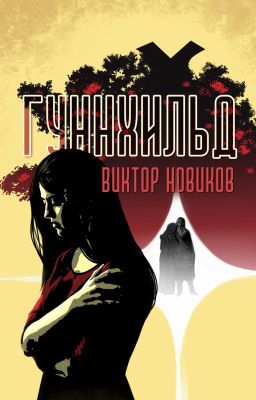Глава II, в которой на пиру собираются и живые, и мёртвые
В церкви рухнули все четыре столба, на которых по обычаям вырезали книжников. Ингвара ударило по шлему и перебило спину; пыль, забившую рот во время крика, вместо слюны стала смачивать кровь. Ему повезло — он оказался под самой верхушкой кучи, в которую сложилась церковь. Когда пали стены, он стоял возле оконного проёма, поэтому смог выползти наружу...
— Вот как думаешь, Кнуд, проклинал ли он себя? — спрашивал Торвальд Провидец, Торвальд Одноглазый. — Себя, распоследнего в мире глупца, и всё ходящее на двух ногах?.. Нет, он смеялся. Он готовил ловушку эйринцам, а попал в неё сам, со своими людьми.
* * *
Рассказ льётся... Сельди плывут по стенным доскам, как живые. Плещутся, переворачиваются, трутся брюшками с икрой о края приколоченных щитов. Икра на самом деле буро-коричневый след кисти между их нижними плавниками. Сквозь другие мазки, белые, синие, чёрные, проглядываются прожилки древесины. Если потереть пальцем, на подушечке останутся чешуйки краски.
Ушам Гуннхильд рассказ напоминает дождь, рассыпающийся по натянутой коровьей коже. На крышах из шкур дождь звучит особенно громко. Слова, как капли, падают часто, быстро, от каждого под ключицу прыгает сердце... Журчание с козырьков обычно заглушает крики из двора, которые не хочется слышать. Прямо как этот рассказ.
Гуннхильд очень любит рассказ, храброго Ингвара в нём и голос рассказывающего. А она его видела? Это он шёл по тропинке с моря, когда Гуннхильд стирала?
Выглядывать не надо... Её увидят. Не надо.
С улицы её в тёмном углу не видно. После наружного солнца там ещё темнее, а выходящих яркий свет заставляет щуриться...
Что это за гром? Небо за дверью синее, на нём ни облачка! Но это не гром, а внезапно раскатившийся хохот.
Когда гремит гром, в одном месте крыши тонко-претонко, как бескрылая оса, гудит расщепленная дранка. Сейчас она тоже гудела.
В грохочущем хохоте глумливо хрипит пьяный голос:
«Сам-то прыгал?»
Гуннхильд узнала старого толстого Кнуда. Подтянула на шею безрукавку из ярочки, которую выхаживала позапрошлой осенью, и на полглаза выглянула из-за углового бруса.
За столами трясутся гости. Смутно знакомые. Громадные, огромные. Их пять или шесть... Смеются, качаясь во все стороны.
Одноглазый тоже улыбается, уголком рта с полосками знаменитого шрама. Его пальцы, как гадюки, покачиваются у подбородка.
«В моих родных местах сети иногда уносит в море, — начинает он в ответ новый рассказ. — Плести и рубить сети — дело священное, поэтому сами они не менее священны, и их берегут... Поэтому за ними приходится нырять. Если сеть достать удаётся, то море милостиво. Если она порвана или запуталась в камнях, море грозит пальцем. Если сети нет, — Пальцы Торвальда расцепились, а ладони разошлись в стороны, — море обиделось на своих детей. Летом ныряют мальчишки, осенью парни. И я пару раз нырял».
Гуннхильд тоже нырнула.
Перед этим сжала губы, чтобы не выпустить ни пузырька воздуха. Надула щёки, закрыла глаза.
Рядом плывёт Торвальд, разводя руками перед лицом. На лице, на шее играет волшебный зеленовато-жёлтый свет, разглаживающий все складки на коже, даже глазной шрам... Однако на самом деле он за столом, а не под водой с Гуннхильд. Лоб его спокоен, губы не подняты к носу, а пальцы стукаются друг о друга вместо того, чтобы постепенно превращаться в плавники.
«Ну? Признавайся, Кнуд, — улыбается Торвальд, — ты же нырял и, похоже, поглубже, чем я, раз спрашиваешь такое?»
Он заглянул под стол и мыском одного сапога стукнул по щиколотке другого.
«Я, пьяный, нырял вот посюда. Гляди. А ты? По колено-то было?»
В ответ на это дранка снова гудит от хохота.
Гуннхильд растянула губы в улыбке и засунула в рот кулак. Так глубоко, что даже выступили слёзы.
Толстый Кнуд любит посомневаться в чужих заслугах. У него же кроме пьяной славы отнимать нечего. Шутил ли он сам, или над ним шутили — всякий раз все смеялись охотно, и Кнуд тоже смеялся. Посмеяться он любил. Щёки его багровели, как вино, которое он нещадно поглощал, покатые плечи и пузыреподобный живот тряслись под рубахой.
«Бух-бух, бух-бух», — бухают поблизости чьи-то шаги.
Кто-то остановился возле угла Гуннхильд. Это Старая Уна.
В её правой руке, коричневой, костлявой, с набухшими венами, ведро с ломтями солёной свинины, новое, деревянное. В левой расплёскивает очистки и ошкурки треснутое старое...
Ведро со свининой ставится на пол. Его тут же уносит подскочившая служанка.
«Что стоишь? Стену подпираешь, — Уна шипит в сторону Гуннхильд и плюётся через сломанный зуб. — Без тебя не упадёт! Я тебе что сказала? Вот хоть мясо помоги таскать! Сейчас хозяйка придёт, а я и так уже за тебя, молодую, бегаю! Пожалела дуру! Давай иди! Делай, что говорят, или уходи! — Уна, сузив губы до ниточек, замахивается свободной рукой на Гуннхильд, как на собаку. — Уходи!»
Напрягшаяся Гуннхильд не шевелится. Она представляет себя одним целым с брусом-подпоркой, к которому жмётся грудью. Она не слушает Уну. Ведь подпорки не имеют ушей. Старуха умолкает, и становится слышно её злое свистящее дыхание.
Уна берёт ведро с очистками в отдохнувшую руку и выходит за порог, оставив, наконец-то, Гуннхильд наедине с сельдями и Ингваром Бойцом.
К счастью Гуннхильд рассказ продолжается, разворачиваясь дальше, подобно мотку восточного шёлка с чудесными цветами и узорами...
На самом верху бруса чернеет точка, которую по кругу обходит красно-жёлтый ободок. Это глаз. Нарисованная сельдь улыбается — край щачла подтягивается к глазу, и он, как живой огонёк, сверху подмигивает Гуннхильд.
«Я видела», — говорит сельдь.
Говорит как Старая Уна, если её станет передразнивать Гуннхильд.
«Плыла под лодкой, под рулём. Под стариком... И видела, как прыгнул Ингвар. Хочешь, расскажу?»
Спросив это со смешком, рыба замолкает. Повесть Торвальда льётся дальше... Пока он рассказывает, Гуннхильд ничего делать не будет.
* * *
Старая Уна вышла на задворки, затянутые крапивой — стоявшей зелёной даже в первые морозы — опрокинула в яму помои из ведра и громко сказала то, что так или иначе думали все:
— Несчастный ребёнок.
При том, что Гуннхильд давно не следовало считать ребёнком.
В часы недовольства на свою жизнь Уна ворчала на всё и вся; но всякий раз вспоминала Гуннхильд, успокаивалась и жила, как живётся, дальше.
Надо бы разогнать бездельников в зале и послушать, что рассказывают... Разбегутся. Из почтения к старости.
Она вздохнула так, как могут вздыхать старухи, и поковыляла к дому. Горма вызовут на двор за мясом, Уна растолкает слуг и встанет на его место слушать Провидца.
* * *
Перед локтем Торвальда лежат глиняная тарелка и оклёпанный серебряной проволокой рог.
От его лица не отрываются почти дюжина глаз, его рассказ ловят почти дюжина ушей. А то и больше, если посчитать всех слуг. Как долго будут смотреть на него, как долго будут слушать — столько же будут пополняться рог и тарелка...
И наконец-то после долгой дороги Торвальд за столом конунга Харальда, без прилепившихся к телу за три дня шапки с плащом. Они висят за его спиной, на стенном крюке вместе с мечом.
По правую руку от Торвальда сидит его приятель Рагнар, справа от Рагнара во главе стола — сам Харальд. За другим столом сидят старинные Харальдовы друзья Свейн и Кнуд. Пришёл ещё Трюггви, сын Харальда, и сел на белый стул по правую руку от конунга.
— Шли белые ночи, — продолжает Торвальд, — в стране Эйре они незаметны, но небо до самого рассвета удивительно светлое. Море днём греется, и за ночь холмы побережья затопляет туман — в котором не видно ничего.
* * *
Ингвар в белой плотной пелене лежал на обломках и смеялся. Рёбра болели нестерпимо, будто в них остывал жидкий свинец.
Одинокий смех, который пугал даже его самого, бился оглушённой летучей мышью среди развалин города, несчастной жертвы Ингварового нападения. Туман поглотил всё — развалины, тлевшие угли, мёртвые тела эйринцев и его людей.
Ингвар подумал, что как жалки, наверное, теперь носовые драконы его подожжённых драккаров. И захохотал громче.
Он умолк, когда по улице разнеслось шарканье. Наплевав на взвившуюся боль в лёгких, повернулся на локтях. Кто-то ещё выжил?.. Он отпихнул ногой доски, придавившие колени, и пополз с кучи.
«Даже кровному врагу не пожелаю ползти по останкам здания, которое строилось на века и рухнуло из-за тебя, — скажет Ингвар однажды своему другу Торвальду. Помолчит и добавит: — Иной раз упрёшься во что-то холодное и увидишь, что это чей-то окровавленный лоб, влажный от тумана. Или рука, которая, как тебе кажется, вот-вот сожмёт твою — отчего ты сразу сделаешь штаны тяжелее. Но этой ночью она окоченела насовсем».
Ингвар поднялся на ноги, вскарабкавшись по врытому в зелёный дёрн каменному кресту. В Эйре их часто помещают напротив входа в церковь. Вскарабкался, надо сказать, с трудом.
Туман рассеивался, шарканье слышалось ближе. Ингвар сунул руку за пазуху, где прятал нож. Эйринцы тоже вполне себе шаркают... Сломанные меч и щит пропали в развалинах, поэтому вся надежда была на ножик. И на шлем, выдержавший удар стен, треснув одной только кожей на боку.
Вдоль церкви к морю ковылял кто-то высокий и крупный. К шарканью прибавлялся шелест — рваным хвостом за идущим по битым кирпичной кладке тянулся плащ. В жилистой руке, тонкой, но с широченным запястьем, блестел посох, похожий больше на копьё.
Человек хромал бодро, переваливаясь с ноги на ногу. Видимо, приноровился с годами к застарелому ранению.
«Эй!» — крикнул Ингвар и, мигом одумавшись, прикрыл рот ладонью.
Но из повернувшегося лохматого капюшона выпала борода. Длинная, белая, лишь ото рта тянулись жёлтые подпалины. Старик соизволил обратить внимание на Ингвара. Хотя явно видел все его шевеления с самого начала.
«Подожди! — крикнул Ингвар. — Эй! — И повторил на наречии Эйре: — Подожди!»
С каждым шагом в ноги и спину Ингвара возвращалась былая крепость, никаких ран не чувствовалось, и он размеренно бежал по кирпичам и взрытой земле. Старик маячил далеко впереди, бубнил что-то неразличимое, махал рукавом в туман и бил камни посохом.
Только у самого моря Ингвар потерял его в проклятой дымке. Лёгкие горели так, что изо рта почти вылетал огонь. Ингвар подумал, что отстал.
Подумать о том, зачем нужно было догонять старика, он не успел. Из тумана выплывала двувёсельная лодка...
Старик умостился на её носу. Плащ цвета сгустившейся тучи разгладился, став частью лодки. Из просторного рукава высунулся палец с птичьим когтем и показал на доску у вёсел.
«Что стоишь? — спросил старик плавным и тягучим говором, каким разговаривали дед Ингвара и его ровесники. — Садись!»
«Кра!» — раздалось над Ингваром, и в клубах тумана мелькнула воронья тень.
Ингвару показалось, что она раздвоилась. И что вторая тень была шире по размаху крыльев.
В воду между ним и лодкой что-то плюхнулось. Чернея кровавым ногтем, на поверхность всплыла содранная с чьего-то пальца кожа. Ингвар хмыкнул — вороньё добралось до еды. Вдобавок, на дальних холмах уже гудели волчьи трели.
Повернув голову, Ингвар крикнул:
«Иду, дед!» — И попрыгал к лодке по камням над водой.
... Лицо старика не различалось даже вблизи. Из провала капюшона высовывался лишь нос, острый, серый, крючковатый. Часть правого крыла отсутствовала, и ноздря, казалось, задиралась вверх, к переносице.
Ингвар примерился к вёслам. Они двигались легко; слушались так, будто в них, как древесные корни, вросли его руки.
«Куда?» — спросил Ингвар у старика.
Тот не ответил... Поэтому пришлось отпустить вёсла. Ингвар проследил за взглядом из чёрной дыры в капюшоне.
Из тумана одна за другой вырастали знакомые шеи носовых драконов. Драккары отнесло от берега, и они дрейфовали, полузатонувшие, накренившиеся. Ингвару было горько видеть на их отборной древесине жирные угольные пятна, на которых ещё плясали язычки пламени. И от которых в сырость тумана примешивался сладковатый смрад.
Ингвар поклялся про себя, что в жизни не приблизится к побережью Эйре.
* * *
— Помнишь, Свейн, когда ходили с Ингваром, сколько раз он отказывался даже поворачивать в сторону Эйре...
— Дай дослушать! — мигом прервал Кнуда Харальд. Тишину он мог наводить быстро. — У тебя в кружке что ли пересохло? Долейте ему, чтоб рот не раскрывал.
— На это я согласен. Наливай, Горм...
Горм, очень худой, невысокий, с коротко подстриженными чёрными волосами и бородой принялся размешивать вино на дне ближайшей к очагу бочки.
Он главный слуга в Волчьем Гнезде. Без него Гнездо вовсе не Гнездо.
— Правильно, Кнуд, — кивнул Торвальд. — Всё правильно ты сказал. И я подмечал избирательность в его приказах.
* * *
Когда Ингвар, призывая в безмолвной клятве богов в свидетели, дошёл до имени Одина-Всеотца, старик расхохотался на весь туман, чуть было не выронив посох в воду.
Как в чём-то неделимом, в его смехе сливались треск высохшего дерева, карканье вороны и волчий лай.
«Зря зарекаешься, — сказал, отсмеявшись, старик. — Сам себе заграждаешь загончик. Здесь ходить. Там не ходить», — И раскаркался снова.
Ингвар удивился. Неужели его мысли прямо на лбу стадом паслись?
«Это не твоё дело, — ответил он. — Если тебе что-то не нравится, я выкину тебя из лодки и вдобавок веслом дам по...»
Старик, прекратив смеяться, хлестнул посохом волну за бортом — а Ингвар, охнув, скорчился. Позвоночник завыл в том самом месте, куда ударил церковный столб. В рёбрах проснулся свинец, и на голову наделся раскалённый глиняный горшок. О сжавшиеся кулаки ударились рукояти вёсел.
«Греби!» — приказал старик и шевельнул длинным костистым пальцем в сторону моря.
Ингвар смотрел в чёрный провал с бешенством, но пыхтел и двигал вёслами. Те скрипели, поторапливая.
Плыли они долго. Но куда? Сколько ещё? Ответы на эти вопросы Ингвар ждал с нетерпением.
На светлеющем небе высыпали звёзды, но в известные созвездия они не складывались. Стоило вглядеться, как в запрокинутую шею натекал приступ боли. Звёзды скрывал туман, который то рассеивался на тончайшие слои, то сгущался дерущимися клоками. Иногда вдали прорывался световой столб, и на глади моря играло солнечное белое золото. Раз или два на волнах недолго плавало снежное крошево. Плыла ли лодка вдоль мелководья или по открытому морю, было непонятно — глубина под днищем не просматривалась.
Ингвар чувствовал усталость ещё на первом гребке, но как человек моря, в море он забыл про неё. Ингвар то проваливался в тяжёлую дрёму, то просыпался, от того что судорожно вздрагивали руки, которые, оказывается, гребли сами по себе...
Наконец, Ингвару надоело. Хорошо, если старик везёт его — его же руками — к богу-великану Эгиру на пир. Но скорее Мировому-Змею в глотку.
Он громыхнул вёслами о борт:
«Куда мы плывём?»
Старик не шевелился.
Неужели от него осталась лишь одни тряпки?.. Но из капюшона высунулся щербатый нос.
«Греби!» — И старик снова опустил в воду посох.
Боль в костях вспыхнула сильнее, но руки прекратили ныть, слившись крепче с рукоятями. С детства не плакавший от обиды Ингвар вытер слёзы о плечо и поглядел злобно на старика.
Подождав, он спросил старика во второй раз:
«Куда мы плывём? — И прорычал: — Я устал».
«Греби», — Старик будто только это слово умел говорить, не корёжа на старый лад...
И Ингвар тут уверился, что везёт Одина. Вроде бы в старике ничего явно не выдавало Первого-Вождя, Прародителя и Первого-Бога, но то был бог Один.
Тот наверняка знал об Ингваровых догадках, хотя Ингвар в мыслях продолжал называть его стариком. С черт лица, прорисовывавшихся в провале капюшона, уходила нечеловеческая переменчивость. На месте мёртвого глаза показалась пустая дырка.
Ингвар спросил в третий раз — уже с близким к смиренному почтению уважением:
«Куда мы плывём?»
Старик положил четыре пальца на его вздувшийся от напряжения кулак, немного подержал, и Ингвар с облегчением отпустил вёсла. После пальцев старика на коже осталось странное сухое тепло.
«В Место-С-Множеством-Имён», — ответил Один.
Длинное слово из праязыка, появившись в голове, рассыпалось на несколько простых и понятных. Ингвар всё же переспросил:
«Куда?»
Старик распрямил просторный рукав, указав за спину Ингвара.
Туман перестраивался в проход с призрачными колоннами и стенами, в конце которых влажной чернотой наливался массив суши — и становились различимы побережные камни, исполинские корневища между ними и лес поверху.
Ингвар вскочил, хрустнув коленями. Он уже не мог не представлять, как ищет пресный родник, ведь слюны во рту даже на плевок не осталось. В скалах наверняка найдутся птичьи яйца, хотя гама гагар или чаек не слышалось — остров восставал в безмолвии. Камни были чистыми, без белых подтёков. Что ж, тогда он поищет грибы с ягодами. Клюкву, бруснику, а если попадётся дикая яблоня или рябина...
«Рябина там есть, — Старик назвал имя, слово на праязыке: — Листья-Золотые-Ягоды-Алые».
Ингвар не отрывал взгляда от ритмично шевелившихся на острове деревьев. Чем дольше он всматривался, тем отчётливее на них рдели скопления пятнышек, похожие на гроздья рябины.
Старик рассмеялся. И то был скорее клёкот хищной птицы, нежели человеческий смех.
Он протянул Ингвару на ладонях две красные грозди. По грозди — из каждого мешковатого рукава.
«Хочешь? — спросил он, продолжая хрипло, с искреннейшей радостью смеяться. — Как раз поспела».
Ингвар выхватил ягоды и запихнул их в рот прежде, чем клешни старика, кривые, испещрённые рубцами, успели вернуться под плащ. Ягоды, восхитительно-кислые, распухшие от сока, давились под его пальцами, проливали сок на губы, и рот уже не был сохнущим от летнего зноя болотом.
Ингвар не заметил, как в длинной седой бороде с рыжими подпалинами зашевелились губы.
«Ешь, ешь, — услышал он, — едой мёртвых в первый раз непросто насытиться».
И Ингвар выплюнул в море всё, что было у него во рту. Перегнувшись через борт, засунул два пальца до самого горла, закашлялся... Зачерпнул воды, принялся полоскать рот.
«Не бойся, — говорил ему в сгорбленную спину Один, — ты великий воин и конунг. Я забираю тебя в чертог Украшенный-Серебром. Ты сядешь там под самые богатые золотые щиты».
Ингвар выцедил изо рта воду, солёно-кислую от рябины и желудочного сока.
«Зачем?» — прохрипел он и съёжился в нервной судороге.
Лохматый капюшон, повернувшись, кивнул на остров, где над лениво расступавшимися прибрежными деревьями сплетались в светозарный узор ягоды, горевшие как угли, и листья цвета солнца. Узор рос вверх — и рябина поднималась над островом.
Вёсла застучали в петлях, а лодка боком по течению понеслась к каменистому берегу.
Ингвар впервые за сегодня смертельно испугался.
«На острове люди находят то, что ищут всю жизнь, — сказал Один. — Правда, когда они получают желаемое, это оказывается равносильно смерти. Им становится незачем жить дальше... И они уходят из мира живых».
Ингвар поднял голову от воды и, вскинув брови, улыбнулся старику:
«Но я не хочу умирать!»
В голосе старика больше не слышались крики посвященных Одину тварей. Вместо них в голове Ингвара мерным колоколом звучали вопросы:
«Разве к этому часу не догорели драконы с носов твоих кораблей? Разве не потонули твои драккары, выплыв в открытое море? Разве не сложил ты из обломков святого дома свой погребальный холм? Разве не умерла твоя душа на восточном побережье Эйре...»
Подскочив, Ингвар схватил старика за грудки. Тот был лёгким, невесомым, будто под его плащом были только кости.
«А разве, — вторя вопросам из своей головы, прошипел Ингвар, — я сам не знаю, что я жив? Жив, слышишь? Могу повторить это прямо в заросли в твоих ушах! Я жив! И собираюсь жить дальше».
Зрячий глаз Одина переливался игривой радугой, как драгоценный камень, и непрошенно лез в душу Ингвара... В Ингваровых руках, державших плащ старика, проснулась премерзкая боль, которая мигом разбежалась от локтей до лопаток.
«От меня не уйдёшь, — Ингвар со всех сторон слышал этот шелестящий шёпот. — Даже если прыгнешь в море. Ты утонешь и войдёшь в залу мёртвых, лишь невежливо припозднившись».
Ингвар разжал трясущиеся кулаки, и старик бесшумно опал на доску.
Вёсла хлопали по волнам, крутились во все стороны, и лодка неслась, качаясь, к острову... Ингвар решился.
Он наступил ногой на уключину и вытянул руки навстречу развёрстой, пенящейся пасти Брата-Смерти. Вода, словно губы, если у змей есть губы — х-хлюп! — сомкнулась за его пятками... Прыгните в море, когда идёт снег, и узнаете, каково бывает, если на вас обрушивается целый мир. Тело, которое перед этим едва-едва царапал ветер, тут же сдавливает жгучая вода, но её давление — сущий пустяк в сравнении с холодом, от которого одежда не спасает, а совсем наоборот; рубаха, штаны, и особенно сапоги превращаются в толстую изморозь и налипают второй кожей. В носоглотке, на языке появляется солёный налёт, кровь в теле тоже становится солонее и... И голова выныривает на поверхность. А бывает, что не выныривает — куда ты плывёшь, ко дну или вверх, иногда понимаешь слишком поздно.
Однако Ингвар умел плавать как никто в мире живых...
Вода с грохотом вытекала из ушей, а холод скапливался неравновесными гирями в сапогах. Сомкнув губы, облупившиеся лохмотьями, Ингвар расталкивал ногами воду и кидал руки вперёд. С лодки казалось, что к острову течение очень сильное, но на самом деле море стояло почти как опавшее тесто. Поэтому отплыл Ингвар далеко и от лодки, и от острова.
Он будто затылком видел — который колола шилом ноющая боль — как остров искрится невозможными цветами, и поверх него на полнеба, как корона из белого золота, светятся ветви. И скорбным колоколом повторяется имя этого древа — слово из праязыка, распадающееся на четыре слова из языка нынешнего:
«Листья-Золотые-Ягоды-Алые».
Имя волшебной рябины, у которой листья золотые, а ягоды всегда алые...
«Тебя ждёт счастье, — помолодевшим голосом старика пело дерево, — то, ради чего вы, смертные, живёте. Тебе больше ничего не надо искать».
Ингвар заговорил вслух, заглушая старика:
«Я честный воин, поэтому всё беру по праву силы. Захочу и сам поверну к острову. Но почему, почему я должен поворачивать?»
«Найди своё счастье, храбрый, что будет длиться вечность...»
«Боюсь? Боюсь, — признался себе Ингвар. — Почему мне страшно? Я трус? Это позор? Но я не хочу... У меня тысяча причин, чтобы жить, и это тысяча моих якорей. Есть те, кто меня ждёт».
Ему и вправду было страшно. Страх дикий, животный, как у целого стада овец, клокотал внутри вонючими пузырями, стекал по лицу с потом и смывался морем. Ингвар, прекрасно себя зная, не потакал страху, а крутил руками быстрее. Он думал, что его спасение кроется в этом, и он был не так уж неправ. Когда рассудок возвратился на место, Ингвар обернулся.
Остров растаял в смутное пятно, прикрытое серо-дымчатой завесой. Глаза перебежали левее, и Ингвар дёрнулся прочь, чуть не утонув под волной. Почти все силы ушли на то, чтобы выплыть из-под неё.
Смаргивая слёзы и морскую воду, Ингвар подумал, что лодка плыла вслед за ним — настолько старик казался огромным. Поначалу, не веря глазам и своему суеверному ужасу, Ингвар решил, что это так причудливо соединились море, туман и туча.
Старик, нищий странник, бог Один, словно бы с сожалением смотрел на Ингвара и мёртвым, и живым глазом. Бородатое лицо то прояснялось, то таяло. Ветхий плащ преобразился: капюшон стал пластинчатым шлемом блестящего сплава — иногда такие шлемы находят в древних холмах — а на накидке у шеи и по плечам засеребрился пышный меховой воротник.
Сухо сверкнул зарницей в чёрной-пречёрной туче наконечник копья-посоха Гунгнира, Бьющего-Без-Промаха, и призрачный Всеотец исчез вслед за вспышкой. Остались безжизненный туман да ветер, воющий, как волки с побережных холмов Эйре.
Какое-то время спустя страх стал бесполезным и глупым... Ингвар покачивался на волнах, раскинув руки крестом и смотря на звёзды. С наступлением утра небо посветлело, но они остались. Силы Ингвара восстанавливались медленно, а ледяная вода успокаивала боль в костях так же верно и безжалостно, как раскалённое железо рану.
Он старался не думать попусту о таких вещах, но утонет он или нет — в душе насчёт этого, как чайка в скале, угнездилось безразличие.
После краткой передышки он поплыл. Иного выхода ему не оставалось. Плавать он умел как никто в мире живых.
* * *
Торвальд подпёр нос сцепленными пальцами. Если он нервничал, эти пальцы было не разорвать.
— Ингвару повезло. Когда он замёрз до окоченения и уже слышал, как на спине трескается ледяная корка, из тумана вышел корабль. Его увидели и выловили. Он сразу спросил об острове, и ему ответили, что поблизости ничего нет. Но не только Ингвар видел остров — были другие очевидцы... Да, Ингвар не утонул. Не успел, как он пошутил.
Туманное море со снегом отступает, вместо него восстаёт свежеструганный тёс стен. Лодка Одина и Ингвара выгибается вширь и распадается на пиршественные столы, за которыми сидят люди. Люди во плоти, а не тающие воспоминания.
Торвальду согревает горло вино, славно льющееся ручьём в пересохший рот... В этот мир он по-настоящему вернётся, только утолив жажду. И пока он пьёт, ни с кем не хочет встречаться взглядом.
Служанки в тишине помешивают варево в огромном железном котле. Или переставляют на можжевеловые подставки горшки из очага. За очагом стоят открытые винные бочки, за ними рядочками уложены закрытые. Дальше только спальный угол хозяев в глубине дома.
Соседи Торвальда по столу забыли про выпивку и еду, стывшую на серебряных и деревянных тарелках.
Кто-то выглядывал из-за столба перед порогом, но Торвальду было не до переглядок в ответ. К тому же через дверь муравьями сновали слуги — наверное, кто-нибудь из них.
Харальд отхлебнул вина из своей золотой чаши и по праву хозяина сказал первым:
— Я слышал это. После его смерти болтали всякое, и думается мне, много врали. Ведь всегда врут про таких людей после их смерти?
— Врали много, — кивнул Торвальд. — Но я не единственный, кому Ингвар всё рассказал... Говорю на случай, если кто-то из вас услышит это снова, но не от меня. Знала жена — куда без неё? — и ещё двое-трое. Не один же я таскался с ним по местам, куда нас не приглашали, — И все, хорошо знавшие Ингвара, расхохотались.
Громче всех гудел Рагнар, поскольку сидел рядом с Торвальдом. Харальд тихо скалил зубы под рыжеватыми усами.
Ингвар звал исследовать белые пятна на картах всех-всех, даже самых случайных знакомых. И все с радостью шли в эти походы, ведь под началом такого конунга легко на следующий день очутиться в песне.
Торвальд хмыкнул. Забывшись, поднёс пальцы к шраму на глазу. Отдёрнул их и продолжил:
— Мне он рассказал, когда мы пересекали горные ледники Грёнланда. Вот я смотрю на очаг и вижу не вас, красавиц, — На это служанки всполошились, но громко засмеялись, — а наш костёр в одной из тамошних пещер. И худое лицо Ингвара над ним. Наверное, ему было трудно держать в себе пережитое.
— Да, — покивал Харальд. — А после следующего плавания Гудрун стала вдовой.
Все сегодняшние гости ходили в тот поход, все плыли на сером драккаре Ингвара, гребли там в двух сменах. Все они рубили снасти по Ингварову крику, сражались в разгоревшейся стычке. Всё к ним оттуда вернулось...
Опять на носу драккара стоит Ингвар. Он хмур — будто впереди не исхоженный путь в Альдейгью, а странная, неизвестная дорога. И поэтому Ингвар подумывает развернуть серый драккар обратно домой.
Из-за другого стола на Торвальда моргают бело-голубые, как пузыри, глаза Свейна. Старый, незлой Свейн, над которым приятно посмеяться. Он грохает кружкой о столешницу и пресмешно вздрагивает от неожиданного звука.
— Ты говоришь об Ингваре прямо таком, каким он был, — говорит Свейн.
— Потому что это он рассказывает, а не я, — пошутил Торвальд, — от меня лишь язык требуется. Да, таким он был, Свейн. Это правда.
Свейн, посопев, хотел добавить пару слов, но захлопнул рот. Потому что заговорил хозяин Харальд, тихо и задумчиво:
— Он нас всех тогда созвал... И сейчас мы на пире в его память. И после смерти он нас собирает.
Харальд обращался словно к кому-то невидимому перед собой.
— Я пришёл к нему на корабль без усов на лице, без клочка земли, без серебра в кошеле. И даже без самого кошеля. Молчу уж про собственный меч...
— А он выкинул тебя в море! — Кнуд аж взвизгнул.
— Ты выкинул, — сощурил глаза Харальд. — Мы с тобой и Свейном, как мне порой кажется, знаем Ингвара чуть ли не с рождения мира. Да, давно было... А Рагнар пришёл со мной или после?
— После, — отозвался Рагнар, жевавший ягнятину, — я плыл с вами по Рину.
— Так-так, — поддакнул Кнуд.
Влез он, как всегда, поддержания беседы ради, однако она замерла подобно воде ручья в мороз.
Служанки хихикали и шуршали, как полёвки, под щёлканье угольков из очага, пока гости молча ели. Правда, затихли, когда подал голос их возлюбленный Трюггви:
— Я в Альдейгью тоже тогда плавал с вами, — Трюггви сверкнул ясными серыми глазами. — Боги подарили мне такую удачу.
Он был за столом самым младшим, но к нему прислушивались охотно, в отличие от уже надоевшего за вечер Кнуда. Харальд даже перестал дышать — как гордый отец, который любит Трюггви больше, чем все служанки вместе взятые...
— У вас на Сером всякое случалось. Были приключения и похлеще. Я в долгом походе оказался впервые, и может, поэтому замечал, каким угрюмым день ото дня становился Ингвар. Для вас он, по-моему, был обычным. Ингвар как Ингвар — гребёт по соседству, стоит на носу, как стоял тысячу раз прежде... А радостный мальчик, который ловит каждый ваш чих, его совсем не знает. И видит сумрачного человека, который много думает и медлит на наипростейших шагах, — Здесь Трюггви запнулся. — И вы с ним болтаете, как ни в чём не бывало... Я тоже много думал после его гибели. Может, тот потрясённый мальчик чутка навоображал, но он решил, что навсегда запомнит, каким бывает человек, одна нога которого в мире мёртвых. Наверное... Ингвар всё знал?
Харальд смотрел на сына, не мигая, с нарастающим удивлением.
— Этого он тебе не скажет. Не сказал живой, не скажет и умерший — в случае если получишь, как Один или наш Торвальд, мёртвый глаз и встретишь его. Дед говорил, люди узнают всё о смерти, только когда сами становятся мёртвыми.
— Но если он знал, — вскинул Трюггви белые брови, — то мог попросить тебя подменить его в походе.
— Он много чего мог сделать. Правда, загодя всего не угадаешь. Может, потом поймёшь, сложив случайные знаки. И то, если повезёт их поймать... А забыть проклятое знание нельзя. Ты будешь как слепой в ущелье, который идёт на хлопки вдали. В ущелье много тропинок, но как бы ты ни перескакивал между ними, всё равно дойдёшь до хлопающего.
— Почему он тогда сбежал от старика?
Харальд мельком взглянул на Торвальда, не отрывавшего пальцев от подбородка.
— Таков был его выбор, — Харальд взял травинку с мясного блюда и принялся жевать, отчего под рыжей щетиной заходили желваки. — Решил бежать. По причинам, которые знал только он. И как конунг он умел принимать верные и окончательные решения.
— Разворачиваться против чешуи Мирового-Змея, даже если на другом конце тебя тоже ждут зубы и смерть, — проговорил задумавшийся Торвальд.
— Пусть так. Может, он иногда и жалел... Как это бывает постоянно. Жил как живётся, с нами и с Гудрун. И уговаривал себя, что ни о чём не жалеет.
Торвальд вскинул голову, расцепив пальцы:
— Вы поехали бы с Одином на остров?
— Нет, — сказал Трюггви без зряшных, видимо, раздумий.
Свейн смущённо помотал белобрысыми лохмами — как всегда, робел лишний раз открыть рот. Рагнар разглядывал потолок, попивая пиво, а Кнуд хлопнул по столу пухлой ладонью:
— Я бы поехал!
Харальд раздражённо зыркнул на него, поскольку собирался что-то сказать.
— В каком из миров исполняют мои желания, мне без разницы! Крыша, очаг, еда и даже такое плохое вино, как твоё, Харальд — всё! Всё, мне достаточно! И... Думаете, я стар сражаться чем-то другим кроме топора или весла? Ошибаетесь!
— И скольких ты сегодня победишь этим чем-то другим? — съязвил Харальд и, хотя у Кнуда ответы не задерживались, успел добавить: — Вот одну хотя бы, вдруг кто из моих побегушек принюхается, привыкнет к твоей вони и ляжет спать с тобою?
— Харальд, да отстань ты от дурака, — заткнул Кнуда и Рагнар, тут же продолживший задумчиво: — А не думаете, что Ингвар просто встретил сумасшедшего? Старика, который сошёл с ума задолго до боя или сразу после... Ну а Ингвара, как Торвальд сказал, приложило по затылку, и всё ему привиделось?
— Ага, — Харальд, вставая, качнул тяжёлой головой. — Слышишь, Торвальд? Надо тебе упомянуть про затылок. Или по чему его там могло ударить...
— Где упомянуть? — не сообразил посмеивающийся Торвальд. Он пока что был весел после шутки над бедным Кнудом.
— В песне. В одном из её концов, вернее. Ты, может, и без меня, бездаря, знаешь, что сколько у песни концов, столько дорог в ней для сердца слушателя. Каждый выбирает понравившуюся и уносит по ней из песни нужное себе. Сегодня по одной дороге, завтра или через год потянет по другим. Я люблю песни с множеством концов. А никто лучше тебя не сложит песни в добрую память нашего Ингвара.
Торвальд, снова переплетя у рта пальцы, проронил:
— Да.
— Ты брат мне и этим шельмецам... Брат! — Харальд говорил, смотря только на Торвальда. — Пусть твоя песня ещё не родилась из мёда Одина, мы знаем, что она будет хорошей. А хорошим певцам следует подносить самое хорошее вино... Но ты и так можешь пить его, сколько захочешь! — рассмеялся, покраснев, Харальд.
Харальд сильно осип за последние годы, но этот неявный его приказ прозвучал так, как полагается для того, чтобы слуги со всех ног бросились к винным бочкам. А Кнуд, хотя видел Горма с кувшинами — весь вечер не отрывал глаз от бочек! — вытянул, как насторожившийся гусь, шею и проорал:
— Вина Торвальду!
Никто не обернулся, поэтому он добавил, противно растягивая:
— А мне пи-и-иво!..
Торвальда коснулся приятно-упругий, приятно-тонкий бок. Рыжая служанка наливала в его рог вино из кувшина... Красивая. Удивительно белокожая, без веснушек. Быстроглазая, и глаза как чёрные бусины, отчего она похожа на воробышка — ещё и из-за острого носика. Волосы убраны в три пучка, мягкие, блестящие, с медно-красным отливом. Возле очага она пересмеивалась со старухой, и между её верхними зубками виднелась щербинка. Поскольку сейчас на щербинку смотрит Торвальд, чёрные бусины блестят ярче. Она с чего вызвалась разливать вино? Дождалась повода подойти к Торвальду?..
Красные пальцы Харальда вознесли золотую чашу к потолку:
— Ингвару от нас!
— Ингвару! — вскинул рог Рагнар.
За ним вскинули остальные.
— Ингвару-у! — прогудел Кнуд...
После новых глотков кислый привкус во рту Торвальда поселился, казалось, навечно.
Харальд стоял хмельной, напряжённый, упираясь о стол ладонью.
— Великие вожди из песен... Великие вожди! — Он поднял подрагивающий палец, — такие, как наш Ингвар, бывало, получали предсказания о смерти... Несмотря на всё то, что мне говорил дед, а я, сын, говорю тебе. Везде есть исключения. Но не всем так везёт. Бешеному вот могли предсказать, что он умрёт, пав рожей в ручей. Наш Торвальд тоже однажды оправдает своё прозвище, когда предскажет и мне смерть... Не подведёшь ведь?
— Не подведу, — ответил Торвальд.
И откусил белое мясо с птичьего бёдрышка. Только-только рыжая с подружками заново заставили столы птицей, ягнятиной, телятиной и свининой с травами, варенной в горшочках или прожаренной.
— А предсказывал уже кому-нибудь?
— Да.
— Ну... Следующим буду, — Харальд рассмеялся и повысил голос в сторону остальных гостей. — А вы скажите, хуже ли наш Ингвар других конунгов, которые всего лишь рано получили плохую весть?
Харальд развёл руками, покосившись на хлопнувшую дверь — поглядел на неё немного, будто ожидал кого-то — и ответил себе:
— Нет!
— Нет! — прибавил запоздало Кнуд. Надо же ему быть постоянно последним.
— Так что, Торвальд... Ингвар заслуживает хорошей песни. Наисветлейшей из светлых. Чтобы от неё в сердце восходило солнце. Прав Свейн — а он слишком глуп, чтобы лукавствовать, да, Свейн? В тебе Ингвар говорит громче, чем в любом из нас.
Харальд опёрся на загривок Рагнара — едва-едва не завалившись — и хлопнул Торвальда по плечу.
— Сложи песню... А то не буду считать тебя братом.
— Сложу, Харальд.
* * *
Насчёт песни Торвальд подумает. Очень хорошо подумает.
Трудно заступать на подъём к вершине, где бьёт источник мёда Одина, с грузом воспоминаний и не утихшей боли. Собьёшься, размотаешь в песне не ту ниточку — и слушатели получат превратное представление об Ингваре. А Ингвар тоже жил в нашем мире, страдал, чувствовал, и таким вот его следует сохранить... Отложи песню, Торвальд, ближе к старости. В старости суетные осадки улягутся на дно, успокоившись и окаменев. Главное, доживи и не забудь важное.
«Постарайся, Торвальд, ведь ты пообещал, — велит Торвальду воображаемый Харальд. — Главное, ты лгать не будешь. Пока что радуйся настоящему, а настоящее у тебя — это мой пир. И два переругивающихся соседа».
Это правда. Справа гудит, как из большой бочки, Рагнар, напротив скрипит Кнуд — будто колесо телеги, которая везёт бочку. Они спорят, какая из звёзд в осеннее равноденствие самая западная. И что по осенним звёздам показывали карты Ингвара, как опять же мёд Одина, волшебные и бездонные по запасу знаний... Судя по всему, говорят об одной и той же звезде. Они знают это и без Торвальда, но каждый в пьяном упрямстве гнёт своё. Торвальд пусть спокойно ест, его участие им не требуется.
Свейн хочет о чём-то его спросить. Моргает и собирает мысли, рассыпающиеся у Свейна даже без выпивки. После каждой кружки Свейновы глаза всё больше превращаются в пузыри — единственное воздействие на него Харальдовых бочонков. Свейн ровесник Кнуда, но его волосы по-детски густы и белобрысы. Была ли в них седина, или Свейн с лёгкостью проходил через невзгоды — Торвальд о жизни с ним не беседовал и по-настоящему не знал.
— А ты видел Одина? — спрашивает наконец-то желаемое Свейн.
Спрашивает тихо, чтоб слышал только Торвальд, и изо рта его выплывает облако пивного запаха. На такое умилительное, достойное ребёнка простодушие невозможно не улыбнуться. Но всё всегда сводится к одному из его прозвищ. Малость оскорбительному и обидному... Меченный-Одином. А он не скот, чтобы его метили.
Однако вопрос Свейна влетает в одно ухо и вылетает из другого, перепалка Рагнара и Кнуда становится далёким гулом Ясеня-Всех-Миров. Колени разгибались, поднимая Торвальда с лавки, и взгляд его ни за какие блага бы не оторвался от на миг померкшего дверного проёма.
С улицы на пир входила Сигрид.
* * *
Гуннхильд услышала шаги, от которых с поясницы до затылка похолодела. Шаги в полной тишине — слуги на улице умолкли, ибо при хозяйке лучше не болтать. Она отпрыгнула в угол, на старые треснувшие вёдра, из которых заливали пол при уборке.
Да, к дому шла Сигрид Лебединая Шея. Её мать... Как Гуннхильд ощутила её присутствие? Как обычно. У неё всегда так было.
Это как лежать лицом вниз на дне лесной речки. Лёгкие, полные воздуха, стремятся оттолкнуть грудь от ила и камешков.
А над тобой плывёт лосось длиною с половину твоего тела. Следует вверх в горы, на нерест. Сначала он касается двумя плавниками твоих лопаток, потом на крестце возникает третий. Всё мимолётно, поскольку непривычно-скользкий лосось через миг уплывёт. Но твои чувства во время безмятежного лежания под водой натянулись сильнее тетивы лука, и ты судорожно вскакиваешь. Забирая ртом воздух, смаргивая струйки, льющиеся с бровей, с волос... Рядом во вспененной воде мечется гнущаяся блестящая хребтина — перепуганный больше твоего лосось.
Сигрид всегда появлялась, как этот лосось. И при появлении вела себя так же — кричала на слуг и на неё, Гуннхильд. Каждый из них мечтал убежать прочь от Сигрид, но стоял вросший в землю, пока на голову нёсся крик.
Сегодня Сигрид суровей обычного. Молча проплывает мимо всего, будто вырезанная в льдине; её красивое лицо надменно, веки полузакрыты, губы её ровные и узкие.
Ровный рот, ровная спина, ровные плечи — мама всегда ровная с гостями мужа.
В самую капельку доброго настроения она говорила, что он разбойник, бесчестный убийца и недостойный сын древнего рода. Рода, в который она перешла из куда более славного. То, что она ведёт себя не как радушная гостеприимная хозяйка — уже не портит ни-че-го.
За Сигрид семенит Старая Уна. Старухины узловатые руки оттянуты вёдрами с новой снедью.
В отличие от Сигрид, чей белоснежный платок даже не шелохнулся, Уна поворачивает злое лицо в угол и цыкает на поникшую Гуннхильд. Гуннхильд, увидев паутину на юбке, испуганно отряхивается и бросается догонять Уну.
Старая Уна осталась перед столами возиться с вёдрами, и за Сигрид теперь шла только...
* * *
... Та девушка с ручья.
В том же шерстяном застиранном платье, в той же безрукавке, когда-то белой, теперь рыжеватой. Хотя служанки бегали во всём новом и праздничном. Даже старуха с вёдрами рдела алыми рукавами.
Странная какая-то. Её зовут Гуннхильд, как шепнул ему Рагнар.
Торвальд опустился на лавку, поправляя рубаху. Ещё не поздно сделать вид, что именно за этим он с таким трепетом порывался встать.
Никто, кроме него, не встал, и поэтому Торвальд передумал.
Далеко не так, как Сигрид, приветствовали час назад опоздавшего Трюггви. От криков в его честь из стен сыпалась и разлеталась по залу тёплым сухим запахом залежалая пыль. Служанки же, смущённо пересмеиваясь, забыли про кипевшие в очаге горшочки, за что получили от Старой Уны...
Сигрид, можно сказать, не приветили. Хотя и не отнеслись как к пустому месту — по крайней мере, эта девушка с ручья.
Сигрид была, во-первых, достойнейшей древней крови, тёкшей в жилах очень и очень многих — само по себе повод к уважению. Во-вторых, она хозяйка в славном семействе, жена обоих сыновей Бешеного, наводившего когда-то ужас на побережье. В-третьих, она по-прежнему прекрасна.
Хотя далеко не прежней была её красота. Когда-то певцы пели о том, как морочили конунгов её голубые глаза, как опьяняли рассудок гордые губы цвета дикой розы и серебряно-золотые косы до земли. После череды суровых зим золото выцвело, а губы утратили сочность, сжавшись от слов и дел, которыми Сигрид удерживала ключи хозяйки.
Одежда её не из Великого-Города Миклагарда — наряды и покрывала оттуда, привезённые её первым мужем Олавом, она давно не носит. Сегодняшнее платье, впрочем, тоже дорогое, цены достойной платью жены конунга.
* * *
Конунг невесёлый и молчаливый. Он и трезвый весёлостью не отличается, но ведь сегодня пируют его друзья. Те, с кем он постоянно делит морское копьё, как поют певцы. Мог бы их получше уважить, не сидеть переевшим клюквы.
В разговоры он почти не встревает, на слуг и служанок смотрит исподлобья, словно не одобряя разведённой суеты. Коситься на дверь перестал — та, кого он ждал, приехала из посёлка.
Пока она, посылая ему хмурые взгляды, проходила через залу, он отвёл глаза на слуг, открывавших бочку с пивом. Которое Сигрид не выносила.
— Горм, — крикнул Харальд, — пива!
И присевший ненадолго Горм бросился к бочке.
— Тебе пинка надо, чтобы шевелился?
Хотя Горм бегал как пёс, едва раздавался любой его сип.
Харальд осип ещё по молодости. Виной тому стали не возлияния, как у Кнуда, а бури, камнепады, битвы людей, льдов и моря — всё, что конунг должен перекрикивать ради спасения своих людей. Поэтому Харальд роняет слова тускло и неокрашенно.
Днём, обнимаясь с Харальдом у порога, Торвальд говорил ему, как тот изменился с их последней встречи. В песнях поётся, что каждая зима и каждый поход ставят на воина свой знак. Под слоями из них непросто было разглядеть прошлого Харальда — волосы его, по-прежнему огненные, расчёсаны, двумя косами спускаются вдоль впалых щёк к бороде. Борода и усы уже не буйно-рыжие, а золотистые; Харальд их стрижёт по образцу южных кингов...
Он сидит за пиршественным столом, дышит трудно и с полуоткрытым ртом. Лицо блестит, но чаши он не отставляет. Как поётся в песнях — поднимает полную, опускает пустую.
* * *
Торвальд видит, что Трюггви отодвигает тарелку и рог.
Рыжая с подружкой на освобождённое место быстро ставят чашу и дымящееся варёное мясо. Успеть, пока хозяйка обходит стол.
Над Свейном продолжали издеваться. Рагнар с размахом стукнул по столешнице:
— Хёгни по скоплениям туч различал вихри и сразу — сразу! — определял, куда отходить! А ты принимаешь решение, только когда тебе его в уши орут!
Тоже, что ли, посомневаться в способностях Свейна? Попререкаться с охочим до споров Кнудом? Повеселиться, отвлечься от неприятных мыслей и наблюдений, пока пьётся пиво...
Харальд вон думает — какой дальше пир, какое тут веселье по соседству с хмурой совой Сигрид?
С приходом Сигрид веселье утихло, как тихнут угли, если закрыть в печи воздуховод заслонкой. Утихло ненадолго, потому что Кнуд буркнул под нос:
— Что, хозяйка, не подадут больше на стол гусочек с гусачками?
И Кнуд, хрипя, засмеялся.
Злая была шутка. Недоброжелатели за глаза звали Сигрид Гусыней. Уже не Лебедью... Напыщенная глупая птица из хлева вместо прекрасного белого призрака на водной глади.
«Хоть так... А то только я, служанки и Трюггви», — подумал Торвальд, прикусив сложенный палец.
Смех, крики, разговоры вернулись в привычное бурное русло, но Торвальд к ним не присоединился. Украдкой из-за Рагнарова плеча следил, как девушка в шерстяном платье и с лохматой косой задвигает старый резной трон между стулом Харальда и белым стулом Трюггви. Трон до этого стоял у дальней стены чем-то вроде неприкосновенного памятника. На него-то и села Сигрид. Её бесстрастное лицо из-за близости Харальда скривилось.
Девушка в шерстяном платье расправляла складки на расшитой юбке Сигрид. Откинула накидку с плеча хозяйки и после её дёрганного кивка отошла.
За ней последовал взглядом Харальд.
— Эй! Ты! — вдруг раскатился его сиплый крик. — Дожарят там твоего быка или как?
Девушка в шерстяном платье даже не вздрогнула от неожиданного окрика — в отличие от всех остальных.
«Молодец, — похвалил мысленно Торвальд, — и бровью не повела».
В доме веснушки на её носу и щеках проступали слабо, не как у ручья, но вихры вокруг головы светились в свете огня так же.
Помолчав, девушка в шерстяном платье стала отвечать:
— С утра ветер идёт...
Голос её был глухим, почти как у Рагнара. Слова, казалось, рождает не рот, а желудок, и губы шевелятся сами по себе. Слуги у стены — и алчный до смешного Кнуд тоже — начали тихо хихикать от его звучания.
Но девушка их словно не слышала. И продолжала... Она говорила бы, даже если бы Харальд метнул чан с кипящей водой ей в голову.
— Дрова отсырели, ничего не жарится. Решили разводить новый костёр. К ночи всё внесут.
Харальд злобно побуравил её глазами, после чего указал на дверь большим пальцем.
— В кого она такая нерасторопная? — спросил он, полуповернувшись в сторону жены. — А, Сигрид? Ладно, выросла плохой хозяйкой, так вон она у тебя какая милая и красивая. Прямо великанша... Не завидую её будущему мужу. Если кто-то, конечно, в жёны зазовёт.
«Она сейчас отодвинет тарелку и уйдёт».
Но хозяйка осталась сидеть на резном стуле неподвижно — Торвальд постоянно ошибался насчёт поступков благородных женщин.
Сигрид лишь выцедила с холодной, леденящей гордостью:
— Лучше обвиняй не её в нерасторопности, а своих боровов в распущенности. Скольким ты её уже предложил в утешение, если более красивые-покладистые с ними нипочём не лягут?
Смех Кнуда, Свейна, Рагнара, Харальда, поначалу едва сдерживаемый, превратился в хохот. Который перекрыл даже скулёж собак, дравшихся за дверью из-за объедков. Трюггви прикрыл рот ладонью. Засмеялись в открытую и слуги. Не особо нагло, но чтобы при случае оказаться у Харальда в одобрении. Сигрид в его присутствии не боялись.
— Какой бы она ни была, это дочь твоего брата, а я её мать, — не повышая голос, но с ненавистью проговорила Сигрид. — Ты понимаешь, как это оскорбляет меня, твою жену?
А Харальд не слушал. Смеялся, держа у рта чашу с пивом и поглаживая усы.
— Если б это было правдой, она бы не возражала! — кричал из-за своего стола Кнуд, уже розовый, как яблоко. — Сама бы себя на сеновал за косу потащила!.. Или, может, ей с такой рожей, как и тебе, особо выбирать дозволятся?
Харальд поднял чашу в сторону Кнуда, мол, оценил шутку. Сам смеялся уже меньше.
* * *
Если бы Сигрид могла наслать бурю на усадьбу, метнуть в Кнуда молнию, чтобы запечь эти слова ему в глотку, и сбросить с туч его тушу в самое сердце шторма... Она бы всё сделала, не моргнув глазом.
Но Кнуд, как ни в чём не бывало, мирно трясся на своём необъятном седалище.
Даже в глаза под вспухшими веками, под бровями-щёточками, ему угрожающе не заглянешь. Остаётся только досиживать вечер и следить, чтобы зубы не скрипели слишком громко.
* * *
Сигрид повернула прекрасное лицо к Харальду — видимо, справившись с собой:
— Выросли весенние телята, — заявила она громко и отчётливо, чтобы слушали все. — У них мясо мягче, из шкур тебе и твоим воинам нашили бы сапоги. Почему ты приказал забить того, с рыжим пятном? Ты знал, что Гуннхильд в нём души не чаяла. Не стыдно славному конунгу издеваться над...
Сигрид подыскала слово, чтобы разом и обозначить дочь, и уязвить Харальда:
— ...Девчонкой? Хочешь помимо прочего и в бычьем навозе замараться?
Харальд же допивал пиво из золотой чаши. Не покраснел, хотя у него, как у всех рыжеволосых, эта особенность имелась.
Он на кромке между трясиной позора и берегом достойного ответа. Потому что не так уж несправедлив был упрёк. Зачем он привязался к убогой?.. И Харальд не был бы Харальдом, если бы не знал, как зайти по той кромке повыше.
— Бык был дурной. Постоянно косился-кидался на меня, — тоже громко и отчётливо обратился он к жене. — Твоя дочь наверняка науськивала его. Мелкая месть от, как ты говоришь, девчонки. Что мелкая девчонка может ещё сделать.
Харальд встал, на сей раз без позорного шатания. Вытянул чашу и сказал:
— Да... Жалко, что только этот бык нам, братья, сегодня подан на ужин. Но есть ещё бычки и телята у Харальда! Наделают они себе смену и тоже пойдут вам на ужин! Их шкурами я обтяну вам новые щиты! А со щитами, скажу я вам, зимою пойдёте в новые походы!
— Хаа-ральд! — грохнул кулаком о стол Рагнар.
В ответ тарелка Торвальда крякнула, прыгнув на край стола.
— Почему моё вино пока в бочках, а не в ваших желудках? — пуча глаза, сипло орал Харальд. — Вам говорю: сколько сегодня выпьете, столько отсыплю вам задатка, когда откроется море! Говорю я, Харальд!.. Харальд! Волк!
— Волк! Волк! Волк!
Как клич перед самым кровавым и беспощадным боем, полетело из глоток гостей прозвище Харальда.
— Вуу-ууу! — даже взвыл подобающе Кнуд.
Вместе за всеми кричал и Торвальд. Стуча кулаками по столу — тоже вместе за всеми.
— Волк-Волк-Волк! Волк-Волк-Волк!..
Служанки смеялись. Уворачиваясь от локтей, кулаков, от тарелок, летевших на пол, они пополняли чаши и рога. Сладкие запахи девушек и вина перебивали вездесущий чад очага...
Рыжая снова вертелась неподалёку. Разговаривала с подружкой и смеялась.
Милая улыбка показывала Торвальду, какие ровные и красивые у неё зубы, а ещё — какими очаровательными бывают ямочки на щёках. Бровки то и дело взлетали к прядке на лбу. Их обладательнице это лишь добавляло лукавого очарования.
* * *
Харальд рухнул на скрипнувший стул, с огненно-красным лицом и раскрытым ртом. Тяжело дыша, он смотрел на жену.
Сигрид, понимая, что он смотрит, уставилась на вареную телятину у себя в тарелке. Кончено, длинноязыкая жена посрамлена.
А муж-победитель опять поднялся, пошатываясь:
— Сам быка проверю!
На середине пути к быку в его объятиях оказался Горм. Харальд растрогался, вспомнив, что тот пользовался доверием и у Олава. Вспоминал брата долго, слёзно.
Сигрид не заметила, как поселившиеся у белого стула служанки отошли к очагу:
— Всё, идите, — звучно целовал одну из них Трюггви. — Вас старуха зовёт.
* * *
«Сдерживайся. Будь достойной...»
Резную каёмку своего сиденья она сначала размеренно гладила, а потом изо всех сил впилась ногтями в бедную древесину. Сдерживаться? Она держится. Стул вот-вот взлетит и унесёт её из зала с этими...
Её пальцы покрыла широкая мужская ладонь. С правой стороны... Покрыла, как туча покрывает залитое солнцем поле.
В ладони было прекрасно всё. От тёмного загара, синеватых шрамов, выпуклых сосудов — до вытянутой формы самой кисти и яростного серебряного блеска браслета пониже запястья. Серебро сверкает и на кольцах-перстнях, отчего кожа кажется чёрной и походит на свежевспаханный участок поля с реденько светлеющими волосками-соломинками. Пальцы длинные и тонкие, а мозоли на них крупные, страшные, жёсткие.
Большой палец, красоту которого не портил даже безобразно вырванный ноготь, с нестерпимой нежностью гладил её бело-красные костяшки.
— Если бы я мог... Обещаю, весной!.. Весной же, говорю! — Горм получает громкий и преувеличенно-увесистый хлопок по плечу. — Чего не радуешься? Слышишь? Будешь свободным по весне!..
Это пьяная рыжая свинья орала и икала недалеко. Но в голову Сигрид прилетали лишь разрозненные отрывки бурливших разговоров. Об их связи следовало тщательно подумать. Хозяйка должна знать все течения в Гнезде. Пугало то, что... То, что думать трезво, ясно, думать как обычно она не может. Не хочет.
Лёд на её правой щеке согревается под терпеливыми лучами двух серых солнц, наипрекраснейших для любой женщины. Вот-вот он растает, капля за каплей. Позорными слезами — настырные серые солнца добьются своего.
Она никогда в них не посмотрит. Она никогда не считала нужным своему достоинству делать это.
А по телу нёсся пробуждающий забытые чувства ветерок. Нёсся, несмотря на все преграды, возводимые разумом Сигрид на его пути.
— Кто обещал? Я? Летом? Хах-ха!..
Сигрид выдернула ладонь. Скривившись, будто держала её в навозной жиже.
Ладонь за жалкий миг превратилась в раскалённую. Поправив накидку, Сигрид упрятала руку в ткань, как под защиту. Правда, помнить жар крепкого молодого мужчины она так будет дольше.
Ноздри Сигрид, едва-едва дрожавшие, пока её пальцы лежали под ладонью Трюггви, втянули воздух рывком. А затем она и не дышала вовсе.
Тепло Трюггви ушло, и к Сигрид вернулась долгожданная способность думать. Серые глаза изгнаны из памяти с окончательной победой.
Сигрид понимает, что это последний вечер, когда она сидит по правую руку мужа. В следующий раз она скажется больной и не придёт. Либо Харальд сам посадит ближе к себе молодого Трюггви.
* * *
Куда как ласковее к Трюггви служанки, порхающие бабочками у очага!..
С потолочной балки к огню спускается цепь, на которую повешен — и требует неотлучного внимания — старый родовой котёл. К его бокам в кучки углей ставятся горшки, которые после достаются то ухватами, то обмотанными ветошью руками.
Котёл чернеет, греется. Вокруг него мельтешат зелёные и красные пятна платьев, мелькает коричневая кожа Гормовой куртки. От котла пахнет морковью, распаренным пшеном, травами, а из некоторых горшочков пряностями.
К сероглазому из весенних песен, как бы ни желалось трепещущим душам, девушкам подходить некогда. Трепещущая душа, конечно, дело важное, но Старая Уна будет ругаться... Все они надели самые красивые наряды, только бы он замечал их и ловил за руки! Хотя сегодняшняя работа погрязнее обычной. Но жалеть платья некогда, пир в разгаре.