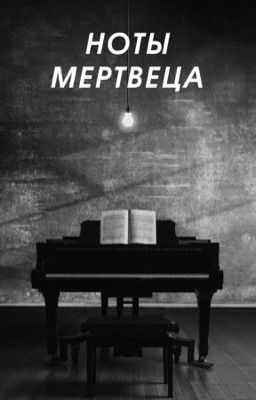Утро, которое не спешило начинаться
Я проснулась от звука скрипки. Это было не раздражающе, нет. Это было... красиво. Слишком красиво, чтобы быть допустимым в шесть сорок утра.
Кто-то наигрывал «Реквием по мечте», и я знала, кто.
Жасмин.
Соседка, огонь в теле человека, репетировала прямо в пижаме — кружевной, золотисто-розовой, как из фильма про светскую вечеринку. Светлые локоны — в беспорядке, но идеально в стиле «я не старалась». Она всегда казалась мне героиней романа: дерзкой, блистательной и почти неприлично умной.
— Опять ты, — простонала я, натягивая подушку на уши.
— Творю! — отозвалась она с весёлым хрипотцой. — Вдохновение с утра — благословение богов.
Смех Анны — мягкий, как перышко на щеке — разлился по комнате.
— А ещё это называется издевательством над сонными пианистками. Кир, вставай. У нас сегодня завтрак с Романом.
Анна сидела у зеркала. Волосы — цвета пламени, кожа — фарфоровая, глаза — изумруды, как будто вырезанные под свет театральных софитов. Даже утром она выглядела как сцена. Анна никогда не говорила много. Но даже молчание в её исполнении звучало как ария. В голосе — мёд и стекло, в походке — тишина, в глазах — лес, куда никто не входил без разрешения.
Иногда я ловила себя на мысли, что рядом с ними становлюсь тусклой.
Не от зависти. От контраста.
И всё же — они мне как сестры.
Мы — трое. Совершенно разные, и всё же спаянные чем-то большим, чем просто общежитие. Жасмин — пылающая комета. Анна — безмолвная вселенная. И я — Кира Бельмонт, пианистка, дочь семьи, чьё имя гравируют на крышках роялей. Тихая, но внимательная. Я помню всё — взгляды, интонации, малейшие перемены в настроении.
Мы делили комнату, дни, музыку — и странное чувство, что этот год станет решающим.
Знаменитая школа "Камертон", но между собой мы называли её просто Башней. Она и правда возвышалась на склоне старинного леса, как отголосок другой эпохи — с высокими окнами, черепичной крышей и гулкими коридорами, где даже шаги звучали, как музыкальные ноты. Внутри — строгость, порядок и талант. Только талант здесь был пропуском, всем остальным платили потом и бессонными ночами.
Наш круг сформировался почти сразу.
Каспар Майкл — виолончелист с внешностью кинозлодея и обаянием рок-звезды. На первый взгляд — беспечный и наглый. На второй — едва скрытая тоска, которую он прятал под слоями сарказма и выпивки.
Тео Билл — пианист, яркий, открытый, слишком добрый для этого мира. Мой бывший. Или не бывший — мы никогда так и не определились. С ним было легко. И сложно. И... опасно.
Роман — скрипач. Гений. Тень. Самый тихий из нас, но с такой внутренней глубиной, что хотелось нырнуть в него с головой и раствориться. Никто не знал, что он чувствует. Никто, кроме, может быть, Каспара.
***
В столовой уже пахло кофе, свежими булочками и предстоящим экзаменом по теории музыки. Я шла последней.
У Анны походка была, как будто за ней тянется шлейф. Жасмин болтала по дороге о каком-то новом преподавателе из Австрии, который «смотрел на неё, как на виолончель Страдивари».
Когда мы вошли, мальчики уже ждали.
Каспар раскинулся на лавке, как король упадка. Его футболка — с надписью "Practice makes imperfect" — идеально подходила к взгляду, полному ленивого безразличия. Тео, наоборот, сидел ровно, приветливо, его светлая рубашка была небрежно заправлена, волосы торчали в разные стороны. Я всегда думала: если бы музыка была человеком, она выглядела бы, как он.
И только Романа всё ещё не было.
Мы смотрели на дверь почти одновременно.
— Опаздывает, — заметил Тео.
— Он так не делает, — сказала я, прежде чем подумать.
Роман... всегда приходил первым.
Он был тенью, но — важной. Не из тех, кто говорит много. Он был глубиной. Светловолосый, с глазами, в которых будто скрывался лёд. Только с нами он иногда таял. Только не с Анной.
Я перевела взгляд на неё.
Анна смотрела в сторону окна, в пальцах крутила кольцо. Лицо её было, как всегда, безупречным — и закрытым. Она редко что-то объясняла словами. В ней была тишина. А в голосе — мир.
— Может, на крыше, — сказал Каспар. — Вчера вечером видел, как он туда поднимался.
— Ты чего там делал? — уточнила Жасмин.
— Искал сигналы с Венеры. Или сигареты. Неважно. Он выглядел, как будто собирался попрощаться с жизнью. Или... с кем-то.
Мы переглянулись.
У меня внутри — защемило.
Что-то не так. Совсем не так.
И тогда я встала. Не потому что хотела — а потому что не могла сидеть.
— Я проверю.
Никто не пошёл за мной.
Иногда даже друзья чувствуют, что момент слишком тонкий, чтобы вмешиваться.
Когда я поднялась на крышу, небо было молочным. Туман ещё держался над деревьями.
А на краю — стояла партитура.
Без подписи. Только заголовок: "Requiem. Adagio per uno solo."
Одинокий.
Романа нигде не было.
И внутри меня в первый раз родилось ощущение, что сегодняшнее утро не просто начало дня. Это — конец.
Или... первая нота чего-то страшного.