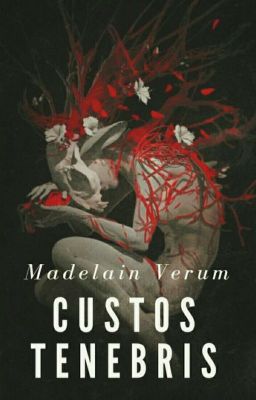Pars VI
В доме стоял едкий запах табака. Прокуренные стены, мебель, ковер на стене нельзя было отстирать от этой дикой вони. Единственным правильным решением было бы непременное сожжение всего этого, но, увы, дед Семён не допустил бы такого. Он молчаливо сидел на кресле, выдыхал дым изо рта с такой ритмичностью, что попадал в каждый шестой стук настенных часов. Седые засаленные волосы были аккуратно зачесаны назад. Измятую папиросу он подносил ко рту. О чем думал Семён — можно только гадать. Одинокого старика больше ничего не беспокоило, ну, разве что только его папиросы, которые рано или поздно заканчивались. Дремоту этого молчаливого дома разрушил скрип входной двери. «Надо бы смазать». — подумал он и тут же забыл.
— Семён Спартакович, здравствуйте. — своим резвым голосом поздоровалась Рита.
Он даже не пошевелился, лишь направил свой печальный взгляд на источник звука.
Рита начала кашлять от запаха табака, прошла мимо старика и села на табурет за старый грязный стол, на котором красовалась полувыпитая бутылка водки.
— Пенсия... — начала было она.
— Знаю! — рявкнул он, как собака и опять затих.
Женщина тоже замолчала, смотрела куда-то на стену, изредка поглядывала на старика, дожидая, когда он все таки встанет со своего кресла и поставит подпись. Семён Спартакович раздражал Риту, но её почтальонское терпение не давало сорваться.
Он закусил нижнюю губу, выпятил подбородок, а потом громко цокнул, выпустив очередную порцию белого дыма.
— Женьку вашу жалко. — выдал он.
Рита опешила, глубоко вздохнула, отвернулась от старика, слабо затряслась. От одного имени женщине стало так тяжело, что лучше бы уж она согласилась на физические пытки, чем вновь и вновь напоминать о тяжёлом бремени.
— Не вой! — рявкнул вновь старик. — Не в моем доме.
Женщина растерла слёзы по лицу, глаза покраснели, собралась с мыслями и молча достала из бокового кармана портмоне несколько зелёных бумажек. Кряхтя, Семён Спартакович соизволился подняться с кресла. Он подошёл к женщине, которая все ещё продолжала всхлипыывать, похлопал по ее спине и сказал:
— Ну всё - всё, не реви! — нахмурился дед и впервые за несколько дней огалил свои вставные зубы, создавая скупую улыбку.
— Здесь распишитесь... — тихо сказала Рита, мокрой от слёз рукой протягивала шариковую ручку Семёну Спартаковичу.
Впервые за столь долгое время ему стало горько на душе. За всю свою тяжелую жизнь он похоронил всех своих друзей, одноклассников, родных. Сколько раз дед бросал еловые ветви с грузовика на дорогу в этой деревне, но никогда не задумывался для чего это нужно, никогда не спрашивал батюшку, ведь не хотел показаться Незнайкой. Женю он знал с малых лет, когда эта юркая и лучезарная пятилетняя девчушка бегала к нему в гости, как к родному деду, но к сожалению, в последние годы совсем забыла про него. Это не огорчало старика, он понимал, что в этой её молодой и вечнодвижущейся жизни нет места такому старому как он. Сейчас Семён мог только посочувствовать Рите.
— Лучше бы двумя «Хабаровсками», нежели десятью «Ярославлями». — лыбился старик. — На водку хватит с Егорычем распить. От ведь алкаш эдакий!
Рита опять молчала, а потом встала, собрала бумаги и направилась к выходу, только на пороге обернулась, посмотрела жалобно на Семёна, опять вытерла слезу и сказала:
— Ты прости, Семён Спартакович, что перестали навещать.
— Ступай! — опять нахмурился он. — Негоже на пороге извиняться, да и за пустышку такую! У вас своя жизнь и мне помощи не нужно. Я уже прожил свою, не хочу, чтобы кто-нибудь, да и ещё расстраивался из-за какого-то левого старика.
— Семён Спартакович!
— Уйди! — рявкнул он, стукнув кулаком по столу так, что Рита немного вздрогнула. — Всего хорошо, Маргарита, всего хорошего.
Когда женщина ушла, дед сжал кисть руки у рта, закрыл глаза. Его терзала неизвестная тревога, хотя, для посторонних такое его поведение не было чем-то новым. «Старый он» — оправдывали его.
Семён Спартакович дрожащей рукой налил себе в грязный стакан водки, выпил залпом, занюхал выпитое рукавом и стремительно покинул свое место, направившись на чердак.
Старая лестница вела на пыльное место, где его жена частенько находилась: читала старые книги при свете керосиновой лампы, иногда ночевала, плела из тонких прутьев корзинки. Она любила этот чердак, её отец тоже когда-то любил этот чердак, любил этот дом и все, что в нем находилось.
— Отец твой, Машка, — заговорил с пустотой Семён, поднимаясь по лестнице, — странный был. Все же его боялись черта проклятого. Сказки какие-то все рассказывал...
Дед поднялся на чердак, кряхтя сел на старый табурет и смотрел в маленькое окошко под крышей. Он сидел и улыбался, унимал горечь ушедшего времени.
— А помнишь, Машка, ты говорила, что твой отец все небылицы на бумагу записывал, а потом, будто бы специально сжёг, чтобы никто не нашел? — со слезами на глазах, но с улыбкой спрашивал старик пустоту. — Помнишь, Машка?
Ему никто не отвечал. Холодный ноябрьский ветер продувал чердак насквозь через все щели, а Семёну словно был непочем холод.
— Может быть врал твой старик? Не в чего больше верить мне, кроме как тебе, да твоему папаше. А папаша твой врал.
Дед поднялся со стула и упал на больные колени, начал лихорадочно разрывать старые сундуки, которые веками пылились здесь, читал пожелтевшие от времени и условий бумаги, даже наткнулся на старый фотоальбом. И через несколько часов поиска...
— Нашел. — тихо сказал старик.
***
— По школе объявили траур.
— По Фросе, по той девочке из дома, который сгорел недавно и... — не успела договорить девушка, как её тут же прервала Дарья, появившись внезапно.
— Заткнись! — шикнула она. — Женька не умерла! Быть такого не может! Ещё идут поиски.
— Даш! — окликнула её одна из двух девушек, чтобы остановить. — Ты волнуешься, я знаю, ты переживаешь, но уже целую неделю никто не может найти Женю. Павел Григорьевич сказал, что завтра они будут прекращать поиски. Нет никаких улик, фактов, никто не знает, куда пропала она в ту ночь.
— Я сама её найду! — шикнула Дарья.
Девушка хотела было покинуть своих собеседниц, но столкнулась лицом к лицу с Димой.
— Воу-воу! Полегче, милочка! — он обнял её одной рукой и крепко прижал к своей груди.
— Отпусти. — тихо и строго сказала девушка.
— Нет.
Получив отказ, она силой выбралась из объятий своего парня и пошагала от него прочь, не оборачиваясь. Он ничего не сказал. Он понимал, что Даше тяжело, слишком тяжело, наверное в эту тревогу и боль с её стороны не поверила бы даже сама Женя.
Даша прошла по длинному коридору. Вокруг было много ребят: кто-то болтал, сидя на подоконниках, кто-то рассматривал новостную доску, которая пестрила страшными фактами о пропавших детях. «Хотят запугать?» — задавалась вопросом девушка, но не желала отвечать на него. На одном из таких подоконников с облупившейся краской сидела Элина, уныло качая в такт музыки, который звучал в её наушниках. Она пыталась скрыться от внешнего мира, не слышать визг недалёких девиц, не видеть радостные рожи.
И вот снова идёт он. Как всегда красивый, весь во внимании, темноволосый кареглазый гот. Никита мало походил на гота, был «светлее» что-ли. Он подошёл к Эле, поцеловал её скромно и сел рядом.
— Боишься? — ухмыльнулся парень.
— Нас посадят, идиот, посадят! — нервно шептала девушка, чтобы никто не слышал их разговора.
— Дура, — наклонился он к её уху, — никто ничего не узнает, а тело мы спрятали, да и мне кажется, он уже взял своё. Тем более, считай, что мы спасли нашу дыру от смертей аж на целых пятьсот лет, а может и больше.
Никита слегка стукнул Элю по спине и покинул её. Она осталась одна дожидать звонка на урок.
***
Дом. Какого возвращаться в жилище, где ты не живёшь, а выживаешь, где ты — предмет для унижений? И сейчас Эля вернулась домой... Вновь здесь воняет отцовской блевотней, разлитой бутылкой водки, куревом. На кухне при свете тусклой лампы пьют какую-то бадягу несколько мужиков, среди которых сидит отец.
Элине на столько стало привычно сие представление, что она молча, не издавая ни малейшего звука, направилась в свою комнату. Бледноватый мужчина с редкой щетиной на лице и глубоко посаженными глазами заметил приход своей дочери. Но его рассудок был сильно смутен, несуразен и единственное, что он мог в данную минуту — это поднять ещё одну стопку с водкой, прореветь по-медвежьи "тост" и выпить содержимое.
Саму готочку терзала совесть. Она боялась, что кто-нибудь узнает о ее участии в преступлении. Конечно же, она не хотела в тюрьму: есть холодную похлёбку, терпеть избиения "сожителей-отморозков", бояться заболеть чем-нибудь опасным, да и просто сломать жизнь, после которой ты будешь подобен отбросу.
В её темной и грязной комнате слегка пахло мышиными экскрементами, но Эля не замечала этого. Она жила вольно, не представляя о какой-то иной жизни. На стене висел постер с Marilyn Manson, который делал её лочугу ещё мрачнее.
Готочка никогда не понимала, почему вообще она является сторонником этого культа, ведь ни капельки не дышит им, просто носит все мрачное.
«Может потому, что я нищая?» — тут же задалась вслух вопросом девушка, смотря на себя в маленькое зеркало.
Её отец получал пособие по инвалидности, но этого едва ли хватало на еду. Хотя, какая там еда? Половину денег мужик пропивал, а другую Эля прятала, чтобы хоть как-то выживать. Об этом всём знали не многие, девушка старательно хранила тайны, молчала, боялась, что всё равно рано или поздно к ним нагрянут приставы, отберут родительские права и юная готочка попадет в руки детдомовских нянечек.
Она не считала, что там хуже, но не считала, и что лучше.
Элина стала доставать учебники из драного портфеля, как вдруг из него на пол выпала некая желтенькая бумажка, которую Эля, безусловно, подняла.
«Я знаю, что это ваших рук дело, Элина»
Девушка заметно побледнела.