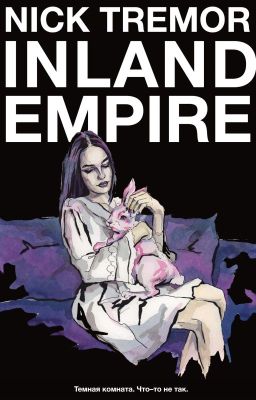Inland Empire
«Большая часть того, что реально внутри нас, не осознается, а того, что осознается — нереально»
— Зигмунд Фрейд
Ее изящные, оголенные ноги с каждым шагом проваливались по голень в царапающий снег, который ледяным наждаком шлифовал ее нежную кожу и забивался в бордовые лакированные туфли на высокой платформе, отчего она уже давно перестала чувствовать свои ступни — они как будто слились с туфлями, и одновременно с тем их словно вытеснило тупое ощущение холода. Ногами она передвигала машинально, поднимая и опуская задубевшие конечности, бывшие для нее, скорее, нечувствительной опорой, тяжелыми, промерзшими костылями, что не позволяли свалиться в снег и сдаться. Руки же все еще чувствовались, пускай и сотрясались в ознобе; Инна постоянно растирала ладони и обдувала их чуть теплым воздухом изо рта, отдававшим легкими нотками спирта, и усиливавшееся жжение покрасневших пальцев неустанно напоминало ей о том, что она все больше замерзала. Одеревенелое облегающее платье, походившее на тонкую панцирную эгиду, насквозь промерзло и сковывало и не без того дававшиеся с трудом движения. Она шла вперед, хотя впереди — впрочем, как и с любой другой стороны — не было ничего, кроме заснеженной пустыни, сокрытой под покровом смолисто–черного беззвёздного неба, и только острое отчаяние, пронзавшее каждый эфемерный лоскут души, толкало ее дальше, заставляя бороться не столько за сохранение жизни, сколько просто вопреки смерти, отвергая очевидную безнадежность со слепым упорством; вполне возможно, что под этим упорством скрывался фундаментальный инстинкт самосохранения, присущий всему живому, но оно также могло рождаться из ее крайне неуступчивого характера, который не был способен на спокойное принятие поражение. Инна рыдала, время от времени надрывала пересохшую глотку в истошном крике, будто бы кто–то или что–то могло услышать ее среди этой бесконечной пустоты, и ее дрожащие, потрескавшиеся и окровавленные губы сжимались, как бы стягивая, сосредотачивая в одной точке всю невозможную боль и холод, но несмотря на это она не останавливалась, изнывала и бесилась, разрывалась изнутри, но продолжала идти. Ей не было известно, как долго это все продолжалось, поскольку каждое мгновение растворялось в одной растянутой, однородной и ледяной вечности — она шла, пока легкие окончательно не замерзли, после чего упала на колени и закашляла кровью, которую тут же, вперемешку со снегом, зачерпнула в ладони и обмазала ею свое лицо, тщетно надеясь выгадать хотя бы немного тепла. С невероятными усилиями поднявшись на ноги, она прошла еще немного и вновь упала, не сумев стерпеть боль в ступнях — туфли слишком сильно сдавливали раздутые, окаменелые пальцы; сбросив обувь с ног, она, однако, не предпринимала больше попыток встать, решив продолжить путь ползком, и ползла, царапая грудь и харкая кровью, вплоть до провалов в сознании из–за кислородного голодания и общего изнеможения организма; вскоре ее голова тяжело легла на снег и Инна, удерживаясь на гранях рассудка, из последних сил задергалась, что больше походило на исступленные судороги, чем на сознательное сопротивление погружению в безмятежную тишину пустоты. Она очнулась в измокших от пота одеялах среди своей ледяной постели. Сон в мгновение выветрился в полураскрытое окно, за которым, на черно–желтом городском фоне,
апатично падали хлопья снега. Съеживаясь от холода, девушка сразу же вытянула одну руку из–под одеяла и взяла с тумбочки телефон, случайно при этом сбросив на пол пачку феназепама, и, увидев на часах девять, тут же вскочила с кровати — ей следовало встать еще в половину восьмого, и она понятия не имела каким образом ей удалось пропустить два будильника. На выяснение обстоятельств, впрочем, не было никакого времени; добежав по холодному молочно–серому ламинату до кухни, Инна поставила чайник и сразу же удалилась в ванную, где залезла — прихватив щетку с зубной пастой — под горячий душ. Пока слегка обжигающий поток воды хлестал ее по спине, она с неестественным усердием начищала свои зубы, словно пытаясь вытравить промеж кафельных плиток черную плесень и стереть известковый налет. «Для регулярного ухода за кафелем лучше всего использовать жидкие или кремообразные средства, поскольку порошки с содержанием абразивных частиц способны поцарапать поверхность... Также можно использовать средства, в которых входит хлор; как известно, хлор способен справиться с отложениями извести и ржавчины и ко всему прочему оказывает дезинфицирующее воздействие». Опустив взгляд на свои ноги и вспомнив про фиолетовые, ужасно раздутые пальцы из сна, Инна поперхнулась и сплюнула скопившуюся жижу из пасты и слюны на гладкую поверхность душевой кабинки. Покончив с душем, она заварила в фарфоровом чайнике из Китая зеленый чай и вернулась в ванную, чтобы приняться за макияж; проведя ладонью по запотевшему зеркалу, она внезапно обнаружила, что влажный осадок не оттирался, и тогда Инна принялась рьяно тереть зеркало сначала полотенцем, затем губкой с нежным мылом, но все в пустую — стекло так и оставалось замутненным. От отчаяния она даже достала первое попавшееся моющее средство и плеснула его в зеркало, которое к тому моменту было уже полностью чистым и, застыв на месте, с ошеломлением наблюдала за тем, как по нему стекала темно–синяя жидкость. В этот момент раздался звонок телефона, крайне похожий на звон будильника, и Инна повернулась к полураскрытой — точно как окно — двери. — ...Знаете, бывает иногда такое состояние, — говорила она, прикуривая сигарету от спички, — как будто ты застреваешь между двумя звонками будильника, вроде бы как уже проснувшись, но при этом еще не полностью выбравшись из бессознательного, и ты вот сидишь, допустим, на кухне, пьешь свой чай, как вдруг понимаешь, что отчетливо не помнишь, как здесь вообще оказалась. Ты вроде бы помнишь, как вставала с постели, ходила в ванную, готовила завтрак и вот это вот все, но доказать не можешь, и чем больше ты об этом думаешь, тем сильнее вгоняешь себя в сомнения. А было ли до этого что–нибудь вообще? Проснулась ли я? Или, может, вообще только родилась, точнее — была создана, да, прямо сразу за столом и с помытыми волосами, еще не успевшими до конца обсохнуть, — девушка отвела глаза от кедрового стола с черными лакированными покрытием и в завершении произнесла, попутно стряхивая на пол пепел: — Это жутко порой пугает, понимаете? Г-н Никто, сидевший напротив и с неподдельным вниманием слушавший ее, плавно кивнул. Это был взрослый, между тридцатью и сорока годами мужчина с весьма резкими, но, тем не менее, приятными чертами лица, в которых удивительным образом обнаруживалась высшая степень спокойствия; его серые, глубоко посаженные глаза неотрывно смотрели на девушку, и этот взгляд нисколько не давил, пускай и был в некотором роде испытывающим — напротив, он только вызывал доверие и как бы вскрывал скорлупу души, побуждая все больше обнажать свою подноготную. Находились же они в крайне темной комнатке, и из мебели здесь был только стол, два стула и статная торшерная лампа с холодным светом. Помимо Инны и Г-на Никто в помещении также присутствовало еще одно лицо, иногда — при нужных обстоятельствах — выплывавшее из густого мрака;
его звали Посредником, по внешности он походил на фотографа Инны и выступал в роли независимой персоны при решении каких–либо затруднительных или деликатных вопросов. — Однажды я как–то ехала в поезде, не помню, куда или откуда, лежала себе на верхней койке, укрытая одной белой простыней — душно было донельзя — и там, по вагону, постоянно бегал какой–то мелкий, лет шести, наверное, парень, в частности ошиваясь возле моего купе. Иногда он заглядывал внутрь, в открытую — потому что дышать было нечем — дверь и корчил мне всякие рожицы, после чего обычно взвизгивал и со смехом убегал. Я вообще терпеть не могу детей, а еще когда они такие сволочные... — Инна глубоко втянулась и выдохнула через нос. — И, в общем, я захотела поставить его на место, я всегда ставлю борзых детей на место, в особенности если рядом нет их мамаш, и сказала ему что–то вроде: «Если ты не прекратишь, то я ткну тебя вилкой» и еще для эффекта повертела перед ним вилкой, которую держала под подушкой — ну, знаете, всякое бывает — так вы представляете, что он принялся делать после этого? Плеваться! Он, мать вашу, начал плеваться своей густой, перемешанной с кровью слюной, покрывая все мое постельное белье своей бордовой харчей. Я закрываюсь от его плевков простыней и иногда кричу, чтобы мне кто–нибудь помог, но эта маленькая мразь безостановочно продолжает плеваться, и никто его, блять, не останавливает. А я сама настолько в шоке от его поведения, что ничего не могу сделать. Вы понятия не имеете, как же мне тогда хотелось резко вскочить из–под простыни, запрыгнуть на его хилые плечи и кромсать глазницы вилкой, пока этот сукин сын наконец не порвет воплями свои сраные голосовые связки. Просто, знаете, втыкать раз за разом, и заодно плевать ему в окровавленное лицо с такой зверской, возбужденной ухмылкой... Потом, через какой–то промежуток времени, я услышала из коридора противный голос то ли его бабки, то ли мамки: «Не волнуйся, у него просто зубки режутся, оттуда и кровь» — сказали мне. Нет, ну вы можете осмыслить весь пиздец происходящего? И тогда, скрываясь под простыней, я как–то подумала, типа, не может же это все происходить наяву, наверняка это все просто какой–то сон, но... — ее взгляд плавно опустился вниз, и она несколько мгновений помолчала. — Но если это сон, то почему все было так реально? Как будто... Как будто законы сна наслоились на состояние бдения, и все это смешалось — иррациональность, абсурдность сновидения и неизбежная действительность происходящего... Тем не менее, — Инна оторвала взгляд от пола и устремила его в абстрактную пустоту за Г-на Никто, — основная дилемма заключалась в том, было ли это все сном или же нет. Если да — значит я могла спрыгнуть и выпотрошить маленького говнюка, и мне ничего за это бы не сделалось, потому что я была Богом, альфой и омегой, началом и концом всего, что происходило — я бы убила эту скотину и затем обязательно занялась бы его родней, приговаривая: «Не волнуйтесь, у него просто зубки режутся, оттуда и кровь...» Инна вошла в спальню и взяла с батареи раскаленные щипцы для завивки, которые она каждый раз нагревала специально для более стойкого эффекта подкрученных ресниц, и прямо же там, перед круглым настольным зеркалом, покрасила свои ресницы смолянистой тушью и принялась их завивать. Вследствие крайней поспешности в процессе завивки она сильно обожгла свое правое веко; выронив от боли щипцы и знатно выругавшись, Инна, щуря правый глаз, с раздраженными воздыханиями направилась на кухню, где достала из морозильной камеры несколько кубиков льда и, завернув их в одноразовый платок, приложила к ожогу. Чай к этому времени настоялся уже настолько, что его решительно невозможно было пить, и она слила его в раковину, чуть ли при этом не разбив от досады чайник. Паршивое утро становилось все паршивее. Войдя в ванную, она стала рисовать тонкие стрелки, попутно не без горечи поглядывая на легкий, но все–таки заметный ожог, и, как обычно, они постоянно выходили разной длинны и под разным углом, из–за чего ей
приходилось раз за разом красить–стирать, красить–стирать, красить–стирать, пока она не закричала от отчаяния, отбросив к чертовой матери лайнер. — Посмотри, ты узнаешь? — спросил Жан, указывая на полотно, висевшее на опорном столбе прямо напротив входной двери. Инна внимательно всмотрелась в него; через довольно небрежные мазки проглядывался безликий силуэт человека на объемном белом фоне. Раньше она не видела этой картины. — Нет. Ты ее недавно купил? — Нет, я сам нарисовал, — ласково улыбнулся Жан. — Но я спрашиваю не об этом; узнаешь ли ты, кто на ней нарисован? — На ней же отсутствует лицо?.. — Да. В этом–то и дело — настоящего лица нет, есть лишь натянутая кожа, на которой можно нарисовать что угодно, — он повернулся к Инне и, не сбрасывая своей ласковой улыбки, спросил мягким тоном: — Разве ты не видишь на ней себя? Несколько глубоких вдохов и выдохов помогли ей вернуть самоконтроль; подняв с пола лайнер, она неимоверно осторожно, задерживая дыхание, сумела нарисовать практически идеальные стрелки и, вдохновленная своим подвигом, сразу же переметнулась к бровям. С ними все обстояло куда проще — достаточно было подвести их карандашом и далее зафиксировать волоски посредством туши. Затем она открыла баночку консилера — густого тонального крема — и замазала мешки под глазами (которые упорно продолжали набухать из–за бессонницы), представляя при этом процесс грунтовки холста, и после обратилась к хайлайтеру, перламутровыми тенями придав лицу объем, подсветив скулы, выровняв нос, сделав чуть объемней губы и слегка выделив подбородок. Последним штрихом она обрисовала контур губ коричневатым карандашом, нанесла слой матовой помады и, сложив средства для макияжа обратно в свою сумочку, наконец–то окончательно покинула ванную. В прихожей Инна быстро выпрямила уже высохшие волосы утюжком, оделась и вышла из квартиры. — Я не знала, что ты рисуешь, — сказала она, снимая с себя обувь. Жан, регулировавший свет в студии, не оборачиваясь усмехнулся: — То есть все эти картины тебя не смущали? Она подошла к нему и уже более вдумчивым — нежели прежде — взглядом оглянула настенные картины, коих было, в общей сложности, пять штук. — Я как–то не обращала внимания. Думала, что ты их покупаешь. — Тебе нравятся? — В них что–то есть, — уклончиво произнесла Инна. — Когда ты успел научиться рисовать? — Жизнь — длинная и тоскливая штука, — ответил он, довольно потирая руки. — У меня все готово. И что с твоим глазом, кстати? — Обожгла. — В этом что–то есть, — задрав голову, кивнул, как бы всерьез оценивая, Жан. — Правда твой агент не оценит, так что мне придется, в случае чего, повозиться в фотошопе.
— Тебе в любом случае придется возиться в фотошопе, — иронично ухмыльнулась
Инна.
Вспышка. Она стояла в неестественной позе посреди плоских фоновых джунглей, которые Жан приделал в пост–обработке по желанию заказчика. Рядом с ней также позировала другая девушка, по какой–то таинственной причине казавшаяся Инне знакомой; это была новая модель и, в отличие от самой Инны, она не обладала красивой внешностью, хотя в ее посредственном лице и обнаруживалось нечто невероятно притягательное. В перерывах между вспышками она бросала надменный взгляд на Инну и, едко усмехаясь, говорила словно заранее выученные и отрепетированные фразы: — Чужая одежда, чужая поза, чужое лицо — в тебе нет ничего своего. Вспышка. — Ты — это глянцевая подделка, цветная печать на формате А 4, манекен бесконечных магазинов, вешалка для шмоток и безликая часть рекламной компании, которую может заменить — и заменит — любая другая привлекательная, по меркам социума и корпораций, девушка. Вспышка. — Когда ты возвращаешься по вечерам домой и смываешь с себя весь образ в раковину... Вспышка. — ...Чувствуешь ли ты бесконечную пустоту внутри? Вспышка. — В отличие от тебя, я — естественная. Мне не требуется тонна макияжа, потому что у меня нет страха перед собственными изъянами, а без страха они ничего не значат. Вспышка. — Ты — это не твой образ, — говорила девушка, в то время как ее шею облизывал обнимавший сзади Жан, — ты — это не твоя еда, ты — это даже не твои мысли. Ты — это твои страхи — прошипела она, скаля в сторону беззащитной Инны свои желтоватые зубы. Вспышка. — Пока закончили, — сказал Жан, отходя к своему рабочему столу. — У тебя есть что–нибудь поесть? Я ужасно голодна. — Там где–то пицца оставалась, — махнул он рукой в сторону открытой прихожей, где также располагалась маленькая импровизированная кухонька. Пока Жан методично просматривал фотографии в макбуке, с пошлой небрежностью заносчивого критика отметая их направо и налево, Инна разогрела чайник и позавтракала, заняв свои мысли дрейфом по бесконечному информационному потоку в ленте социальной сети. У нее висело множество сообщений, ответов, заявок в друзья и приглашений, но она их даже не замечала — все это мельтешение уже давно приелось и вызывало только тоску. Время от времени ей хотелось вовсе удалить все свои профили, но ее неизбежно останавливало осознание того, что эти профили, этот один общий образ, который она столь кропотливо создавала на протяжении долгих лет — это все, чем она могла гордиться, и все,
чем она, собственно, являлась. Стоило их уничтожить — и она бы уничтожила себя, став той самой безликой картиной, что висела на опорном столбе. — Бред, все кадры насмарку, — раздраженно пробурчал Жан, отрываясь от экрана макбука. — Все же было нормально... Что не так с твоими губами? — А что с ними не так? — удивилась Инна. — Они кровоточат. Г-н Никто выжидающе смотрел на нее. Инна устало достала очередную сигарету и, закурив, с некоторой кичливостью, делая неоправданно большие паузы, начала говорить. — Вообще, мне иногда симпатизирует идея всемогущего контроля. Говорят, что она присуща людям, больным ананкастным расстройством личности, и это вполне возможно в моем случае... Но в самом деле, почему нет? Разве кто–нибудь из людей, положив руку на сердце, может сказать, что он не является для себя центром вселенной? Ведь я — своя точка отсчета, как и ты, и все остальные, мы все в некотором роде вынужденные солипсисты и эгоцентрики, если только позволим себе в этом сознаться, — она стряхнула пепел на остававшийся чистым пол. — Конечно, я не обладаю всемогущем контролем. Никто не обладает. И когда я говорю про него, я имею ввиду немного иное... Я имею ввиду способность к полному самоконтролю, что в некотором смысле практически равносильно «всемогущему контролю», ведь я — это начало и конец вселенной в контексте своего индивидуального бытия, понимаете? За окнами все сыпал снег, заправляя черно–серое месиво на проезжих дорогах Невского проспекта. Инна, слегка склонив голову над чашкой горячего латте, отстраненно наблюдала за будничным трафиком из людей и машин, и происходящее за окном казалось ей лишь изображением какой–то артхаусной киноленты в лучших традициях Энди Уорхола, проецируемой на стекло; все было плоским, расплывчатым, безликим и в какой–то степени неестественным, все было, наконец, ирреальным и существовавшим в двухмерном измерении, по иллюзии казавшимся трехмерным. И чем дольше она всматривалась, тем дальше от нее отдалялись объекты, пока в какой–то момент она не оказалась в пустоте, где не было ничего — ни домов, ни дорог, ни людей, ни машин — кроме нежной, обволакивающей тишины. Инна практически смогла к ней прикоснуться, как вдруг ее пробудил постылый голос Сергея; она отвела от окна взгляд и посмотрела в его слегка небритое, но ухоженное лицо. — Так ты все еще спишь со своим фотографом? — бесцеремонно спросил он, на что Инна, однако, сразу нашла ответит: — А ты все лезешь в чужие постели? — Он ведь тебя просто использует, как и других девочек, которых снимает. Только одни это понимают и им это нравится, а другие... — он выдержал испытывающий взгляд на Инне, — ты ведь умная девочка, почему ты не можешь этого понять? Или же ты просто отрицаешь очевидное, не желая сталкиваться с грубой правдой? — Ты его совсем не знаешь и при этом позволяешь себе судить, — огрызнулась Инна, попутно подавляя в себе обжигавший внутренности — вместе с горячим кофе — воспалявшийся гнев. — А он что, глубокий человек? Смеешься?
Внутреннее напряжение сдавливало ее изнутри; она смотрела в его голубые глаза и представляла, как хватает со стола нож и всаживает в его гнусную глотку; представляла его испуганные глаза и лицо, искаженное ужасом; представляла, как он заваливается на кафель и давясь, захлебываясь кровью, сквозь бульканье силится произнести свои последние слова, корчась в предсмертной агонии. Что бы он пытался произнести? И что бы пыталась при случае произнести она?.. От страстного желания, раздутого своими размышлениями, Инна прикусила потрескавшиеся губы и из них пошла кровь — матовая помада, испытанная уличным морозом, давала о себе знать. Молча встав, она удалилась в туалет, где, набрав в гладкие ладони жидкого светло–бирюзового мыла, у раковины стала оттирать помаду, попутно отхаркивая кровь со слюной и вытирая лицо салфетками. Женщина, стоявшая справа от нее и наносившая туш на свои длинные, завитые ресницы, понимающим тоном произнесла: — Мне тоже постоянно приходится на свиданиях удаляться в туалет, чтобы прочистить весьма некстати кровоточащий нос. Издержки дешевого кокаина и эфедрина. Инна посмотрела на нее как на сумасшедшую. — Но это того стоит, потому что уже под вечер, когда ты приятно–утомленная и возбужденная ложишься в постель, испытываешь такой кайф при сочной, грубой долбежке, что сразу вся дрянь из тебя вылетает и очищается дух. Я верю, что можно познать самого Бога через постель. Как–то раз в момент оргазма я его видела — он был похож на негра из рекламы Old Spice и от него пахло мятой. Поправив свои губы — предварительно обработав их перекисью водорода из сумочки — Инна снова обвела контур и накрасила их все той же злополучной матовой помадой. Жан ждал ее, склонившись над своим макбуком. — На самом деле эти фотки тоже можно привести в чувство, — сказал он, услышав, как хлопнула дверца туалета. — Может даже в сыром виде, ну, прямо с такими губами. Круто смотрится. Хотя, опять же, из–за неформата придется все–таки ретушировать... — Жан повернулся к девушке, которая встала под свет прожекторов. — И ей богу, используй гигиеническую помаду, когда собираешься в студию. Ты знаешь, как легко заработать рак губы? Достаточно даже просто ее кусать — и вуаля, ты уже лежишь в больнице и тебя пичкают таблетками. Так, ладно... Внимание, дубль два, сцена один, камера — снимаем! Откликаясь на инструкции по позированию, которые неустанно выдавал Жан, обличая их в игриво–нежную форму по типу «носик чуть выше, сладкая», «вытяни губки как в скромном поцелуе», «оголи бедрышко и подайся вперед грудью, дорогая», Инна размышляла о том, насколько подобного рода поведение было позволительно, и не стоило ли ей приструнить фотографа, напомнив ему, что она — полноценная личность, а не красивый манекен. Если бы они не состояли в отношениях, то она бы обязательно ощетинилась на него; в этом же случае ей только оставалось иногда напоминать себе, что это всего лишь обычный флирт, а не выказывание пренебрежения, и нет никаких причин для выступлений. — Я бы тебя съел, какая же ты аппетитная, черт возьми, — говорил он, щелкая затвором фотоаппарата. — Жан, можно вопрос? — Для моей куклы — все, что угодно. — Во–первых, я тебе не кукла, — все–таки не выдержала Инна, — а во–вторых, ты со всеми своими моделями так флиртуешь или только со мной?
— А ты что, ревнуешь? — как ни в чем не бывало спросил Жан, не отрываясь от фотосъемки. — Я задала тебе вопрос. — Это не флирт, это часть рабочего процесса, которая нацелена на помощь моделям. Когда говоришь им такие вещи, они больше входят в роль и чувствуют себя уверенными, и я неизбежно схватываю это. Тут нет ничего личного, хотя, конечно, я никогда не льщу — если я сказал, что съел бы тебя, значит я бы тебя действительно съел. — Мы вообще вместе или так, просто спим? — Вместе спим, — уклончиво ответил Жан, что язвительной горечью отозвалось в Инне. — Ты меня бесишь, — пропалила девушка, не двигаясь с места. — Да, да! Больше страсти, больше накала! Мне это нравится! — Когда–нибудь мы будем трахаться и ты опять попросишь тебя слега придушить, но я не остановлюсь и задушу тебя к хренам собачьим. Жан послал ей воздушный поцелуй и сделал еще ряд снимков. — А еще, — говорила Инна Г-ну Никто. — Возвращаясь к одному из наших монологов... Вот все говорят, типа, сон — это не реальность, или, ну вы знаете, просто приводят в аргумент слово «реальность», как будто «реальность» — это какая–то само собой разумеющаяся истина, которая сразу нивелирует всякие неуместные сравнения. Но что такое «реальность» вообще? Кто мне может ответить?.. Сергей вдавил кнопку и в салоне машины плавно погас свет. Инна сидела на задних креслах, обитых дорогой крокодильей кожей мраморного оттенка, и вслушивалась в элегию Рахманинова, которую на удивление лаконично вписывался приглушенный скрип дворников, сметавших хлопья снега с лобового стекла. Ее глодала сильнейшая тоска; поначалу она активно пыталась игнорировать любые мысли касавшиеся Жана, но разговор в ресторане окончательно выбил из ее рук узды самоконтроля, и теперь мысли свободно роились в голове, вызывая бурный эмоциональный отклик — вся ее сущность сопротивлялась неизбежной правде, отчего все внутри сжималось, горело и исходило горькой желчью. На подсознательном уровне она всегда понимала, что являлась для Жана всего лишь временным увлечением и очередной моделью, с которой он спал, понимала, однако не признавалась себе в этом. Теперь же эта негативная реальность в мгновение проявилась во всей своей скверности, не предоставляя никакой возможности вновь закрыть глаза и отвернуться... В голове сама по себе разыгрывалась одна невозможная сцена, имевшая место быть — по крайней мере, как теперь ей казалось — в их загородном доме, о котором, к тому же, так некстати напомнил Сергей, когда спросил, помнит ли она о тех самых «нежных вечерах», которые они проводили в огромном зале их коттеджа. В ужасающей ясности она видела себя с кружкой чая на золотисто–голубом сицилийском диване, и Сергея, сидевшего в своем любимом кресле с запрокинутой от экзальтации головой; «Нежность» все того же Рахманинова изливалась из древнего граммофона, обнаружившего свое место под репродукциями нудистического полотна Амедео Модильяни и «Мальчика с трубкой» Пабло Пикассо, и сливалась с сентиментальными лучами вечернего солнца, пробивавшимися в приоткрытые задние двери. Она находилась в оцепенении, возникшем на почве бессознательного предвосхищения чего–то плохого, и это настолько снедало ее, что Инна даже не могла поднять с блюдца чашку своего душистого чая.
Ощущение было такое, словно она попала в кошмар, прикрытый благовидным обликом, и, осознавая, что непременно должно произойти нечто страшное, не могла проснуться, оставаясь в отравляющем душу томлении. В какой–то момент в гостиную вошел чопорный дворецкий и, встав возле дверей, невозмутимым тоном проговорил: — В вашей прихожей находится труп-с. Инна посмотрела на него ошарашенными, полными животного ужаса глазами, чувствуя, что все ее тело окончательно немеет. — Подайте сюда! — крикнул Сергей. — Боюсь, что ваш шелковый ковер пропахнет-с. — Ничего, на стол положите, чай потеснится. — Как прикажете-с. Дворецкий откланялся и вышел в коридор. Инна все так же продолжала обездвижено сидеть на месте, чувствуя, что еще немного — и она точно сойдет с ума. Внутри все клокотало, рвалось и щемило. Вскоре дворецкий вернулся, держа в руках чье–то тело, и бережно положил его на старинный кедровый стол, отодвинув в сторону поднос с чашками и чайником. Девушка медленно опустила взгляд, сдерживая дрожь в пальцах; и хотя тело успело сильно разложиться, она сумела распознать в гнилом, впалом лице без глаз, носа и губ своего фотографа. — Что–нибудь еще, Сэр? — поинтересовался дворецкий. Сергей махнул рукой: — Спасибо, Чарльз, пока ничего. А хотя... Поставьте, пожалуйста, Мендельсона. Инна не отрывала потупленного взгляда от трупа. Дворецкий сменил пластинку в граммофоне и покинул залу, оставляя их наедине со своим ужасом. — Ах, ну разве «Осенняя песнь» не прекрасна? — спросил Сергей, восторгаясь всеми фибрами души. — И милая, почему ты так напряжена? Ты ведь постоянно перешагивала через его труп в прихожей, откуда же теперь взялось такое удивление? — Останови машину! — вскричала Инна. — Останови ее, мне надо выйти! Сергей резко вдавил тормоз; как только машина полностью остановилась, Инна буквально выбросилась наружу и, тяжело дыша, оперлась о тонкий ствол дерева посреди разбитой грязным снегом мощеной дороги. Похабно разодетая женщина, стоявшая слева и курившая через мундштук из слоновой кости мерзко–приторную сигарету, на дружеской ноте произнесла: — Да не волнуйся ты так, дорогая. Мораль своей истории определяешь только ты; если захочешь воспринимать ее, как трагедию — валяй, только зачем все усложнять? Это была та же женщина, с которой она некогда пересеклась в дамском туалете. От волнения Инну вырвало. Жан покрутил головой и протянул ей влажную салфетку с запахом кипариса, после чего, достав из брюк мятую пачку парламента, попросил у женщины прикурить. — Я ведь тебе говорил не мешать свои таблетки с крепким алкоголем, — раздраженно выдохнул он вместе с сигаретным дымом. — Ты как ребенок, ей богу. — Я в семнадцать, когда по глупости забеременела, пыталась с помощью алкоголя и таблеток самоубиться, — говорила женщина, — потому что мои консервативные и не в меру
строгие родители были категорически против аборта... Знаете, какого это — когда ты хочешь умереть, а тебе в рот пихают паршивую трубку и промывают желудок? А потом, через месяц или два, у меня случился выкидыш, и мать трижды отреклась от меня. — Выгнали из дома? — поинтересовался Жан. — Скорее выкинули к чертовой матери. Сначала жила у подруг, потом устроилась на работу и стала снимать небольшую комнатку на Петроградской вместе с одним замечательным молодым человеком. Он был пианистом и каждые выходные напивался дорогим вином. Вместе со мной, конечно же. — И что потом? — Потом он спился, а я стала содержанкой, — пожала плечами женщина. — Ладно, пошли, нам пора, — сказал Жан, откинув окурок в оголенные кусты. Они поднялись по мраморной лестнице на открытую веранду огромного античного особняка. Жан взял со стола свою венецианскую маску и вопросительно посмотрел на застывшую в растерянности Инну. — Где твоя маска? — Я... Я не знаю, — неуверенно проговорила она, упираясь взглядом в занавешенные бордовыми шторами окна, за которыми в полном безмолвии двигались множественные силуэты людей. — Эй, — окликнул он охранника в элегантном костюме, стоявшего возле массивных дверей. — Будьте добры, принесите девушке маску. Она потеряла свою. — Какую вы бы хотели маску, мадам? — Моррету, — ответил за Инну Жан. Охранник кивнул и через полминуты Инна получила овальную маску из черного бархата, лишенную рта, которая крепилась на лице за счет штырька, сжимаемого в зубах. Из–за этого данная маска еще имела альтернативное название «Servetta Muta», что переводилось с французского как «немая служанка». Надев маски, они вошли внутрь, и охранники закрыли за ними двери. Инна не помнила этого места и не знала, как здесь оказалась; она следовала за Жаном сквозь безликую толпу людей, молча танцевавших под шестую симфонию Чайковского, и в осторожной тревоге озиралась вокруг. Интерьер особняка был выдержан в викторианском стиле с большим уклоном в строгую готику, где изысканность находила себя в изящной кротости: вся мебель, как и элементы декора, имела мрачные красно–коричневые оттенки, паркет был выполнен из натурального ореха, портьерные ткани, которые использовались для штор и покрывал, были искусно задрапированы золотистой бахромой, и поверх темно–вишневых обоев, украшенных сложным орнаментальным рисунком, находились множественные репродукции полотен эпохи возрождения, в большинстве своем имевшие библейские мотивы. Инна одновременно восхищалась великолепием и пробиралась беспокойством, поскольку за совершенством убранства, маскарада и музыкой, за всем, что было здесь, находилось нечто нездоровое, осознавалась уродливая скрытая изнанка этого самого совершенства. Они миновали толпу и поднялись по циркулярной лестнице на второй этаж, где Жан встал посередине балкона и, выдержав томительную паузу, громко хлопнул в ладоши. Музыка во мгновение прекратилась, гости полностью — за исключением масок — сбросили с себя одежды и стали совокупляться друг с другом. Инна смотрела на залу, заполненную сплошной массой нагих тел, и ей хотелось закричать, но рот занимал штырек маски, а снять ее она по какой–то необъяснимой причине боялась. Жан повернулся к ней и спокойно проговорил:
— Ты наблюдаешь за этим безумием и хочешь вскричать в пылком протесте, но не можешь, и просто продолжаешь смотреть как все трахается, трахается и трахается в давящем молчании твоего разума. Есть ли у безумия лицо, Инна? После чего ей в глаза ударил яркий свет и она проснулась. Кто–то громко аплодировал; жмурясь от света и растирая свои глаза, Инна нагнулась вперед на своем стуле и попыталась вспомнить, где она находилась. Ликующий голос Андрея — ее модельного агента — моментально восполнил пробелы в памяти: это была закрытая встреча, посвященная подведению итогов года и обсуждениям дальнейших амбиций, которая проводилась каждый декабрь в особняке Андрея и каждый раз начиналась с просмотра киноленты «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрика. — Превосходно, превосходно! — восхищался Андрей, поднимаясь со своего стула. — Я готов пересматривать этот фильм вечно, честное слово. Нет и не будет ничего великолепнее его. — И все–таки в следующий раз надо поставить «Под покровом ночи» Тома Форда, — сказала Ева, любимая модель самого Андрея и по совместительству верная подруга Инны. — Я плакала, когда посмотрела первый раз. — Ничего против Форда не имею, но это традиция, а сохранение традиций — залог успешного процветания, понимаешь? — Мне всегда импонировал твой абсурдно–серьезный подход, — улыбнулась она в ответ. За непринужденными разговорами о фильме все гости переместились из маленького кинозала в огромную гостиную; Инна же молча придерживалась остальных, выискивая взглядом кого–нибудь из своих подруг — ей необходимо было выговориться, иначе она чувствовала, что точно сойдет с ума. Лена, Алина и Ева обнаружились за столом с выпивкой, где также стоял Андрей, весьма некстати беседуя о чем–то с Жаном; еще там находилась какая–то девушка, которую Инна видела впервые, и смотрела на Жана чуть ли не голодным взглядом, в котором читалось что–то вроде: «оприходуй меня прямо здесь». Может быть Инне только так показалось, однако это стало последней каплей — разгорячено подойдя к столу, она схватила два бокала шампанского и недвусмысленно кивнула своим подругам, чтобы те следовали за ней. — Только не уходите слишком далеко, дамы! — громко произнес Андрей, что, казалось, все в помещении должны были на них обернуться. Они вышли из гостиной в просторный холл и разместились на скрипучем бордовом диванчике. Лена, как самая близкая подруга из трех, сразу же поинтересовалась в чем дело, чутким взглядом лаская беззащитную Инну. — Я поняла, что всю жизнь меня только используют, — говорила Инна, и каждое ее слово отзывалось давящей скорбью внутри, — начиная с детства, когда мама использовала меня в качестве объекта для гордости, выверяя до своих чертовых идеалов... — здесь она оборвалась, чувствуя разбухший в горле ком. Залпом опустошив бокал шампанского и глубоко вдохнув, она продолжила: — Идеальное воспитание, идеальная внешность... Снаружи она может быть и приблизила меня к своим идеалам, но внутри превратила меня в больную калеку, отрыжку из психологических инструментов защиты, — она прослезилась и, резко вытерев слезы — поскольку считала, что подобная слабость непозволительна — отпила шампанского из второго бокала и немного помолчала, собираясь с силами. Подруги в это время внимательно смотрели на нее, впитывая, казалось, каждое слово, каждый отблеск
эмоций в ее блестевших от слез глазах. — Из–за нее я стала моделью, простым манекеном, который используют для рекламы переоцененных тряпок, из–за нее я имею патологически завышенные требования, и из–за нее же страдаю, когда эти требования входят в контры с реальностью... Я просто больше так не могу, для меня каждый день — это внутренняя пытка, которую я даже не способна контролировать, потому что она проистекает уже сама по себе, как... Как настоящая болезнь. — Тебе нужно отдохнуть от всего, в том числе — от себя самой, — проговорила Лена, когда Инна закончила говорить. — Хочешь, мы устроим небольшую вечеринку? — Да, да, — согласно кивала Алина. — Никаких мужчин и всей такой ерунды, только мы, алкоголь и приятная музыка. — А еще можно будет достать наркотики, экстази или траву — как пожелаешь, — добавила Ева. — Нам всем нужна, по правде говоря, небольшая передышка, мы все сейчас на взводе, — Лена достала из золотистого портсигара тонкую сигарету и закурила. — Как насчет воскресенья? — А какой сегодня день недели? — спросила Инна, осознав, что она понятия не имеет ни о числе, ни о дне недели; да даже о том, что сейчас декабрь, дала знать только эта бесполезная ежегодная встреча. — Понедельник, дорогая, — ответила Алина. — Я что–то совсем выпала из реальности... Дни тянутся одной сплошной кашей из каких–то событий и так сложно отделить вчера от завтра, что уж говорить о том, что такое «сегодня». — Сегодня — это сейчас, а остальное... Ева не договорила, поскольку в дверях возник Жан и позвал их обратно. Инне казалось, что это происходило уже бессчетное количество раз — они входили в гостиную, рассаживались по своим местам и слушали пресные речи Андрея, которые тот так любил разбавлять совершенно неуместной экспрессией. Однако в этот раз что–то пошло не так; еще только войдя в помещение, Инна почувствовала некоторое отличие, может, не так располагались стулья или же не в том месте стоял Андрей... Она села рядом со своими подругами и обратила все свое внимание на Андрея; в комнате погас практически весь свет — продолжали гореть только люминесцентные лампы, подсвечивавшие лестницу за ним. Андрей начал говорить каким–то задорным и одновременно с тем напряженным тоном: — Добрый вечер! Как вы знаете, мы собрались здесь. О том, где это — «здесь», и что вы действительно можете «знать» — открытые риторические вопросы, на которые никто из вас не сможет ответить. Я уже даже не спрашиваю вас о том, кто вы такие, потому что я сам не знаю, кто я. Но! Но это все не так важно, кхм. Однажды я наткнулся на бомжа, который искал местечко чтобы притулиться знойным летом; выглядел он ужасно худо, весь распухший, с огромными фиолетовыми мешками под глазами и красными, прямо как у черта, глазами. Я подошел к нему, чтобы дать немного денег, и он сказал мне следующее: я не спал уже две недели. Ты ведь знаешь о том, что если над ядром не производится наблюдение, то оно находится в квантовой суперпозиции, то есть в смешении распавшегося и не распавшегося ядра одновременно. И... и я боюсь уснуть, потому что когда я засыпаю, ядра возвращаются в суперпозицию, весь чертов мир для меня обращается в суперпозицию,
существуя и не существуя одновременно. Мне всегда везло — когда я раньше просыпался, мир продолжал существовать. Но что если я открою глаза, а его не будет? Что тогда? — Что он несет? — прошептала Инна в сторону подруг, однако те ничего не ответили. — Я же ему в ответ сказал: друг мой, нечего бояться — когда ты спишь, кто–нибудь другой обязательно находится в состоянии бдения. И знаете, что он у меня спросил? — Андрей выдержал паузу, оглядывая зал. На его лбу проступали капельки пота. — А откуда мне, дескать, знать, что кто–то кроме меня — реален? Где тому доказательства? Все — кроме Инны — внезапно зааплодировали, и Андрей признательно закивал головой, после чего вздернул вверх ладонь, требуя тем самым тишины. — Вполне возможно, что это был сам Бог. Я не знаю. Никто не знает. Больше этот бомж мне не встречался — быть может он уснул и, когда на него никто не смотрел, попросту исчез. Или его мир исчез, а как следствие — и он сам вместе с ним. Так или иначе, с того дня я больше не мог спать спокойно. Мне тяжело было уснуть, а когда я все–таки засыпал, меня терзали кошмары. Один из них запомнился мне больше всего: так в жизни я еще никогда не боялся, если, конечно, позволительно называть сновидение — жизнью. Итак... — он перевел дыхание, разглядывая свои лакированные туфли, в которых холодными фантомными колебаниями отражался свет от ламп. — Это была какая–то тесная, хорошо освещенная каменная церквушка, в которой не было ни окон, ни дверей. Я стоял примерно посередине между двумя рядами кресел, и с какой–то ужасной тревогой смотрел на крест передо мной. Затем я внезапно понял, что это — лишь воспоминание, что я уже когда–то освободился из стен этой церкви, но... Как могло быть воспоминание таким ясным, а испуг от него — таким реальным? Понимаете, я как будто существовал в некоторой... суперпозиции времени и пространства, одновременно в прошлом и будущем, в цельном и разрушенном храме... Даже больше — я был этим храмом, и этот кошмар — был мной. — Хватит! — вскричала Инна, вскочив со стула. Ее всю трясло. Она умоляюще посмотрела на Жана, затем резко перевела глаза на застывшего Андрея и импульсивно развернулась в сторону дверей. Никто, кажется, даже не дышал, когда она выходила из комнаты. Оказавшись на заснеженном крыльце, Инна, съеживаясь то ли от холода, то от ли от нервного возбуждения, выдохнула большое облако пара и, будто чувствуя чье–то присутствие, заглянула в узкую щелку между плотных бордовых занавесок — все гости продолжали смотреть в ее сторону, хотя едва ли вообще могли разглядеть ее. Делая вид, что она этого не заметила, Инна достала из сумочки свой телефон и хотела вызвать такси, но не было связи; в этот момент из двери вышел Жан и сухо спросил: — Подвезти? Инна обернулась к нему и как бы супротив своей воли кивнула, сама не осознавая свое согласие. Жан положил за ухо сигарету и легкой походкой направился к своей машине, припаркованной между матовой BMW Андрея и вызывающе–красного цвета седана, который Инна видела впервые. — Чья это машина? — Нашей новой модели, — ответил Жан, открывая для Инны дверцу своего старого Porsche. — Ты ее может видела, она постоянно вокруг Андрея ошивалась. — А мне показалось, что это она вокруг тебя ошивалась. Еще и смотрела так, как будто вы уже давно в отношениях.
— Я ее не больше твоего знаю. Как только Жан завел машину, Инна полезла в бардачок за кассетами и попыталась отрыть среди инди и экспериментального рока что–нибудь приличное, но, так ничего и не обнаружив, раздраженно захлопнула его: — Я же дарила тебе кассеты с классической музыкой, где они? — А нахрена мне твоя классика? — спокойно спросил Жан, повернув голову к Инне. — У меня там где–то должен был лежать новый альбом Brand New. Ну, или поставь хотя бы Kid A, ты ведь сама его раньше ставила, когда мы уединялись после фотосессий. — Только потому что я не могу заниматься сексом в тишине, а этот альбом просто идеально подходит для создания каких–то фоновых шумов. — Мы разве сейчас занимаемся сексом? — спросил Жан, улавливая гневный взгляд Инны в отражении лобового стекла. — В таком случае мы вполне можем посидеть в тишине. Язык как будто онемел, сделавшись свинцово–тяжелым, и Инна не нашла больше в себе сил произнести ни единого слова. Она потуплено наблюдала за тем, как белый свет фар разжижал беспросветный мрак, из которого затем проступала дорога, и с отчаянной жадностью вслушивалась в «тишину», чьей эфирной консистенцией был доверху заполнен весь салон. Поначалу эта тишина помогала ей отвлекаться, но чем дольше она в нее углублялась, тем яснее проявлялось в разуме абстрактное изображение Жана рядом с той новой моделью; тишина сгущалась, становясь все тяжелее, в висках начинало проявляться навязчивое гудение, и этот дикий, голодный взгляд — Инна снова видела его перед собой во всем его безобразии, не имея возможности отвернуться. Чувствуя, что если она ничего не скажет, если не прервет это молчание, то ее голова разорвется вместе со всем остальным миром, Инна насилу произнесла: — Нам надо поговорить. И крепче вжалась в кожаное кресло, попутно щипая себя за правое бедро, чтобы сбалансировать на эмоциональной грани. — Я слушаю, — с серьезной чуткостью в голосе отозвался Жан. — Ты ведь знаешь, что я тебя люблю, — с трудом выдавила она из себя, после чего почувствовала на мгновение некоторое облегчение. — И... В общем, я бы просто хотела, чтобы пока мы вместе — ты был только моим. Мне кажется, что я не так многого прошу, разве нет? — А я разве чей–то еще? — Нет, но... — Флирт — это просто слова. Они ничего не стоят. Важно то, с кем я остаюсь после работы, а не то, с кем я работаю, понимаешь? — он посмотрел на нее таким нежным взглядом, что Инна чуть не заплакала; она максимально сильно сжала пальцы на бедре, пытаясь сконцентрироваться на боли. Жан продолжал: — Они просто модели, красивые пустышки, с которыми можно переспать, но не более того. — Переспать?.. — Да. Вот та новенькая — вроде совсем не примечательная, я бы даже красивой ее не смог назвать, но черт, какая же она буйная в постели... После нее просто лежишь, куришь и... Ну как бы все, ничего больше и не нужно от жизни, как будто достиг заветной верхушки
горы и больше не к чему стремиться, нечего покорять... И ты понимаешь, что лучше уже не будет. Раздался неестественно громкий треск и лицо Инны исказила боль, перемешанная с кипящей ненавистью; она даже не посмотрела на свой сломанный ноготь, оставляя шокированный взгляд на совершенно безмятежном Жане. — Но ты же сказал, что только флиртуешь? — пропалила она, готовясь разодрать на лоскуты мяса его ненавистное лицо. — Ну да, — невозмутимо подтвердил Жан. — И секс для тебя — это тоже флирт? — Инна стервенела от этой циничной, неприкрытой наглости с его стороны. — Какой секс? — Ты только что, блять, во всех красках мне описал, как тебе хорошо с новой моделью. — Чего? — Жан расплылся в искренне невинной улыбке. — Я вообще сейчас ничего не говорил, ты о чем? Инн, с тобой все в порядке? Ее сердце бешено колотилось; Жан, ласково положив руку на ее плечо, проговорил: — Тебе нужно отдохнуть, а то у тебя от переутомления уже крыша едет. Она молча кивнула, скользя отвлеченным взглядом по приборной панели. Она действительно очень устала за последнее время; постоянный стресс в непрекращающейся гонке наслаивающихся друг на друга событий мог извести кого угодно. Инна закрыла глаза. Нужно было просто остановиться на мгновение и, глубоко вдохнув, попытаться расслабиться, сбавить натяжение мышц и перестать плодить бесконечную вереницу мыслей в голове. Внезапно почувствовав, что они будто бы остановились, Инна открыла глаза и, подтвердив свое чувство, вопросительно повернулась к Жану, где заметила одну в общем–то неважную, но страшно встревожившую ее деталь: за его ухом не было сигареты. Г-н Никто откинулся на спинку кресла и скрестил пальцы на груди. Инна взяла со стола свою пачку сигарет и, заглянув в ее пустое нутро, досадливо смяла ее и отбросила куда–то в темноту: — Твою мать, как же хочется закурить, — устало произнесла она. — Когда начинаешь такой разговор, блин, ну его просто нельзя составить без сигаретки в зубах, потому что... Надо же как–то гасить стресс, иначе спятить можно; я что, виновата в том, что у меня расшатанная психика? — стервозно усмехнулась Инна, принимая сигарету от ниоткуда возникшего Посредника. — Как говорится — виновато общество. Почему именно все общество сразу? Да потому что переходить на личности — это плохой тон. Боже, как же это все смешно и иронично, вы просто себе не представляете. Сделав несколько длительных затяжек, Инна продолжила: — Я с этой стервой первый раз пересеклась в особняке Андрея во время ежегодной встречи. Знаете, как бывает: только посмотришь на человека, так, необязательно даже пристально и вдумчиво, а просто, как бы мимоходом, и сразу понимаешь, что он из себя представляет. Не знаю, может это подсознательная чушь — типа, торкает на основании каких–то связок внешности и моделей поведения, известных тебе на предшествовавшем опыте, а может у некоторых людей на лицах действительно написана их природа... Так или
иначе, я сразу поняла, что она еще та сука — и впоследствии не ошиблась. Еще даже не знала толком никого, а уже нацелилась на основу, глазки начала строить, — Инна презрительно усмехнулась. — Как же мне хотелось тогда взять со стола какой–нибудь бокал или лучше даже бутылку и размозжить ее тупую черепушку, вскрыть, как сраную консервную банку... Никогда, должна признаться — никогда я еще не чувствовала такой сильной неприязни к кому–либо. В модельном бизнесе много всяких людей, да, бывают и плохие, и хорошие, но она... У меня даже язык не поворачивается назвать ее человеком. Она — это отребье в самом прямом значении этого слова. Инна захлопнула дверь своей квартиры и, кинув на тумбочку ключи, не включая свет разделась. Ее желудок сводило от голода, но она даже не заглянула на кухню, прекрасно понимая, что в подобное позднее время позволительно было съесть разве что какой–нибудь фрукт, который только обернется дополнительным маслом в кострище голода; выплыв из мрака коридора в гостиную, чуть освещенную томным ночным светом из окон, Инна устало завалилась на диван. Неизбежные мысли о еде подвели ее к вопросу о том, по какой именно причине она действительно не могла сейчас встать и поесть, почему она обязана была постоянно себя в чем–то ограничивать и ради чего вообще это делала — только ли ради того, чтобы поддерживать свой статус «коммерческого проекта», который принято называть красивым словом «модель»? Очевидный ответ, лежавший на самой поверхности измышлений, оказывался неверным; нет, не было ничего страшного в том, чтобы сытно наесться полезной пищи перед сном, да и даже фастфуд в единичном случае не испортил бы ей карьеру — дело было не в долге перед своей профессией, но в совокупности психических расстройств, которые элементарно не позволяли ей этого сделать. Вживленное в сознание табу строго контролировало ее действия и наказывало, если они шли вразрез установленным нормам: съела что–то лишнее — получай самобичевание, страдания и в крайних случаях даже приступы депрессии. Вообще, по правде говоря, если нечто в принципе не соответствовало установленным рамкам ожиданий, то оно вставало в контры с идеалами Инны и вызывало в душе смуту, а ведь «реальное», как известно, крайне редко совпадает с «желанным»; поэтому она жила едва ли не в постоянном напряжении, вызываемым бурлящим «первозданным бульоном» внутри, хаосом из противостояния трех психологических сущностей, которые крайне редко находили между собой компромисс. Это ужасно утомляло и изводило — когда она возвращалась домой, ей обычно не хватало даже сил выплакаться в душе. Хотя, конечно, порой она вопила — и вопила так, что срывала свой голос в звукоизоляционных стенах ванной. Она готова была прямо так и уснуть на диване, но не могла этого сделать, не произведя ряд гигиенических процедур — неисполнение которых точно так же входило под разряд табу — и потому, устало подтянувшись за спинку дивана, Инна приподнялась и застыла в испуге, разглядев в кресле перед собой темный силуэт человека. Сердце невыносимо долбило изнутри. От ужаса она не могла вздохнуть; мужчина чуть подался вперед, чтобы свет из окна пролился на его лицо, и Инна разглядела в нем Сергея, имевшего, однако, множество черт, присущих Г-ну Никто. — Твой испуг смешон, — мягко проговорил он, откидываясь в кресле. — Ты думаешь, что видишь меня впервые, хотя я тот, с кем ты прожила почти три года. Объяснить тебе, как это вышло? Или ты сама все расскажешь? Грудь Инны вздымалась в неровном дыхании; она потуплено смотрела на него, не имея сил произнести ни единого слова. Ей казалось, что еще немного — и она отключится от полного изнеможения.
— Ну да, ты ведь слишком гордая, чтобы себе в этом признаться. Мы оба прекрасно понимаем, что произошло. Когда мы с тобой расстались из–за... Моего предательства, твоя психика не смогла совладать со стрессом и обратилась за помощью к совершенно примитивному расщеплению эго, превратив меня в твоих глазах в исключительного монстра. Но это ведь не так, Инн, — он медленно поднялся с кресла и подошел к окну. — Недавно ко мне приходил Сатана — как персонификация моих душевных мук — и сказал: Бога нет, есть лишь прощение. Разве это не прекрасно?.. — Как ты сюда попал? — прошептала Инна, готовясь в любой момент при необходимости сорваться со своего места; она бы побежала на кухню, взяла первый попавшийся нож и, когда Сергей бы вбежал за ней следом, вонзила бы нож ему в грудь, возбуждаясь от скрежета металла о его ребра. — Знаешь, я ведь тоже не люблю включать свет, — говорил Сергей, не отходя от окна. — Когда я возвращаюсь домой, я обычно первым делом иду на кухню, где делаю себе парочку крепких отверток, затем перехожу в гостиную, надеваю наушники, включаю звуки самолета — потому что они идеально глубоки и как бы удалены, ненавязчивы — и, закрыв глаза, представляю себя плавающим подо льдом в океанах Европы, спутника Юпитера. Обычно меня это очень расслабляет, но в последний раз... Из темных глубин выплыло нечто и... Я понял тогда: что–то не так. Что–то где–то не так. Поэтому я здесь. — Не у меня... — выдохнула Инна, крутя головой. Сергей повернулся к ней: — А ты представь себя в океане Европы. Свободно ли ты плаваешь, ничего не опасаясь, как в собственной ванной, или же там есть кто–то еще? Инна почувствовала ледяное прикосновение на своей спине и, резко вскочив с дивана, вынырнула из–под воды; она обнаружила себя в тесной ванной комнате, принадлежавшей, судя по знакомой нежно–кремовой плитке, Жану. Откашлявшись, она вылезала из ванной и, с трудом взаимодействуя со своими полуонемевшими конечностями, плотно замоталась в полотенце. Ее тело содрогалось в ознобе. Инна открыла дверь, выходившую прямиком на кухню, и тут же пересеклась взглядом с одетым по–вечернему в пижаму Жаном. Он безмятежно готовил яичницу, попутно переписываясь с кем–то в Facebook под однообразную инди музыку. — Ты там не утонула случайно? — усмехнулся Жан. — Я, кажется, там уснула, — неуверенно проговорила Инна, садясь на высокий табурет рядом с ним. Голова нещадно болела. — Ты серьезно? — У тебя есть что–нибудь от головы? — В духовном или физическом плане? — Дай мне просто какие–нибудь таблетки, — раздраженно пробурчала Инна. Жан, аффектно вздернув в капитуляции руки, танцуя подошел к одному из подвесных шкафчиков и вытащил оттуда обезболивающее. — Мощная штука, — сказал он, бросая пачку на стол перед Инной. — Без рецепта не достанешь. — Ты меня на наркотики подсадить хочешь? — спросила Инна, выдавливая таблетку. — А разве я — не главный твой наркотик?
— Я не в настроении, — отрезала она, обрывая дальнейшее фиглярство Жана. — Если что, то я уже извинился перед Андреем за тебя, хотя, конечно, ему будет приятно, если ты позвонишь и сама извинишься, но это совершенно необязательно. Он сказал, что все прекрасно понимает, а еще сказал, чтобы ты хорошенько выспалась перед завтрашней промо–фотосессией. Мы ведь скоро идем на подиум, ты не забыла? — Уже?.. — удивилась она. — Все так быстро идет... Я просто не успеваю за всем уследить. — В этом твоя ошибка, — сказал Жан, указав на Инну жирной лопаткой. — Ты пытаешься за всем уследить, но разве следит за каждой каплей серфер, когда дрейфует на волнах? Просто позволь им идти, не следи за ними и не контролируй — суть в балансе, а не в управлении. — В таком случае я уже давно должна была потерять баланс и захлебнуться. — Что ты и сделала, — Жан вывалил бесформенную груду яичницы на тарелку. — Ты все еще спишь, Инна. Проснись. Она вновь пробудилась в ванной, только в этот раз лежа оголенной на ледяном, мокром кафеле. Голова гудела как после сильного удара — скорее всего, она действительно ударилась, когда в бессознательном состоянии выпала из душевой кабинки. Приподнявшись, Инна сдернула со стены полотенце и, сжимая левой рукой голову, кое–как встала на ноги. Она не помнила, ровным счетом, ничего из последних событий. Было ли сегодня, вчера или завтра — она наверняка не знала; из несообразной каши в голове ничего невозможно было вывести. Выключив хлеставшую воду в кабинке, она протерла зеркало и осмотрела свою голову: справа на лбу виднелась пускай и небольшая, но все–таки заметная гематома. От безнадежного отчаяния голова разболелась, казалось, еще больше; выкрикнув ругательство, Инна, скуля сквозь зубы, дошла до кухни и достала из аптечки мазь от гематом. Она знала, что это ей не особо поможет — на исправление изъяна уйдет несколько дней, если не неделя — и потому, замазывая толстым слоем шишку, хотела просто в одночасье провалиться под землю и исчезнуть. Конечно, в студии можно было все исправить, отретушировать и замазать, но что делать, когда она выйдет на подиум? Проклиная весь мир, Инна почистила зубы, приняла снотворное и легла спать, укутавшись в холодные и безразличные ко всему одеяла, которые никому и никогда в действительности не принадлежали. И ей хотелось бы думать, что она была точно такой же. — Нас почти сразу свели вместе, — говорила Инна Г-н Никто. — Не Еву или Алину поставили, хотя они более органично бы вписывались, особенно Ева со своими густыми бровями, в которых так четко проглядывается нечто дикое и необузданное... Но поставили именно меня. Не знаю, почему. Может Андрей посчитал, что мы с ней сойдемся? Я поначалу сопротивлялась, говорила и Андрею, и Жану, что я рядом с ней на странице не появлюсь ни за какие деньги, я правда пыталась это предотвратить... А они оба не понимали, в чем дело. «Да что с тобой? Лиза же такая зайка» — вот так мне говорили. Ее Лизой зовут, кстати. Блин, даже в самом ее имени есть нечто мерзкое такое, приторно–кичливое, а может у меня просто неправильные ассоциации, знаете, ну, от классиков пошли... Да и не важно, в общем–то. Мне сказали: «Ты будешь с ней стоять и это не обсуждается». Ну и бог с ней, решила я, переживу; но когда пришла в студию и увидела ее лицо, меня, блять, сразу в холод бросило... Инна поднималась по узкому, мрачному лестничному пролету, крепко сжимая рукой деревянные перила. Напряжение, несмотря на принятую порцию транквилизаторов,
ворошило и скручивало внутренности; ей хотелось поскорее покончить с фотосессией и забыть ее как страшный сон, но в то же время ее сдерживал страх, перемешанный с отвращением. Ей было тошно только от одной мысли о том, что она увидит лицо Лизы когда откроет дверь, а если там будет больше, если она застанет Лизу вместе с Жаном... Она остолбенела, отрешенно всматриваясь в потрескавшиеся рамы грязных окон. Еще один этаж, а там уже нежно–кремовая, телесного оттенка дверь, за которой могло находиться что угодно или же вообще ничего. Она на удивление отчетливо, даже более отчетливо, чем в реальности, представляла перед собой эту дверь, и то, как она неуверенно протягивается к ручке, а затем резко — как будто сдавливая крючок — опускает ее вниз... — Она же сумасшедшая! Бредит о похороненной сестре!.. — воскликнул малознакомый женский голос. Полностью открыв дверь, Инна увидела теснившуюся за кухонным столом группу людей; они выпивали, по всей видимости, вино, заедая его скудными яствами из хлебов, старых фруктов и отечественных сыров. — Пойдем, пойдем, — говорил Сергей, одетый в черную рясу священника. — Отец мой, ради Бога, оставь меня! — воскликнул Жан, одернув руку. — Спаси тебя Господь! Прости, сын мой. И он вышел из помещения, удосужив Инну лишь беглым, незаинтересованным взглядом. Жан так и остался стоять, погруженный в глубокую задумчивость, в то время как остальные как ни в чем не бывало продолжали пировать; в какой–то момент он перевел свой неспокойный взгляд на Инну, после чего она очнулась перед закрытой дверью телесного оттенка. Ее одолевал какой–то детский страх, словно она стояла ночью перед дверьми в родительскую комнату; она не могла уйти назад, потому что там, в темноте коридора находилось нечто ужасное, но и войти она тоже не могла, боясь, что помешает родителям или разбудит их. Так она стояла в напряжении между молотом и наковальней, и напряжение, по мере приближения молота к наковальне, возрастало все больше и больше, как будто нутро Инны сжималось под двухсторонним давлением стали. Она уже, казалось, начинала трещать по швам, когда собралась наконец с духом и дернула за ручку — однако дверь не открылась. Воспалено подергав ее еще несколько раз, Инна ударила кулаком по двери и, ругаясь про себя, сделала несколько шагов назад. Никакого отклика не последовало; тогда она, достав телефон, дрожащими пальцами набрала номер Жана. — Где ты, мать твою? — чуть ли не прокричала Инна. Ее лихорадило. «Что? В каком смысле?» — В каком смысле? Это ты у меня спрашиваешь? Я пришла в студию, а тебя там нет! «Ну да. Сегодня же выходной, ты чего?» Повесив трубку, Инна закричала от отчаяния и буквально слетела с лестницы вниз, на первый этаж. Заныл ушиб на лбу; выбравшись из здания, она первым делом взяла немного снега со спинки скамейки и приложила к гематоме. Она не знала, что ей делать. На улице не было ни единой машины, ни единого человека, ни единого окна — только грязный снег, отрешение и холод. Сзади кто–то ее одернул; Инна повернулась и увидела перед собой дрожавшую в треморе старушку, впивавшуюся в нее безумным взглядом. — Как–то раз я стояла в очереди супермаркета, — говорила старушка, не спуская широкой, морщинистой улыбки со своего дряхлого лица. Ее глаза были неестественно широко раскрыты. — Передо мной стояли еще пять человек. Покупали разные вещи. А потом вдруг один из них достал пистолет и наставил его на продавщицу. Продавщица
молоденькая, красивая. Доставай деньги, сука! — брызжа слюной, прокричала старушка. — Она достала и отдала ему все, что было в кассе. Никто не пытался помешать. Затем он попросил пробить его продукты, а потом оплатил их этими деньгами. Не всеми, частью. И еще попросил мешок. Обычный такой, за семь рублей. Сложил в него продукты и ушел. Все стоят в шоке, боятся шелохнуться. — А на кассе лежит нетронутая сдача, — шептала она, сотрясаясь в припадке. — И никто, слышишь, никто не знает, чья она! Никто! Закончив монолог, пожилая женщина направилась в сторону перехода, сотрясаясь и повторяя про себя: «никто, никто...». Инна же не двигалась с места, пытаясь совладать с тревожным чувством, вызванным в ней этой бессмысленной, на первый взгляд, историей. Эта сдача — которая не принадлежала вору, поскольку тот расплатился украденными средствами, и однако же не принадлежала и магазину, поскольку являлась сдачей от покупки — эта сдача тяжелым осадком обосновалась в ее душе, напрягая и не без того пребывавшую в натянутом состоянии психику; вся вселенная остановилась в ожидании разрешения вопроса, и Инна боялась даже моргнуть, а может — просто не могла. — После нашей первой встречи мне стали часто — ну раз в неделю это точно — сниться сны, в которых я умираю, — говорила она Г-ну Никто. — Жуткая вещь. И главное — невозможно предугадать, нет никаких предпосылок, вроде бы обычный сон, а потом... Это и неудивительно, впрочем. Сергей как–то раз мне говорил, что человеческая психика воздействует на моделирование сна таким образом, чтобы вероятность пробудить носителя сводилась к наименьшим значениям. Но черт возьми, лучше бы я вообще не спала, чем вот с таким дерьмом в голове... Один из них был особенно примечателен, я очень хорошо его запомнила. Я что–то делала в своей комнате, убиралась вроде бы, потом вышла в коридор и у меня вдруг закружилась голова. Такое со мной иногда бывает — ну, знаете, резко там встанете и из–за плохого кровообращения случится кратковременный обморок. Вот и тут так же. Вестибулярный аппарат отказывает, искры в глазах быстро перетекают в помутнение, а помутнение — в полную слепоту. И вот я лежу на полу в ясном сознании, но полностью парализованная, и почему–то осознаю, что умираю и мне еще предстоит долго лежать в ожидании пока наступит смерть мозга, впитывая весь страх и отчаяние... Наверное, я так в жизни еще никогда не пугалась. Потом проснулась, а у меня чуть ли не все конечности затекли до онемения — я как–то так лежала, ну совсем неестественным образом, и это, скорее всего, проецировалось в сон в качестве «внутреннего раздражителя». Так мне потом Сергей сказал. Важно, правда, не это. Просто сама природа этих снов... Она как бы намекала мне своим символизмом, что нечто во мне погибало. Я и сама это чувствовала, да. Но я не знала тогда, ждет ли меня перерождение или же падение, угасание без последующего восстановления... Инна завороженно наблюдала за мутной струей кофе, бившейся из утробы кофе машины. Она снова сидела в кафе вместе с Сергеем, только на этот раз инициатором встречи выступила она сама — в последнее время с ней происходило что–то странное, и ей нужен был человек, на изменении восприятия которого она могла бы прослеживать изменения в самой себе. — Мне кажется, что ты злоупотребляешь снотворным. В этот раз ты отделалась ушибом, но ведь все могло закончится куда плачевнее... Только честно: ты не превышаешь нормы, установленной мной? — Нет, — сказала Инна, отведя взгляд от кофе машины. — Тогда может быть мешаешь снотворное с другими препаратами?
— С антидепрессантами... Но я и раньше так делала. Я думаю, что это от переутомления. — Переутомления? — добродушно усмехнулся Сергей. — Я очень устаю из–за стресса, не знаю, что со мной... Постоянно в напряжении, даже таблетки не помогают. Еще иногда и панические атаки случаются, что ли. И я не помню, когда последний раз просыпалась не в поту. — Мучают кошмары? — Иногда. Но даже и без них... Я стою на месте, понимаешь, и разрываюсь отчего– то. Отчего? — задалась риторическим вопросом Инна, обращенным больше не к Сергею, а к самой себе. — Вообще все как–то не так. Что–то происходит, а я не знаю что, и это, наверное, меня и убивает. Хотя я и не думаю, что узнав, мне станет легче. — Это серьезнее, чем ты думаешь, — произнес Сергей, озабоченно всматриваясь в глаза Инны. Она смотрела в ответ, и смотрела как–то более мягко, нежели раньше. — Я ничего не думаю. — Ваш кофе, — оповестила официантка, поставив чашки на стол. Улыбаясь, Инна благодарно кивнула ей и сделала один обжигающий глоток. Сергей все так же озабоченно смотрел на нее; она же в это время попыталась представить, как резко вскакивает и разбивает кружку об его лицо. В этот раз, однако, это ей не принесло никакого удовольствия. — Надо скорректировать курс приема лекарств. Что–то идет не так. — Действительно, — вздохнула Инна, — действительно что–то идет не так. В прошлый раз, когда мы вот также сидели, я думала о том, как замечательно было бы тебя убить, — призналась она. — Я даже все представила в таких сочных красках... В тот момент мир в моем воображении снова обрел смысл, снова чем–то наполнился. А сейчас... А сейчас ты мне просто, кажется, безразличен. Как будто серый мазок краски на холсте. Всматриваюсь в тебя и ничего не чувствую — разве что, может, болезненную тоску внутри, но я не уверена, что она проистекает от тебя. — Если ты так ненавидела меня, почему всегда соглашалась на встречи? — Потому что я ненавидела не тебя, я ненавидела то, что воспринимала под тобой. — И на подсознательном уровне чувствовала эмпатию, что, достигнув определенной черты, оборачивалась в беспочвенную агрессию, которую ты направляла на меня; сейчас же, вследствие осознания и принятия первоначальных причин, эмпатия не была трансформирована в агрессию, а наоборот, прочувствована и растворена в обычное состояние комфорта. Ты ведь чувствуешь комфорт? — Да, наверное, — задумчиво кивнула Инна. — Я чувствую спокойствие впервые за долгое время. — Именно, — подтвердил свою же правоту Сергей. — А тоска — это естественный побочный эффект, который со временем должен пройти. — Хотелось бы верить. — По телефону ты сказала, что хочешь что–то обсудить... — Да, — подхватила Инна. — Мне нужно, чтобы ты помог мне понять один сон... Я помню, что ты больше любишь работать с бумагой, так что я записала его как только
проснулась. Вот... — она протянула Сергею аккуратно сложенный лист бумаги. Он развернул его и, внимательно прочитав, спросил: — Ты заглядываешь внутрь и на этом сон обрывается, да? — В каком смысле? — Ну, «Незнакомец произносит: — загляни внутрь», а дальше — ничего. Значит после этого ты проснулась? — Я... Я не понимаю. Дай мне листок, — смутившись, попросила Инна. Сергей отдал ей листок и она сама прочитала: «...Первым делом цепляет пасть в животе, являющаяся связующим звеном между тем, что находится внутри существа, и внешним миром; в пасти можно заметить клубящийся мрак, который, сливаясь с окровавленными клыками, напоминает дополнительные челюсти — это отсылает к акульей «неизбежной» пасти, и в то же время к глубине, таинственной бездне внутри него. При этом сама пасть не является полностью негативной и отталкивающей — ее тонкие, довольно изящные губы располагают к себе, наверное, ассоциируясь на подсознательном уровне с некоторой женственностью. Далее — глаза. Если глаза на лице зияют белой бездной (кстати, теперь заметила, что за клубящимся мраком или же его нутром как таковым вообще находятся белые оттенки), являя трансцендентную пустоту, некоторую... божественную сущность, не доступную к познанию, то на груди — расстройство, голод, страсть; один глаз устало возвышается кверху, подтверждая «его божественность», другой устремляется на наблюдателя в пассивно–агрессивном виде. Руки со множеством пальцев вызывают отвращение, напоминая гусениц и отсылая не столько к чему–то неестественному, сколько к животному; к ним же относятся удлинённые, оттопыренные уши. Сзади него витают треугольники, и символика треугольников может быть настолько всеобъемлющая, что сложно сказать, какое именно значение они имеют, но первым делом всплывает мысль, опять же, касающаяся чего–то божественного, может — лоно космоса, что–то абсолютное, и с этим абсолютом существо имеет связь, которая обозначена волнами, исходящими из его головы. Оно сидит передо мной, мы находимся в моей гостиной. Справа — еще некто незнакомый, хотя, может, я просто не могла разглядеть его лицо, которое было как будто... расплывчатое такое, эфемерное — почти как туман. Существо на меня не смотрит, оно, кажется, вообще абстрагировано. Мы сидим так какое–то время, затем незнакомец говорит ломаным, неестественным голосом: — Он не злой. Ему скучно. После чего наступает затяжное молчание. Я чувствую горячее дыхание этого существа, оно как расслабленная собака — сидит, смотрит в никуда и тяжело дышит. — У него нет имени, ведь он никогда не рождался. То, что существует всегда, не рождается. Оно просто есть. Я вроде бы хочу что–то сказать, но не говорю, словно голосовые связки мне не подчиняются. Незнакомец произносит: — Загляни внутрь.» — Я этого не писала! — воскликнула она. — Но почерк все же твой, если не ошибаюсь, — заметил Сергей.
Инна задумчиво кивнула, мечась глазами между строк в отчаянных попытках вспомнить, когда она это записала. Однако она даже не помнила, чтобы ей вообще когда– либо подобное приходило в голову; это был не ее стиль и не ее мысли, но если не она это написала — то кто?.. — Мистика какая–то, — призналась Инна, отложив листок в сторону. — Я не знаю, что это, но это точно не то, что я хотела тебе показать. — Может тогда расскажешь? — спросил Сергей, включая диктофон на своем телефоне. — Я только обрывками помню. Мы с тобой сидели в гостиной, ты сначала говорил мне что–то про расщепление эго... А потом сказал, что любишь представлять себя плавающим подо льдами Европы, типа тебя это успокаивает. И всегда все было в порядке, но в этот раз из глубин выплыло нечто, и ты понял: что–то не так. Я в ответ сказала, что это меня не касается или вроде того, а ты... Ты сказал, чтобы я сама представила себя подо льдами. Потом я проснулась. — Интересный сон. А что именно я говорил про расщепление эго? — Не помню. Я даже таких понятий–то и не знаю. — Ладно. Если вдруг что–то вспомнишь еще — пиши. И этот сон, — Сергей взял тот таинственный листок, — я тоже проанализирую. С твоего позволения, конечно. — Да, хорошо. Дай знать, когда закончишь. Мне кажется, что где–то там сокрыто нечто важное. — Это неизбежно, — улыбнулся Сергей, поднимаясь со своего места. — Если это все, то я, пожалуй, пойду, а то еще много работы. Спасибо за кофе. Он оставил деньги на столе и исчез в дверях. Инна не стала провожать его взглядом; она задумчиво покосилась на складки кожаного диванчика и, глотая свой полуостывший кофе, воспроизвела в голове слова Сергея: «эмпатия не была трансформирована в агрессию, а наоборот, прочувствована и растворена в обычное состояние комфорта...». Затем она с громким звоном уместила чашку на белоснежном блюдце и хотела уже было пойти, как вдруг в кафе зашел Андрей вместе с Лизой, оставляя Инну намертво прикованной к дивану. Они заняли столик недалеко от дверей и вышло так, что Лиза села прямо напротив Инны, из–за чего сама Инна инстинктивно придвинулась к окну и стушевалась в телефоне. Она была практически уверена в том, что Лиза ее заметила. Впиваясь глазами в ленту социальной сети, Инна сгорала изнутри от растерянности и конфуза. — Вам еще подлить кофе? — спросила будто бы специально подкравшаяся сзади официантка. Инна робко посмотрела на нее и отрицательно покрутила головой — она боялась произнести любой лишний звук. Андрей в этот момент заливисто над чем–то рассмеялся. — У вас тут есть черный выход? — неожиданно даже для себя прошептала Инна. — Есть, но он только для персонала... — Мне необходимо. Просто тут... Я не хочу, чтобы меня кое–кто здесь видел. — Ну... — затянула официантка, вглядываясь во встревоженное лицо клиентки. Она немного поломалась, после чего неуверенно сказала «подойдите к стойке через несколько минут». Как только она отошла, Инна вновь вернулась к телефону, стараясь при этом
выглядеть максимально беспристрастно и постно. Остывший кофе отдавал кислотой. Андрей снова над чем–то рассмеялся, заставив Инну поперхнуться; склонившись практически в упор к столу, она приглушенно откашлялась и, выдержав некоторую паузу, резко поднялась с места. Лиза, казалось, смотрела в упор на нее, по крайней мере Инна чувствовала на себе чужой пристальный взгляд, однако не осмеливалась повернуться и посмотреть в ответ; склонившись над телефоном — так, чтобы пряди максимально закрывали ее лицо — она дошла до стойки. Официантка подозвала ее ладонью и они вместе вышли на небольшую кухню. — Деньги я оставила на столе, — сказала Инна, проходя между забитых посудой и другой кухонной утварью железных столов. — Но я ведь вам даже чек не выдала, — заметила официантка. — Двести сорок за кофе и еще чуть больше вам на чай. Дверь на складское помещение заела. Инна с минуту стояла в ожидании, вслушиваясь в шкворчание котлет; когда дверь наконец поддалась, они вышли в тесный склад и, миновав коробки, дошли до выхода. Поблагодарив официантку, Инна выбралась в какой–то узкий двор, где возле мусорных баков на фоне облупившихся желтых чахоточных стен копался одетый в роскошную шубу бомж. Дверь за ней сразу же захлопнулась. — Играет агрессивная музыка, — бубнил про себя бомж своим низким голосом, — все вокруг плывет как в тошноте, а ей некуда деться, она в ловушке среди дыма, людей, жары, звуков, прожекторов и алкоголя... На столе в вазе — неоновая голубая роза, она смотрит на нее и ощущает дежавю. В этот момент случается разговор. А потом, а потом она просто оборачивается и... Г-н Никто слега склоняет голову вправо. Инна зажигает новую сигарету. — Так вот, знала она, короче, к кому надо подкатывать и как это делать. Андрей, в общем–то, нормальный мужчина, он не такой, чтобы... Ну, вы понимаете. По крайней мере я за ним этого не замечала. А тут, грубо говоря на следующий день... На это, в целом, мне было насрать, хотя, конечно, и бесило, что она вот таким путем добивается его расположения. Но основная проблема была в другом: я ведь знала, что рано или поздно она переметнется на Жана. Ну блин, это было очевидно. Он мне говорил, что все в порядке, что он не такой... Они, блять, все сначала не такие, а потом вдруг — хоп, вспышка, и они уже другие. Тем более она знала — это точно, я прямо-таки чувствовала — что я ее презираю всей душой, и хотела мне поднасрать. Так, чисто для удовольствия. Мне вообще порой казалось, что она все делала только с целью мне испортить жизнь. Зачем? Хрен ее знает. Возникла из неоткуда, чтобы затянуть меня в никуда... Не в том плане, что она ненавидела меня или типа того, просто... Знаете, бывает такие люди, типа психопатов, у которых напрочь атрофировано чувство морали, и они могут творить всякую такую херню просто ради собственного удовольствия. Они не чувствуют вины, даже не знают, что это такое. А как еще это все можно было объяснить? Личные причины? — Инна усмехнулась. — Да она даже моего имени–то не знала. Жан открыл перед Инной стеклянную дверь и она вошла внутрь салона, где принялась тщательно отряхивать свои сапоги на черном коврике из полипропилена. После нее вошел и сам Жан; его уложенные волосы слегка растрепались и потеряли форму из–за снега, а капли воды, стекавшие с челки, оставляли на лбу неприятные липкие следы, однако несмотря на это он выглядел как–то весело и в целом пребывал в приподнятом настроении.
— Меня, кстати, сегодня звала Лиза встретиться, — говорил он, снимая измокшее пальто. — Позвонила утром, спросила, не хочу ли я с ней выпить кофе. — А ты что? — как бы безразлично спросила Инна, скрывая свое внутреннее негодование. Она знала, она была готова к тому, что Лиза не оставит в покое и его, и все же услышав об этом от Жана она ощутила горькое возмущение, перемешанное с легкими воспаленным нотками бешенства. — А я сказал: извини, но этот день посвящен Инне. Она не сильно огорчилась, типа, ну ладно, тогда в другой раз, — ответил Жан и, заметив тени гнева на лице Инны, попытался реабилитироваться: — Да брось, что такого в том, чтобы выпить со своей моделью кофе? — Она не твоя модель, — отрезала Инна, вешая парку в шкаф. — Моя фотомодель, — поправил себя Жан. — Что ты так скалишься от пустяков? — Потому что я вчера видела, как эта сука обедала с Андреем. — Добрый день, — окликнула Инну девушка на ресепшене. Инна повернулась к ней, моментально сменяя раздражение маской приветливости: — Добрый. Мне назначено на пять к Екатерине. — Хорошо, подождите пока на диванчике. — Так, после наших разговоров мне захотелось кофе, — сказал Жан, когда Инна села на один из молочных кожаных диванов. — Пойду прогуляюсь до кофейни, я где–то здесь видел неподалеку... Тебе взять стаканчик? — Не надо. Когда Жан ушел, Инна непроизвольно взяла один из журналов со стеклянного столика и открыв его, на первых же страницах увидела Лизу, вульгарно позировавшую в кружевном нижнем белье; она стала остервенело его перелистывать и на каждой странице видела Лизу, даже на промежуточных рекламных страницах парфюма или косметики — везде, абсолютно везде была она. Инна с ужасом отбросила журнал, вжимаясь в кресло так, словно она вот–вот готовилась провалиться в него. Знакомая женщина, сидевшая с таким же журналом напротив, несколько ехидно улыбнулась: — А знаешь ради чего все это делается, дорогуша? Большинство людей боится в этом признаться, а некоторые боятся настолько, что даже начинают отрицать. Я тоже не признавалась себе в этом, пока однажды не встретила в баре девушку, которая сказала мне следующее: «Я — нимфоманка и почти все свое свободное время я уделяю тщетным попыткам удовлетворить свои патологические сексуальные потребности. Знаешь, Сартр однажды писал, что у каждого в душе есть бездна размером с Бога — так вот она у меня находится не в душе, а в моей бесконечно голодной матке». Так вот знаешь, в чем отличие между этой нимфоманкой и тобой или мной? В том, что она не способна удовлетворить свой голод. — Инна? — улыбчиво позвала Екатерина, подойдя к ресепшену. — Пойдем наводить красоту. Рутинная перерисовка автопортрета перед зеркалом в салоне красоты превращалась в приятную процедуру, не требовавшую никаких действий — Инна могла просто сидеть в удобном кресле и смотреть в телефон, в то время как на ее лице посредством чужих профессиональных рук создавалась красота и даже более — творилось настоящее
постмодернистское искусство. Кератиновое выпрямление волос, чтобы избавиться наконец от утюжка, что наподобие гриля зажаривал волосы, легкий повседневный макияж, замена накладных ногтей и маникюр... Если по утрам она вставала с нежной неясностью в лице, будто бы только из–под пера Клода Моне, то уже днем она ходила в образе Люсьена Фрейда — хотя, впрочем, то было присуще, наверное, всем Петербуржцам — а после посещения салона красоты ее внешность насыщалась благолепностью Крамского. Это придавало ей уверенности в себе, а уверенность делала ее кем–то в своих собственных и чужих глазах. Инна переписывалась с подругами, пока Екатерина снимала макияж с ее лица; в этот момент ей пришло сообщение от Сергея: «Здравствуй. Я пока не успел проанализировать второй, большой сон, который еще на листе, но над первым поработал. В нем я, как ты, наверное, догадалась, являлся продуктом [проективной идентификации], то есть ты навязала мне роль, базирующуюся на своей проекции, чтобы в моем, как бы авторитетном лице (ведь я разбираюсь в психологии) объяснить самой себе [расщепление эго] и тем самым [рационализировать] — а как следствие осознать и пересмотреть — твою неуместную ненависть ко мне. Но самое интересное в другом: «что–то не так» и «нечто из глубин» — это чистейшая [проекция], ты восприняла свои внутренние процессы как происходящие извне. Европа — это ты сама, но что скрывается внутри — я не знаю. Ты сама должна ответить на этот вопрос». После прочтения Инну бросило в дрожь; она закрыла сообщения и положила телефон в ноги, упираясь встревоженным взглядом в пол. Екатерина, закончив снимать макияж, отошла к столику с инструментарием. — Начнем с твоей небольшой гематомы на лбу. Как же ты так, кстати, умудрилась, дорогая? Инна посмотрелась в зеркало и вместо себя увидела в нем Лизу. — У Федора Михайловича Достоевского есть такая повесть, называется «Двойник», — говорила Инна Г-ну Никто, — в общем, там сюжет о том, что у главного персонажа, титулярного советника Голядкина, возникает доппельгангер — паранормальный двойник, олицетворяющий зло и несчастья — и мучает на протяжении всей повести бедного героя. Ну, понятное дело, что не только этот злобный двойник его истязает — это же Достоевский, его персонажи сами себя готовы заистязать до смерти. И дело в том... Я не могу сказать, что мы с Лизой очень похожи по внешности, нет, есть определенные схожи черты, но по большей части она все–таки куда дурнее меня, и однако же... Я вот иногда смотрю на нее, прямо заглядываю в ее глаза и понимаю, что между нами есть что–то даже как бы родственное... Мне сложно это объяснить, я просто это чувствую. И вы не представляете, как меня это, блять, выбешивает. Я ведь ее ненавижу. Хотя, конечно — если она моя своеобразная антитеза, то у нас неизбежно должна быть какая–то связь, понимаете, потому что обе стороны монеты существуют нераздельно друг от друга. Наверное, мне стоило просто попробовать как–нибудь взять и поговорить с ней, так, душа на душу, может быть это могло многое прояснить, но что–то... Что–то определенно всегда удерживало меня на дистанции. Я не боялась к ней подойти — я просто не могла этого сделать. Рука вздымается из воды — и Инна, сделав короткий вдох, вновь погружает голову в хлористую воду и плавно выдыхает, не переставая грести. Сара, ее молоденькая персональная тренерша, выкрикивает, чтобы та держала ноги под водой и ускорялась, и Инна, несмотря на изнеможение, снова и снова находит в себе силы для новых рывков. Доплыв до бортика, она зацепилась за него руками и, вынырнув из воды, принялась тяжело глотать воздух, чувствуя при этом как в ее груди вздымаются голодные легкие. — Нельзя резко останавливаться, двигайся, нужно движение! — закричала Сара.
Оттолкнувшись от бортика, Инна оказалась посреди черного озера, а на том месте, где стояла мгновение назад тренерша, возникла Лиза: — Остановишься — утонешь. Поплывешь — и захлебнешься. В полном замешательстве Инна обернулась назад к бортику, однако вместо него увидела безбрежный океан подлинного ужаса; будто бы захлебываясь, она принялась хватать ртом воздух и, брыкаясь, оглядываться вокруг в поисках спасения. Но спасения было ждать неоткуда — кроме нее и Лизы, стоявшей на отдаленной суше, не осталось никого и ничего. — Твоя проблема в том, что ты считаешь, словно мне есть дело до тебя. Но ты ошибаешься — ты глубоко мне безразлична. Из последних сил она гребла в сторону Лизы, слыша, как под водой гулко бьется ее сердце. Тяжелые от усталости конечности все больше тянуло на дно, и ей приходилось совершать над собой неимоверные усилия, чтобы просто удерживать себя на плаву; в какой– то момент у нее онемела левая ступня и она, потеряв последний контроль, погрузилась под воду, не имея в запасе ни единого глотка воздуха. Откуда–то издали донесся приглушенный голос Лизы: — Тебя тянет на дно твой страх. Захлебываясь, Инна внезапно коснулась ногой дна и, инстинктивно оттолкнувшись от него, всплыла наружу. Вокруг — снова территория бассейна, а на бортике перед ней стояла, скрестив руки, Сара. — На сегодня хватит, а то ты, вижу, совсем запыхалась. Что, неужто набрала в весе? Откашлявшись, Инна выдавила из себя улыбку, затем подтянулась и вылезла из воды; ощущение испуга стягивало ее желудок, но она не помнила о том, что именно ее напугало, словно то был ужасный сон, который выветрился из головы в момент пробуждения и оставил после себя лишь горькое послевкусие. Она вошла в душевую, где большую часть помещения скрывал пар, походивший на густой вечерний туман и, отыскав свободную кабинку, включила воду погорячее в надежде «выпарить» из себя неприятный озноб. Кто–то в отдаленных кабинках напевал знакомый мотив. Инна с закрытыми глазами стояла под горячими струями, вспоминая, как когда–то также принимала открытый душ в саду, наслаждаясь свежим, девственным летним утром. Где–то там вдали неясная фигура Сергея, поют птицы, теплые лучи солнца ласкают кожу... Но что–то не так. Открыв глаза, Инна увидела в кабинке напротив Лизу, чей силуэт до этого, по всей видимости, скрывал пар; она пошло усмехнулась и полезла своей тонкой ручкой к себе под купальник. Инна пристально наблюдала за ней, не в силах по какой–то причине отвести взгляд. Лиза опустила свою ладонь промеж бедер и приступила к мастурбации, извиваясь всем телом и страстно вздыхая. «Да, давай Сара, смотри, открой во мне и второе, и третье дыхание... Да, да... Давай же, Сара... Научи меня плавать... Давай...». Не выдержав, Инна выбежала из душа в раздевалку, где ее чуть не вырвало; вытеревшись полотенцем, она наспех оделась, забрала парку из гардероба и выбралась на улицу. Пройдя по глубоким сугробам, застилавшим пространство между стоянкой и тротуарами, она вышла к светофору и вдавила кнопку переключения света. Затем она вдавила ее еще, и еще, и еще, а потом просто прислонилась к столбу и заплакала, не в силах более сдерживать в себе отчаяние; Инна не могла сказать наверняка, пила ли таблетки ежедневно, строго следуя прописанному курсу, или же практически не пила их вообще, поскольку не помнила этого, но ей все равно казалось, что они только усугубляли ее состояние. Так что, сбросив с плеча сумочку, она отрыла в ней
несколько различных упаковок с таблетками и с неестественным отвращением отбросила их в сторону. Светофор застыл на желтом. — Лет в двенадцать мне стали сниться поля выжженной травы, — говорила Инна Гну Никто. — Просто поля, ветер немного покачивает жесткую, как расческа, черную траву, и я смотрю на все это под разными ракурсами: со светло–серого неба, с уровня травы, под углами. Иногда я слышала ветер, но чаще всего звука просто не было. В самом сне страшно не было, по крайней мере мне так казалось, но когда я просыпалась — ужас настолько захлестывал меня, что я могла реветь и орать половину ночи. Серьезно. Я не знаю, что это было. Однажды все дошло до бессонницы длинной в четыре дня, после чего меня отвели в больницу. Выписали нейролептики. Снились они обычно раза 3–4 в неделю, какими–то периодами в году, обычно во время депрессии. Когда я была на этих полях во снах... — Инна покрутила головой, зажигая при этом сигарету во рту. — У меня было стойкое ощущение, будто бы кроме них больше ничего не осталось в этом мире. Иногда я чувствовала, что стою там и смотрю на все собственными глазами, иногда — что меня там в действительности нет. И черт знает, что из этого страшнее. Как–то потом они сами по себе прекратились, давно еще это было, но... Иногда, когда закрываю глаза, вижу перед собой эти выжженные поля. Меня не охватывает животный ужас, как то было раньше — нет, проявляется не страх, а что–то... — она глубоко затянулась. — Я всегда знала — не спрашивайте почему и откуда — просто знала, что они не полностью ушли. Они были еще там, в моем сознании, и я знала, что когда–нибудь они вернутся, что в один из обычных будних дней я лягу спать и окажусь там снова, одна во всей своей одинокой и душной вселенной. Инна сидела на кухне студии, вытягивая через трубочку «белого русского» и со скукой листая какой–то научный журнал. Жан в это время фотографировал Алину в изящном бархатном черно–красном платье. — Многие считают, что картины Фрэнсиса Бэкона воплощают в себе уродство и болезненность, — говорил Жан между щелчков фотоаппарата. — Но это огромное заблуждение. Его картины ни в коем случае не посвящены уродству или болезням, как и не отображают их в принципе; они, скорее, показывают чувства, эмоции, внутреннюю динамичность, которая бурлит в каждом из нас. Просто проблема в том, что люди начинают изучать его картины с... Довольно сложных для понимания мотивов, но если сперва посмотреть на его триптих «Этюд к автопортрету», где он изобразил в трех холстах самого себя, то сразу все станет ясно. Никакого уродства — простой, человеческий неуют, потерянность, невозможность найти себе место и какое–то внутреннее, необъяснимое томление. А еще эта расплывчатость, смазанность всех черт, создание впечатления, словно перед тобой реальный собеседник, а не застывший увековеченным в чертогах холста персонаж, — Жан остановился, чтобы посмотреть на фотографии, после чего подытожил: — Он был гением со своим собственным видением, только понимали его не все. — Гений со своим видением? — усмехнулась Алина. — Что же он тогда боль изображал через боль? Чего же в этом оригинального? — То есть? Зритель должен смотреть на работу и чувствовать — в идеале, конечно же — те эмоции и чувства, которые закладывал в нее автор. А если художник будет боль выражать не через боль, то зритель почувствует что угодно кроме самой боли. — А я думала, что задача искусства состоит вообще в получении каких–либо ощущений. И неважно, заложенных автором или увиденных исключительно зрителем.
— Несомненно, — подтвердил Жан, — но это скорее основная задача. Далее — передача авторского замысла. Это как... с пирамидой потребностей. «УЧЕНЫЕ ПРЕДЛАГАЮТ НОВУЮ МОДЕЛЬ КОСМИЧЕСКОЙ ПАУТИНЫ Космическая паутина, которая представляет собой распределение материи во Вселенной в максимально крупных масштабах, обычно определялась через распределение галактик. В новом исследовании, проведенном астрономами из Франции, Израиля и с Гавайских островов, был продемонстрирован новейший подход: так, вместо использования данных о положениях галактик, исследователи решили нанести на карту движение тысяч галактик. Поскольку эти галактики движутся под действием гравитации в сторону гравитационных аттрактов и «избегают» космических пустот, то данное движение галактик позволило команде исследователей определить области с более плотной материей в скоплениях галактик и филаментах, а также области с разреженной материей, которые зовутся пустотами...» — Вот! — воскликнул Жан, выхватив из–под ладони Инны открытый журнал. Подойдя к Алине, он указал на отталкивающую иллюстрацию «новой модели космической паутины», походившую на бесформенное скопление внутренностей. — Вот о чем я говорю; кто–то посмотрит и покорчится в отвращении, а кто–то, как, к примеру, тот же Дэвид Линч, пожелает увидеть — и увидит нечто прекрасное, не в том плане, что красивое, но глубокое и... Важное, я даже не знаю, как выразиться. Вот что ты здесь видишь? Тебе это нравится? — Нет, это отвратительно, — поморщилась Алина. — Какая–то печень, замотанная в толстую кишку. — А вот я сразу вспомнил «Головаластик» и третий сезон «Твин Пикса», там тоже изображалось нечто подобное... Прямо до боли похожее, и из этой... Субстанции "всего" родилась в его интерпретации, если я правильно сам понял, жизнь, ну, или что-то из категории жизни... Собственно, может даже грубо присваивать ему данную интерпретацию, потому что это нечто похожее на действительную правду. — Ну вот, его понесло. Остановите его кто–нибудь. Инна, спасай, он же твой парень! — А я, кажется, помирилась с Сергеем, — произнесла Инна; Жан и Алина одновременно направили на нее свои удивленные взгляды. — Мы с ним нормально поговорили и все разъяснилось. — И ты его простила? — вздернула брови Алина. — Да. Тем более это было так давно... — Ну знаешь, мужики они такие, что или скрывают свою сущность, или однажды показывают и потом делают вид, что это лишь так, единичный случай. А сущность–то, сущность остается при них. — Мне искать новую даму что ли? — спросил Жан, поворачиваясь при этом от Инны к Алине. — На меня даже не смотри, — сказала Алина, — я от мужчин — как от огня. — А, ну да, ты ведь лесбиянка, точно. — У нас ничего серьезного, мы просто восстановили общение, вот и все. Мы начинали изначально как друзья и друзьями закончим; то, что было между нами... Теперь
мне вообще кажется, что лучше было бы обойтись без тех отношений вовсе. Не то чтобы они были ошибкой, нет, но... — Можешь нам не объяснять, — произнес Жан, возвращаясь к фотографиям. — Мы все понимаем. — И все–таки будь осторожна. Твой этот Сергей... — Алина покрутила головой, — есть в нем нечто ненормальное, что ли. — То есть я тебя не смущаю? — игриво улыбнулся Жан. — Ты–то хоть не скрываешь этого. А вот Сергей прячется под маской какого–то полного безразличия. Не могут так люди жить. Либо он по ночам режет кого–нибудь, либо он точно не человек. — Раз Сергей — это абсолютно беспристрастная сущность, то может он не Сергей, а Никто? — вывел предположение Жан, озираясь на Инну каким–то многозначительным взглядом, который обычно возникает между людьми, знающими один и тот же важный секрет. От этого взгляда у Инны побежали мурашки по спине; затем Жан просто отвернулся и как ни в чем не бывало продолжил фотографировать неустанно позировавшую Алину. — Что ты сказал? — спросила Инна сквозь учащенное сердцебиение. — Я говорю, что скоро собираюсь выставляться. Слышали про театр абсурда, когда автор постоянно сбивает с толку зрителя чтобы удерживать его в постоянном дискомфорте? Я вот тоже что–то вроде этого хочу добиться. И чтобы то, что казалось с первого взгляда бессмыслицей, приобретало в целом плане какую–то осмысленность, связь... Может даже связь, которую создает сам зритель, не знаю. — А вот это вот что сейчас было? — спрыснула в ухмылке Алина. — Фарс? — Фарс — это твоя поза. Выпрямись и чуть влево поверни голову. И приподними подбородок немножко, да, вот так, зубки, зубки! Скалься на меня, как самка на самца. С лестницы донесся громкий стук. Жан закатил глаза и вздохнул: — Это сосед, он каждый день так долбит вместо того, чтобы просто поставить новый звонок. — А что случилось со старым? — спросила с какой–то непонятной даже для нее самой тревогой Инна. Жан обернулся к ней. Стук становился все громче и чаще, пока не поравнялся наконец с гулким сердцебиением; Инна медленно повернулась к двери и стук оборвался, а вместе с ним — и все остальные звуки. — Вернись! — закричал Сергей с лестничной площадки. Инна, рыдая, пробегала один пролет за другим крепко держась за ледяные перила. Из–за каблуков у нее постоянно подворачивались ноги, и когда она падала, раздирая до крови руки и ноги, на ее лице проявлялась искаженная улыбка боли — по сравнению с тем, что происходило у нее на душе, это было даже в какой–то мере приятно. Где–то лаяла собака; Инна добралась до выхода и, вдавив кнопку открытия дверей, вывалилась наружу. Был конец августа, но почему–то вокруг лежал снег, такие грязные, полурастаявшие кучи, и от холода жгло кожу; выдыхая пар изо рта, Инна бросилась в какой–то темный переулок, освящаемый тусклой зеленой лампой. Она хотела бы раствориться в этом болезненном, томном свете, однако выплыла из него на пустующую проезжую дорогу и, перейдя ее, оказалась на какой–то
облупившейся — как весь этот немощный город — скамейке. Ее сильно лихорадило; вздрагивая, она каждый раз вздымала со дна своего нутра невозможную горечь, от которой хотелось вопить и лезть на стены. Сверху донесся какой–то скрежет, отозвавшийся поворотом ножа в ее желудке; Инна подняла голову и увидела на отдаленной лоджии Лизу практически в прозрачной ночнушке, степенно курившую сигарету в мундштуке. Затем раздался оглушительный треск и губы Инны, стянутые до предела помадой, лопнули. Слева от нее села знакомая женщина: — Никогда не любила классику. Вот прямо на дух не переносила. Когда заставляли читать по школьной программе, всегда либо читала краткие пересказы, либо вообще забивала, типа, пронесет — и слава богу. Но один раз нам пришлось ставить для родителей небольшую сценку по «Вишневому саду» и... В общем, кое–как я осилила данное произведение. Не скажу, что впечатлило — наоборот, от скуки помереть можно было. Но кое–что там... Чехов использовал в нем одно выражение, которым обозначил момент излома так сказать, и вот это выражение настолько оказалось четким, настолько ясным и однозначным, таким... Таким правильным, что я запомнила его, кажется, на всю жизнь. «Звук лопающейся струны» — вот, как он написал. Инна слушала ее, склонившись к своим ногам — с ее губ, перемешиваясь со слюной, текла густая бордовая кровь. При этом она абсолютно ничего не чувствовала — ни холода, ни боли, ни отчаяния — ничего, кроме безразличной легкости, предвосхищавшую полную опустошенность. — Ты слишком серьезно ко всему относишься, так нельзя. Кто же ходит на трагикомедию и воспринимает происходящее на сцене всерьез? Конечно, ты скажешь — актеры, — улыбнулась женщина, услышав хриплый выдох Инны. — Да, в какой–то мере это так. Но все же актеры никогда не забывают, что они просто играют какие–то роли, понимаешь? А ты об этом забываешь. Так можно сойти с ума, дорогая. Бессилие приливами билось об ее истощенное сознание. Вскоре Инна свалилась со скамейки в кровавое месиво; все вокруг поплыло. — Сейчас ты уснешь, — спокойно проговорила женщина, поднявшись со скамейки, — и когда проснешься, не сразу, но поймешь кое–что важное. L'appetit vient en mangeant. Инна проснулась от того, что кто–то сильно сдавил ее плечо. Открыв глаза, она увидела перед собой плотного мужчину в униформе метрополитена и в растерянности попыталась осмыслить происходящее, но как только мужчина произнес: «просыпайтесь, девушка, конечная остановка» — шквал воспоминаний, обостренный эмоциями, обрушился на ее беззащитное, еще полностью не пробудившееся сознание. Инна молча поднялась и, пошатываясь, вышла из вагона. От нахлынувшей горечи ее всю перекосило; сдерживая эмоции, она дошла до эскалатора и стала подниматься наверх, как вдруг заметила, что стены по бокам усеяны различными холстами Жана с изображением тел женщин и мужчин. И если поначалу тела имели четкие очертания, то чем выше Инна поднималась, тем более смазанными и абстрактными они становились, пока под самый конец не превратились в одну сплошную мазню. На выходе из метро она остановилась перед молочно–белой табличкой с описанием выставки: «HOMO SAPIENS – HOMO IMPERSONALIS (ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ — ЧЕЛОВЕК БЕЗЛИЧНЫЙ) Чем больше хочет человек, тем меньше он является самим собой; данная выставка показывает, как человек, поднимаясь все выше по своей пирамиде потребностей,
завирается вплоть до бесформенной, хаотичной массы из желаний, устремлений, взглядов, эмоций, чувств, страхов и проч. Изображая тела, молодой амбициозный художник (Жан Дюпре) через проекцию внутреннего состояния человека искажает его внешний вид, пока человек полностью не растворяется, теряя себя настоящего, с бытийным холстом...» На улице ей стало лучше. Она вызвала такси и поехала в сторону Пулково (Жан раньше жил недалеко от аэропорта), попутно в истеричном порыве удаляя все, что так или иначе было связано с Сергеем: переписки, фотографии, видео, общих друзей и даже всяческие использованные билеты, бережно хранившиеся в Wallet, все, кроме одного — она не смогла удалить билет от закрытого показа «Кроликов» Дэвида Линча; Инна вдавила дрожащий палец в экран, по ее лицу заскользили слезы и вскоре она уже тряслась в припадке... Когда она открыла дверь в квартиру, кролик в смокинге Сергея, сидевший на диване, плавно повернул к ней голову. Другой кролик, сидевший в салатовом халате рядом, сказал голосом Лизы: — Когда это произойдет — ты узнаешь об этом. В комнате еще находился третий кролик, Инна не могла его видеть, поскольку застыла в дверях, но чувствовала его присутствие. Происходящее было похоже на мягкий сон. Кролик в смокинге, все так же продолжая смотреть в сторону Инны, произнес: — Темная комната. Что–то не так. — Я тоже это видела, — подтвердил рядом сидевший кролик. — Я не уверен, — кролик в смокинге отвернулся от Инны. — Я шла раньше, когда еще было светло. — Я должен кое–что тебе сказать. Войдя в квартиру Жана, Инна первым делом попросила налить что–нибудь покрепче и Жан, заметив ее растекшуюся по всему лицу тушь, даже не стал спрашивать, что произошло — он просто достал из шкафа водку и сделал крепкую отвертку и Инне, и себе. Делал он это довольно долго, поскольку находился под травой, из–за которой его тело казалось ему чересчур тяжелым и неуправляемым. Инна, вернувшаяся из душа, где она кое– как привела себя в порядок, застала Жана в ступоре перед столом: тот отрешенно разглядывал стаканы, не выпуская из правой руки коробку апельсинового сока. — Что с тобой? — спросила Инна, сев напротив. — Сначала сок — или водка? — Водка, но... Без разницы, в общем–то. — Но тогда ты сначала глотаешь сок, а потом тебя разбивает водка, а если наоборот, то ты глотаешь водку и запиваешь ее соком, — задумчиво проговорил Жан. Инна вырвала из его руки коробку и, отложив в сторону, придвинула к нему полный стакан. Жан упал на стул, как будто бы не в силах моргнуть и сдвинуть с мертвой точки взгляд. — Ты укурен что ли? — Да, — кивнул Жан. — Возле ноутбука, там, сзади тебя... Можешь пыхнуть, еще немного есть. — Не откажусь.
Пространство–время исказилось под воздействием наркотических средств и Инна сама не поняла, как оказалась в постели с Жаном; она скакала на нем упираясь отрешенным взглядом в серые шероховатые обои и каждый раз, когда его член полностью входил в нее, она выдыхала с бранными мыслями о Сергее. Инна не до конца это осознавала, но секс с Жаном для нее был чем–то вроде импульсивной попытки отомстить, сделать Сергею также больно, как он сделал ей. И когда в момент оргазма она опустила голову и посмотрела на Жана, то вместо его лица с ужасом увидела лицо Сергея. — ...А еще иногда мне снится откровенная порнография, — говорила Инна, сидя напротив Г-на Никто. — Вот недавно приснилась одна жуткая прямо–таки штука. Не помню в деталях... Какой–то вроде бы загородный дом, может коттедж, типа, стены были из дерева, и очень светло внутри, горели лампы, хотя на улице был день, такой ясный, зимний день. Там была я, какая–то девушка, не помню ее лица, и мужчина лет пятидесяти с легкой проседью в висках. Там вообще, кажется, было много людей, я точно не помню, как будто какая–то тусовка, понимаете... И еще я была не в своем теле, а какого–то парня, не видела, но чувствовала. Сначала тусовка гладко шла, ничего особого не происходило, мы просто пили и сидели... Как обычно, в общем. А потом, помню, я сидела на каком–то что ли пуфике — на чем–то низком, прямо почти на полу — и смотрела на ту самую неизвестную мне девушку, а она такими испуганными глазами на меня; потом вдруг хватается за свое горло и испуг сменяется животным ужасом. Она начинает задыхаться, вокруг поднимается суета, а этот мужчина просто стоит в сторонке и смотрит на нас с какой–то ненормальной ухмылкой... Девушка падает, ее разбивает паралич, она дергается еще какое–то время в конвульсиях и отключается. А потом и я начинаю также задыхаться, стекаю на пол, из рук вываливается бокал с красными вином... — Инна достала сигарету, несколько раз легонько стукнула ею о лакированный стол и закурила. — Потом уже очнулась на тесной кухоньке. Я сидела за небольшим квадратным столом, впереди, облокотившись на плиту, стоял тот мужчина, а передо мной сидела какая–то пухлая девушка. Она что–то говорила, я видела, по крайней мере, как двигались ее губы, но я не услышала ни единого слова. Вообще звуков никаких не было. Потом, знаете, как в сраных фильмах — раз, кадр сменяется и вот она уже сидит передо мной в нижнем белье. Я даже не поняла, как это произошло, — усмехнулась Инна. — Сидела молча, смотрела на меня. Мужик... Не помню, я на него тогда внимания не особо обращала. Затем снова в какой–то момент — пух, она уже полностью нагая лежит на столе, а сзади ее долбит тот мужчина, и ее обвисшие груди туда–сюда трутся об стол прямо как какие–то тряпки... Полная херня. И еще под конец сна появилась та девушка, ну, из самого начала которая, она стояла голой прислонившись к холодильнику, что ли. Она уже не была напугана как прежде, нет, она просто чего–то ждала... Инна сидела за барной стойкой, в ожидании бармена потягивая очередную ментоловую сигарету. Объемная музыка пульсацией отдавала в голову, из–за чего ей казалось, что она уже была сильно пьяна, хотя на самом деле выпила всего несколько бокалов мартини. Рядом с ней сидела Лена, потягивая из трубочки какой–то голубой коктейль. — Так ты, значит, снова хорошо общаешься с Сергеем? Простила его, да? — спросила Лена, чутко вглядываясь в понурую подругу. — Вроде того, — устало произнесла Инна. — Я так запуталась во всем и устала, ты не представляешь. — Расскажи.
— Да нечего особо рассказывать. Я уже говорила про то, что вся моя жизнь — это продукт какой–то сраной эксплуатации. Я не знаю, может быть я просто слишком серьезно ко всему отношусь и в действительности нет никакой трагедии... Но даже не в этом дело. Просто вот недавно... — Инна погасила окурок и тут же зажгла новую сигарету. — Я проснулась с неожиданным осознанием, что я не люблю Жана. То есть даже не то чтобы не люблю, а все чувства, которые у меня к нему были — это все фарс, потому что когда я с ним первый раз спала, я это делала с целью отомстить Сергею и... И я трахалась с ним, с подсознательными мыслями о Сергее, собственно, я поэтому к нему и стала испытывать какие–то чувства — из–за вот этой вот психологической связки. Конечно, мне нравится Жан, но... — Ничего себе, — выдохнула Лена. — Да. Я вот теперь смотрю на Жана — и ни хрена. Он мне просто безразличен. Это осознание... Я словно выдернула скелета из шкафа и выбросила его на помойку. И теперь не знаю, что, блять, делать. Подошел бармен и Инна заказала два бокала мартини. — А что с Сергеем? — спросила Лена, после чего задержала бармена с просьбой налить ей еще «голубой лагуны». — А что с ним? Ну, испытываю к нему некоторую привязанность, да, может быть какие–то совсем слабые, выцветшие чувства... Я его простила, но никакого второго шанса не будет. — Когда у меня была похожая ситуация с Мишей, ну, ты помнишь, я все–таки вернулась — и не пожалела. Может быть и ты попробуешь?.. — Нет, — твердо отрезала Инна. — Почему нет? — Я сейчас в таком заведенном состоянии, — Инна выпила залпом бокал и затянулась сигаретой, — что единственное, чего мне хочется — завестись еще больше и наконец взорваться. Не сломаться, а именно взорваться. Достигнуть катарсиса. — Какая же эта Лиза все–таки шмара, — пропалила Ева, сев слева от Инны. — Сейчас сидела, слушала их разговор с Андреем. Та сказала, что любила лишь однажды, а все остальное время просто «боролась с одиночеством», и что не видит ничего зазорного в том, чтобы переспать с симпатичным парнем. Я с ней, в общем–то, согласна, но блять, нужно ведь знать меру — в ней побывало, по меньшей мере, пятьдесят восемь мужчин. — Как она сама не сбилась со счету? — усмехнулась Лена. — Записывает их имена и телефоны, чтобы в случае необходимости... Ну, типа, как система вложений — они вкладывают в нее свой член, а потом она при какой–нибудь нужде может позвонить им и попросить о помощи. Дескать, ты меня трахал когда–то, так теперь соизволь помочь. — А Андрей? — Андрею похер, сидит там, улыбается и гладит ее бедро. Ему–то что, он сам не лучше. — Ее постель — ее дело, — произнесла Инна словно в защиту Лизы.
— Это да, но скольким парням она разбила сердце? Она ведь ни к кому не испытывала реальный интерес, а лишь так, от скуки или выгоды и... Ева не договорила, потому что из ниоткуда возник Жан и позвал их к остальным. Инна в этот момент почувствовала дежавю, как будто они снова находились в особняке Андрея и она жаловалась своим подругам–моделям на то, что ее всю жизнь только используют... Но для полной картины не хватало Алины, так что ощущение пресеклось в своем зародыше, обернувшись простым совпадением. Допив мартини и последний раз затянувшись, Инна вместе с Евой и Леной последовали за Жаном к столу, где располагались остальные. Вокруг творилась ужасная суета — клуб захлебывался в людях, громкой, агрессивной музыке, прожекторах и дыме, все вокруг жарилось, светилось, плыло и дрожало. Андрей ждал их, стоя с откупоренной бутылкой шампанского перед диванами; остальные же просто сидели вокруг. Когда Инна подошла к столу, то вновь почувствовала навязчивое ощущение дежавю, которое, правда, быстро оказалось вытеснено вниманием, полностью сконцентрированном на Андрее: тот опять решил произнести какую–то речь. — А вот еще кое–что, — сказал Андрей, вздернув брови и подняв вверх указательный палец. — Всегда существует вероятность не проснуться. Но если ты просыпаешься — просыпаешься ли ты собой или кем–то другим? Об этом можно никогда не узнать. Вот ты просыпаешься, смотришь — вроде бы все как и прежде, все на своих местах, но... Но дьявол кроется в деталях! — вскричав это, Андрей присосался к бутылке шампанского и, выпив добрую треть, продолжил: — Тобой вдруг овладевает тревожное ощущение неправильности, что–то не так — ты не знаешь, что именно, но чувствуешь это... Начинаешь осматриваться вокруг, искать скрытый изъян... Тарелка стоит ближе к краю стола, рамка с фотографией слегка более светлого оттенка, в кружке остаток кофе больше, чем был, да что угодно, любая мелочь — и ты понимаешь, что проснулся не собой. Это другая вселенная, одна из бесчисленного множества параллельных. И ты — это не ты. И все, кого ты знаешь — чужие. Эта вселенная в целом — чужая. И ты один в ней. Совсем, совсем один... — закончив, Андрей вновь отпил шампанского, после чего под бурные аплодисменты упал на диван. Инна в этот момент посмотрела на неоновую голубую розу, стоявшую в вазе на столе, и, ощутив апогей дежавю, в сильнейшем волнении обернулась. В узкой щелке промеж бордовых занавесок она с трепетом разглядела саму себя, стоявшую на крыльце особняка. Затем там возник Жан, только вместо того, чтобы положить за ухо сигарету, он ее оттуда вытащил. Инна повернулась обратно к остальным, задыхаясь от ужаса и отчаяния; Жан исчез, а Андрей, прижимая к себе засыпавшую Лену, говорил: — Знаете, «Чужой: Завет» стоит посмотреть только ради одной фразы, которую произносит Уолтер: «никто не понимает одинокое совершенство моих снов», — он оглянул присутствующих в поиске поддержки. — Ну разве это не прекрасно? — Мне нужно еще выпить, — произнесла Инна, склонившись над головой Евы. Та кивнула, и они вернулись к барной стойке, где заказали «что–нибудь покрепче»; Инна все еще не могла отойти от испуга и потому постоянно озиралась в сторону танцпола, боясь, как бы на его месте снова не появился холодный, пустой и темный зал особняка. — Что с тобой, подруга? — Да мне что–то все хуже и хуже в последнее время. Все... Все как будто рушится прямо у меня на глазах, точнее, путается все больше и, понимаешь, связывается крепче, становится душнее... В один момент все просто должно порваться. — Тебе надо оторваться, как мы и хотели, — сказала Ева, гладя ее по плечу. — Таблеточка одна, таблеточка другая, косячок — и все в ажуре.
— Да, наверное, ты права, — слабо улыбнулась Инна. Они чокнулись стопками и залпом выпили какой–то приторный травяной ликер. Ева достала измятую пачку сигарет и они обе закурили. — Как же меня все задрало. Я ведь рассказывала, что хотела стать дизайнером, а не сраной моделью? Знала ведь, что если стану моделью и получу доступ к сравнительной халяве, то моя зависимость только усугубится. Но... Я просто всегда, в конечном счете, была и остаюсь маленькой, запуганной и беззащитной девочкой... — Просто так легли карты, вот и все. Бесполезно теперь сожалеть. — А разве не мы сами раскладываем эти карты? — Сами, но какие нам в руку лягут — зависит уже не от нас, — Инна положила недокуренную сигарету в пепельницу и сползла с табурета: — Мне что–то нехорошо, я, пожалуй, в туалет... — Я с тобой. Тошнота обжигающими волнами обмывала ее глотку, пока она пробивалась сквозь людей в интуитивном поиске туалета. Ева чудом разглядела в конце помещения неоновую вывеску и повернула туда Инну. Добравшись до темного, отделанного черным кафелем туалета, Инна забралась в первую попавшуюся кабинку и, упав на колени, сплюнула в белоснежный унитаз тягучую слюну. Ева же бережно держала ее волосы. Из какой–то кабинки до них донеслись страстные стенания и скрипы, которые через несколько плевков Инна перекрыла рвотой. Затем послышались едва различимые слова, прошептанные известным им обеим женским голосом: «Жан, да... Мой сладкий Жан...». Инна предприняла попытку встать, но ее во второй раз вырвало. — Вы можете, блять, заткнуться? — вскричала разъяренная Ева. Отплевавшись, Инна, опираясь о деревянные стенки кабинки, поднялась на ноги. Мир вокруг плыл, все было ирреально — все, кроме искренней, жгучей ненависти; выйдя из кабинки, она медленно прошлась вдоль остальных кабинок, концентрируя последние оплоты разума на звуках, и, определив, откуда они доносились, резко ударила по двери ногой и принялась колотить по ней, дергать за ручку и сквозь нечленораздельный визг выговаривать: «открывай, сука!». Ева быстро спохватилась и отвела Инну в сторону. — Успокойся, мать твою, — говорила она, крепко удерживая Инну у раковин. — Слышишь, успокойся. На хрен их. На хрен это все. Пойдем домой. — Вы еще пожалеете об этом, суки! — брызжала слюной Инна. — Ненавижу! — А потом я все в одночасье поняла, — выдохнула дым Инна в сторону от Г-на Никто. — Я ненавидела Лизу не просто так: я ненавидела ее за то, что она совмещала в себе все черты, которые мне противили; нарциссическая, аморальная, развязная, эгоцентричная сука, двинутая на стремлении удовлетворить свой бесконечной гедонизм. Она являла собой все то, что вытесняла из себя я. И она, блядь, чертовски хорошо чувствовала себя в своей шкуре, а я... А как чувствовала себя я?.. Инна проснулась в сокрушительном похмелье — от того, что она просто перевернула на подушке голову, череп, казалось, затрещал, и мозг разворошила нещадная острая боль. Она потянулась за стаканом воды, который обычно стоял на тумбочке возле кровати, однако вместо него нащупала какую–то открытую книгу; притянув ее к себе, Инна разбитыми глазами недоуменно прочитала несколько строк: " Погодите, погодите... Утром, когда я
встала, я была еще я или не я? Ой, по–моему, мне как будто было не по себе... Но если я стала не я, то тогда самое интересное — кто же я теперь такая? Ой–ой–ой! Вот это называется головоломка!» — и в испуге откинула ее куда–то в сторону. Она чувствовала, что если сейчас же не попьет, восстановив баланс воды в организме, то иссохнет и погибнет, а потому, смиряясь с острой головной болью, вытекла из постели и, пошатываясь, направилась на кухню. Инна не знала, сколько было времени, но, судя по мертвенно–серому свету, изливавшемуся из окон, она проспала большую часть дня. Выйдя на кухню, Инна налила из фужера полный стакан воды и залпом его опустошила, затем налила себе еще один и только после этого заметила, что она была не одна — за столом сидел Жан, не сводя с нее томного и даже в некоторой степени озлобленного взгляда. Рядом с ним на столе лежала ее опустошенная сумочка. Инна открыла рот в попытке что–либо произнести, но не смогла, и тогда заговорил уже сам Жан: — Какого черта, Инна? Я думал, что у нас с тобой все прозрачно. — В смысле? — выдавила из себя Инна. — И ты рылся в моей сумочке?.. — Я полез за сигаретами, стал искать их, и вдруг обнаружил, что у тебя больше нет противозачаточных таблеток. Ты ведь всегда носила их с собой; ну я подумал, может просто выложила — перевернул всю квартиру, но хрен там, их нигде не оказалось. — Я... — Хочешь развести меня, да? С Сергеем не прокатило, так типа прокатит со мной? — Ты не так все понял... — проговорила Инна, жмурясь от боли — ушиб на лбу оглушительно загудел; Жан что–то пропалил в ответ, но она уже ничего не могла слышать. Кое–как соскользнув по гладкой поверхности холодильника на пол, Инна отодвинула в сторону стакан и положила голову на прохладный кафель. Последнее, что она увидела — это падающую со стола вместе со всем ее нутром сумку. — ...Сергей мне все объяснил, — сказала Инна Г-ну Никто. — Он был моим личным психиатром. Раньше мне довольно часто приходилось претерпевать периоды в жизни, когда ни с того ни с сего, ну, по крайней мере как мне казалось, кардинально менялось мое мировосприятие. Мир для меня становился отдаленной пустышкой, иллюзией, слишком реальным сном. Таким серым и мертвым... Потом это просто само по себе проходило, мир снова обретал краски, но вот года полтора назад все повторилось – реальность опустела в моих глазах, и с того момента это до сих пор не прошло. Знаете, тот самый случай, когда сознание определяет твое бытие; смотришь вроде бы на красивый ночной город, понимаешь, что да, он вроде как красивый — ну, или должен быть таковым — но по ощущениям он воспринимается как нагромождение совершенно безжизненных, застывших двухмерных декораций. И ничего с этим не поделать. А еще бывает, когда я ощущаю себя не собой, а как бы со стороны... Или как будто все происходит во сне: мной управляю не я, но я этого до какого–то момента даже просто не осознаю... — Так значит мир снова стал приобретать для тебя глубину, не так ли? — спросил Сергей. Они сидели в очередном кафе и на столе перед ними стояли две кружки еще горячего кофе. — И все же я не могу не осудить то, что ты без моего ведома просто отказалась в одночасье от таблеток. Так нельзя. Понимаешь, это как с антибиотиками — если уж начал принимать, то принимай до конца, в противном случае будет только хуже.
— Да, я знаю. Но я просто не могла больше их в себя пихать. Они меня делали чересчур нервозной, но не более того — мир так и продолжал оставаться для меня выцветшей, отдаленной картонкой. — Ну, дереализация не лечится в одночасье, ты же понимаешь. Всему нужно время. Инна безразлично кивнула, наблюдая в окно за проезжавшей мимо грязной фурой. — С Жаном порвала значит? — Да. Я просто поняла, что у меня к нему не было никаких чувств, а без чувств... — Понимаю, — кивнул Сергей. — Ты так ничего и не написал мне про второй сон, кстати, — заметила Инна, переведя взгляд от окна к Сергею. Тот вопросительно сдвинул брови: — Второй сон? Это какой? — Ну, который еще был на бумаге. Такой странный, про какое–то божественное существо или вроде того... Непонятная чушь, которой я сама удивилась. Ты тогда забрал и сказал, что проанализируешь. — Ты дала мне только один сон, он был про то, как я оказался в твоей гостиной и говорил про плавание в водах Европы. Больше ничего не было, ты, наверное, что–то перепутала. — Нет, как же, он был на листке... — проговорила Инна, в задумчивости покосившись на стол. — Да, на листке был сон, и это был как раз сон про меня. Других листков ты мне не давала и ничего вообще такого не говорила. Ты что–то путаешь. — Не может быть, — уверенно возразила Инна, подняв со стола взгляд. Однако Сергея напротив нее не оказалось — она сидела наедине со своей чашечкой остывшего кофе. Ледяной озноб прошелся по ее телу; достав из сумочки телефон, она быстро набрала его номер, но вместо гудков раздался женский голос автоответчика: «данный номер не существует или был набран неправильно...». Она набирала его раз за разом, будто бы надеясь, что от количества тщетных попыток что–либо изменится; вскоре она окончательно вышла из себя и, прокричав: «блять!», ударила телефон об стол. Официантка, протиравшая неподалеку стол, пронзила ее порицающим взглядом. — ...Сергей диагностировал у меня дереализацию с проявлением деперсонализации, — Инна зажгла предпоследнюю сигарету. Г-н Никто слега приподнял подбородок. — Сказал, что основная причина проявления дереализации — это длительная депривация, типа, лишение возможности удовлетворять те или иные основные потребности; я тогда не сразу поняла; я вроде и ем, и трахаюсь, и сплю — в чем же тогда причина? Но потом сама же заглянула глубже и все стало до боли — как будто солнечным светом в глаза — ясно: да, я действительно вроде как удовлетворяла свои основные потребности, но это был лишь тот уровень, который необходим для существования вообще. То есть мне хватало, чтобы жить, однако этого было недостаточно, чтобы жить в комфорте. Я всегда ела только то, что мне можно, трахалась с тем, кто подходил под мои довольно высокие требования, спала... Учитывая постоянные кошмары, ладно, я не так уж и хорошо спала. С остальными потребностями — выше базовых — дела обстояли еще хуже; я никогда не ощущала себя полностью в безопасности, не достигала необходимого уровня уважения вследствие своих неимоверно, опять же, высоких планок, имела слабую причастность к окружающим людям, а
самореализация... Нахер, — отчеканила Инна. — Нейролептики, смена образа жизни и постоянное окучивание своих идеалов и взглядов — вся эта срань должна была мне помочь, но она только, кажется, усугубила ситуацию. В один момент я даже стала подозревать Сергея в том, что он нарочно пытается превратить меня в свой собственный овощ, ну, знаете, как пациент «анализа конечного и бесконечного», которым психиатр только пользуется ради собственной выгоды. К тому же я знала, что его чувства ко мне еще не остыли... Ну да ладно, это все херня. Я к тому вела, что моя жизнь представляла собой кромешный пиздец, и этот пиздец только накалялся; а ведь это еще было задолго до того, как появилась Лиза и все вот это остальное... Инна ожидала лифт, нервозно постукивая изящным сапогом. Сергей был необходим ей как никогда прежде — теперь, когда она полностью порвала с Жаном, ей больше некуда было элементарно податься; также она испытывала удушающую тревогу за пропажу того странного сна, которая обещала в скором времени произрасти в настоящий ужас: она не могла больше погружаться во мрак неизвестности и чувствовать — не видеть — как все путается еще больше, потому что путаться уже было нечему, и узлы только крепче стягивались вокруг ее шеи. Не выдержав чересчур томного ожидания, Инна бросилась к лестнице. Крепко сжимая ледяные перила, она преодолевала один лестничный пролет за другим, и на пятом этаже внезапно столкнулась с бежавшей вниз девушкой; всхлипывая, девушка проговорила ломающимся голосом какое–то невнятное извинение и побежала дальше. Поднявшись на восьмой этаж, Инна принялась рьяно стучать по двери кулаком и вдавливать кнопку звонка, пока дверь наконец не открыли. На пороге оказалась совершенно незнакомая взрослая женщина в домашнем халате, от чего Инна поначалу растерялась и подумала, что ошиблась квартирой, но ошибиться же, однако, она решительно не могла. — Я вас слушаю, — скрестив руки, произнесла женщина. — Я... Я ищу Сергея, — неуверенно промямлила Инна. — Сергея? Какого такого Сергея? — Чернышев. Сергей Чернышев. — Вы, наверное, ошиблись квартирой, — учтиво улыбнулась женщина, собираясь уже закрыть за собой дверь. — Нет, постойте! — умоляюще пропалила Инна, непроизвольно при этом схватившись за дверь; женщина возмущенно посмотрела на нее, однако больше не сдвинулась с места. — Сергей Чернышев, как же, он должен был здесь жить... — проговорила она, степенно убирая руку с двери. — Вообще–то знаете, я припомнила, что владельца этой квартиры вроде бы действительно так звали. Мы с мужем покупали эту квартиру через посредника, но в документах где–то мелькало его имя, да... — То есть как?.. — выдохнула Инна в сильнейшем потрясении — она не верила в происходящее. Отказывалась верить. — Давно дело было, года полтора назад... Посредник сказал, что причина продажи квартиры — переезд бывшего владельца в Москву, если не ошибаюсь. Во всяком случае, здесь Вы никакого Сергея не найдете.
Дверь захлопнулась, оставляя Инну в растерянности на сырой лестничной площадке. Достав из парки телефон, она открыла Facebook и из последней надежды попыталась найти в списке контактов Сергея, однако безуспешно — у нее вообще не оказалось никаких контактов и переписок. «И ты — это не ты. И все, кого ты знаешь — чужие. Эта вселенная в целом — чужая. И ты один в ней. Совсем, совсем один...» Инна вошла в лифт, который не вызывала, и ни живая, ни мертвая, спустилась на первый этаж. Когда дверцы раскрылись, она неожиданно увидела перед собой Лену, в мгновение укротившую ее своей заботливой улыбкой: — Мы тебя все давно уже ждем, пошли. И она последовала за Леной в какую–то открытую квартиру, желая только одного: довести себя до конца. Внутри их поджидали Ева и Алина, разливая спиртные напитки в просторной, хорошо освещенной гостиной; Инна бывала здесь раньше, она точно помнила этот вычурный фьюжен–интерьер, лоснящийся от смелых дизайнерских решений: большая, размером со шкаф черно–белая античная ваза, тяжелая классическая мебель с обивкой в цветной горошек, множество поп–арт картин, шероховатые текстильные обои с цветочной росписью и низкий стеклянный столик с кривыми, как корни, ножками... Ева посадила ее за этот столик и придвинула стакан с долькой лайма, а сама села вместе с Алиной на диван напротив. Лена же разместилась в леопардовом кресле рядом с диваном. — Жизнь — это пиздец, не так ли? — стервозно произнесла Алина, закуривая сигарету в мундштуке. Инна взяла в руку стакан и залпом выпила содержимое, после чего сильно сморщилась и чуть ли не сплюнула на пол — спирт неприятно обжог ее глотку. Заметив это, Ева подняла с пола яблоко и со словами «заешь, иначе сожжешь желудок» бросила на стол. Лена спросила: — Как там Сергей? Ты сегодня вроде собиралась с ним встретиться. — Ты что, решила после Жана переключиться обратно на Сергея? — Алина вздернула брови в искреннем удивлении. — Я думала, что ты послушаешь меня и не станешь повторять ошибки прошлого. Люди — они ведь не меняются; меняются только обстоятельства. — Я пойду поставлю музыку, — сказала Ева, поднявшись с дивана. — Нет, — произнесла Инна, глотая практически цельный кусок яблока. — Уже... Уже неважно. Они все... Все пошло к чертям, и они — туда же. — Вот это моя девочка, — довольно улыбаясь, выдохнула облако серого дыма Алина. — А что случилось–то с Сергеем? — спросила Лена в тот момент, когда заиграла виниловая пластинка «Ghosts I–IV» — дарк–эмбиент за авторством Nine Inch Nails, о котором сам автор, Трент Резнор, отзывался так: «...с визуальной точки зрения — это обволакивание воображаемых локаций и сюжетов в звук и текстуры; саундтрек для фантазий». От этой мрачной электронной музыки Инне сразу стало как–то не по себе и вместе с тем бесконечный мысленный шум в ее голове довольно скоро стал утихать, освобождая пространство разума для чего–то более важного... — Да какая разница, — ответила за Инну Ева, возвращаясь обратно на свое место. — Что–то приходит, что–то уходит — круговорот говна в природе никогда не останавливается. — И это зовется жизнью, да? — усмехнулась Алина.
— Именно, — кивнула Ева. Лена закинула ногу на ногу, Алина приобняла Еву, минутная стрелка на круглых настенных часах отстукивала с невероятной громкостью, заглушая собой все остальные звуки. Музыку вскоре Инна практически даже и не слышала — она звучала на отдаленном, гулком фоне, словно где–то на закрытой кухне, располагавшейся в другом конце квартиры. — Ты главное знай — мы всегда с тобой, — произнесла Алина, поцеловав в бровь Еву. — Друзья нужны для того, чтобы претерпевать эту жизнь вместе, — кивнула Ева. — С этим алкоголем что–то не то... — проговорила Инна; под стук стрелок мир вокруг как будто вздымался и трещал по швам. — Я добавила туда кислоты, — улыбнулась Ева. — Мы все знаем, что с тобой происходит, — сказала Лена. — Закрой глаза и расслабься, осталось совсем немного. — Осталось чего?.. — Чтобы проснуться — совсем необязательно ждать окончания сна. Достаточно просто осознать, что ты спишь. Инна открыла глаза. Она находилась в белоснежном помещении, справа от нее в кресле неподвижно сидел Проводник; какое–то время абсолютно ничего не происходило, а потом Проводник заговорил ломающимся, неестественным голосом, который она уже когда– то слышала будто бы во сне: — Раньше люди придумывали тотемы и поклонялись им. Теперь тотемы находятся здесь, — Проводник чуть наклонился вперед и легонько похлопал ладонью по виску. — И эти тотемы диктуют табу. Нет никакого четкого осознания, какая угроза ждет людей за нарушение того или иного табу, они просто подчиняются чувствам, предвосхищающим фантомную угрозу. Он закивал и плавно указал в сторону рукой. Инна повернулась и увидела перед собой целую гору из самых разных вещей. Проводник громко щелкнул пальцами, и все эти вещи во мгновение вспыхнули ярким, душным пламенем; вокруг из ниоткуда возникли голые и раскрашенные в ритуальном макияже Алина, Ева и Лена. Они сотрясались в диком танце, вопили и вздергивали к потолку руки, звеня множественными золотыми браслетами. Инна какое–то время отрешенно наблюдала за ними, после чего повернулась к Проводнику. — Что–то не так. Теперь ты сама все знаешь. Проводник два раза хлопнул и костер погас. Инна сидела в кромешной темноте, пока вдали не возникла тонкая черта холодного света, просачивавшаяся из–под двери. Поднявшись из кресла, она подошла к этой двери и осторожно открыла ее; за небольшим столом, освещаемым статным торшером, сидела она и Г-н Никто. — Да и, в общем–то, к тому моменту это все было уже не так важно, — в дыму повела плечами Инна; Г-н Никто внимательно слушал. — Под конец это все вообще стало неважным, я просто ждала того самого звука «лопающейся струны», ждала, пока все дойдет до предела, в один момент разорвется и — успокоится. — Хватит! — закричала во всю глотку Инна и набросилась на себя, сидевшую за столом. — Либо — кусаешь — ты, либо — кусают — тебя, — отрезками выкрикивала она,
сопровождая каждое слово сокрушительным ударом по голове. Вскоре Инна в беспамятстве лежала на полу, и из ее носа струилась смолистая густая кровь. Г-н Никто все также со спокойным вниманием смотрел на нее. — Нечего ждать, — выдохнула Инна, поднявшись от своего тела. — Нужно самой рвать струну, а бесконечное самокопание словами ничего не стоит. — Похвально, — зааплодировал Проводник, выплыв из мрака комнаты. — Ты мне больше не нужен, — пропалила в оскале Инна, затем перевела взгляд на Гна Никто: — и ты тоже. Вы мне больше не нужны. Г-н Никто степенно кивнул. — Присядь, — произнес Проводник, указывая на стул, где только что сидела Инна. Она сперва замялась, но все же села. Г-н Никто сменился расплывчатым отражением визажистки: — Как же ты умудрилась заработать такой ушиб? Инна сидела перед зеркалом, в то время как визажистка наносила последние тени на ее гематому. Откуда–то со стороны раздался голос Андрея: «девочки, давайте скорее, уже нужно выходить!» — визажистка кивнула, развернула стул и Инна направилась в сторону лестницы, громко отстукивая каблуками своих бордовых лакированных туфель. Перед светло–серым занавесом она поправила свое облегающее платье и, выдохнув, вышла на подиум. Ее тут же ослепили множественные вспышки камер, заставляя идти вперед с зажмуренными глазами; делая неуверенные шаги, Инна не заметила, как за вспышками подиум вылился в глыбу льда, а здание — в пустые заснеженные равнины. Когда она обернулась назад, то увидела, как вместе с городом все, что она знала, рассыпалось в пыль, и завывающая вьюга вторила ее молчаливому отчаянию. Ей было некуда идти, и потому она отчужденно углублялась в никуда, переставляя одубевшие ноги из одного сугроба в другой; от холода ее конечности быстро онемели, притупив стягивающую, трескучую боль. Явственно ощущая, как из нее вымораживалась последняя жизнь, Инна все с большей жадностью исступления вгрызалась — как хищник в дичь — в свои кровоточившие, разодранные в мясо губы. Все ее тело жгло и царапало, а в легких как будто скреблись сотни кошек разом — она то и дело с хрипом пыталась вдохнуть, но сразу же начинала кашлять и отхаркивала в снег бордовые сгустки крови. В какой–то момент боль обмороженных, раздувшихся ступней стала невыносимой, и Инна, упав в сугроб, сквозь ледяные слезы скинула с себя пережимавшую обувь; затем она, ощущая крайний жар, порвала на себе платье и, содрогаясь в острых хлопьях снега, кое–как стянула нижнее белье — из–за переохлаждения ей казалось, что было слишком душно. Пройдя еще немного, Инна обессиленно завалилась в снег и закрыла глаза; мир вокруг, как и ее сознание, угасал; когда она снова открыла глаза, то оказалась оголенной посреди выжженной поляны. Вьюга сменилась не тишиной, но отсутствием звука как такового вообще. Сотрясаясь в судорогах, Инна приподнялась и с ужасом огляделась вокруг: ничего, кроме выжженных полей и серого неба более не существовало, и она была этому виной — она, как центр собственной вселенной, которой позволила перегореть. Ее надрывающий вопль слился со вновь возникшей вьюгой, и все вокруг погрузилось в смоль ночи и моментально замело рыхлым снегом, только на этот раз с небольшим отличием — далеко впереди из–под сугробов возникли очертания какого–то дома. Инна сначала долго вглядывалась в них, и, распознав знакомый коттедж, из последнего духа бросилась к нему, разом забывая про все остальное. Она спотыкалась, падала в режущий снег и вновь вставала, ее легкие вот–вот готовы были порваться и каждый тяжелый вдох отзывался иглами внутри, тело, доведенное
до предела, исходило в лихорадке и не просто жгло, но полыхало; когда Инна поднялась по лестнице и ввалилась внутрь, ее ноги уже отказывались идти, и она просто замертво упала на деревянный пол. — Наконец–то ты пришла, — раздался ласковый женский голос. — Ну же, мужчины, будьте добры — помогите даме встать. Две теплые пары рук подняли сотрясавшуюся в лихорадке Инну с пола; это были Проводник и Г-н Никто. — Где я?.. — простонала Инна, взглядом загнанного зверька осмотрев помещение. Это действительно, судя по интерьеру, был коттедж Сергея, только отсутствовала практически вся — за исключением одного золотисто–голубого сицилийского дивана — мебель. Также здесь находилось неимоверно огромное количество людей, все — голые и в масках, они просто обездвижено, точно манекены, стояли вокруг. Инна была уверена, она чувствовала, что среди них есть абсолютно все ее знакомые, что где–то здесь стоит и Андрей, и Алина, и Сергей, и Екатерина, и Ева, и многие, многие другие. — Ты во внутренней империи, — спокойно ответила Лиза. Она сидела на диване, лукаво прислоняя к лицу пышную венецианскую маску. — Ты... — сквозь зубы проскрежетала Инна. Ее обессиленное лицо обезобразила глубочайшая ненависть, и она, резко вырвавшись из рук Проводника и Г-на Никто, остервенело бросилась в сторону Лизы; однако ей не удалось сделать и трех шагов — ее ноги подкосились, и она тяжело завалилась на пол. — Ну-ну, дорогая, брось... — проговорила Лиза. — Хватит продолжать этот фарс. Ты сама-то понимаешь, откуда в тебе столько желчи? И мужчины, что вы опять стоите — поднимите же ее! Инна грубо одёрнула их руки и, все так же сотрясаясь, самостоятельно поднялась с пола. — Отойдите от меня, — прошипела Инна, обернувшись к Проводнику и Г-н Никто. Они не шевелились, и тогда она истерично завопила: — Уйдите нахер! Исчезните, блять! — Уходите, — кивнула Лиза, и они тут же ей повиновались. Инна с отчаянным негодованием проследила за тем, как Г-н Никто вместе с Проводником скрылись в общей толпе и, повернувшись к Лизе, ломающимся голосом спросила: — Почему они слушаются тебя? — после чего окончательно надломилась и, смиряя всех безумным, одичалым взглядом, исступленно закричала: — Почему вы ее слушаетесь?! Это моя империя! На колени! Я сказала на колени! — срываясь голос, вопила сквозь проступавшие слезы Инна. Никто ей, однако, не повиновался. — Что-то не так, да? — усмехнулась Лиза. — Простейший когнитивный диссонанс, — произнесла она голосом Сергея. — Внутренние распри; ты ввергла свою империю в войну, и война выжгла ее дотла. Теперь здесь только выжженная трава и холод, бесконечный, абсолютный холод. Все люди во мгновение исчезли и коттедж рассыпался, как рассыпаются замки из песка, оставляя после себя лишь бесформенное основание. Лиза все также продолжала сидеть на диване, не спуская с Инны внимательный взгляд.
— Я как будто существовал одновременно в прошлом и будущем, в цельном и разрушенном храме... — произносила она уже голосом Андрея, а затем ее голос сменился на голос самой Инны: — Вся твоя жгучая ненависть — это всего лишь оборотная сторона непринятия. Подойди, — Лиза отбросила в сторону маску и подозвала Инну плавными движениями ладони. — Нет... — запротивилась Инна, не двигаясь с места. — Хватит сопротивляться, все конечно. Подойди ко мне. — Пошла ты, — огрызнулась она, и в этот момент ее схватили Г-н Никто и Посредник. — Отпустите меня! Хватит! Отпустите, блять! — вопила она, пока те тащили ее к Лизе; как бы Инна ни кричала и ни брыкалась, она не сумела вырваться из их хватки. Подтащив ее к дивану, они бросили ее на пол перед Лизой и исчезли. — Убей меня, если ты так этого хочешь, — сказала Лиза, разглядывая блестящий кухонный нож в руке. Он гулко ударился об пол рядом с Инной. — Но ненависть порождает лишь ненависть, и ты это отлично знаешь. Инна схватила нож и, вскочив, хотела действительно наброситься на нее, но застыла в липком ужасе: совершенно спокойная Лиза сидела на диване уже с распоротым животом. — Пока выбор не совершен, он находится суперпозиции, — прохрипела она сквозь струившуюся изо рта кровь. — Ты можешь либо править в аду, либо прислуживать в раю, и пока ты не решила, чего ты хочешь, рай и ад существуют одновременно в некоторой неопределённости. И ты теряешься, запутываешься в этой неопределенности, в этом хаосе с каждым днем все больше и больше. Запутываешься, пока не рвется клубок. — Я тебя не понимаю... — выдохнула Инна, крепче сжимая нож. От биения сердца остатки стен дрожали и сыпались. — Тебе и не надо пытаться понять меня, — добродушно усмехнулась Лиза, — тебе надо понять себя. Понять, чего ты хочешь — и дальше сопротивляться самой себе в отчаянном желании взять все под абсолютный контроль, или же просто принять себя такой, какая ты есть. Идеальная империя — это империя, которой не существует, ибо всякая другая подвержена влияниям человека и человеческих факторов; ты тоже человек, и ничто человеческое тебе не чуждо. Я же — твоя тень, я — это все то, что ты не признавала в себе, часть твоего Эго, что неразрывно связано с бессознательным, и я, как настоящая тень, неразрывно связана с тем, кто ее отбрасывает. То есть с тобой, моя дорогая. Инна, попятившись назад, зарыдала. Она все еще пыталась удержать нож в руке, но в какой-то момент ее ладонь окончательно ослабла и нож гулко стукнулся об пол, после чего коттедж во мгновение восстановился и вокруг вновь возникли множественные нагие люди в масках. Лиза, чьи раны затянулись, ласковыми жестами притягивала Инну к себе; сознательно Инна все еще противилась ей, отчаянно не желая принимать, но тело, не слушаясь рассудка, само по себе приближалось дивану. Вскоре она уже сидела рядом с Лизой, сотрясаясь в истерике. — Не бойся, — прошептала Лиза, нежно гладя ее по лицу. — Все будет хорошо. Их губы сошлись в деликатно–нежном поцелуе, и все вокруг растворилось в однородном, страстном половом акте, оставляющим после себя лишь приятную опустошенность, что предвосхищает всеобъемлющее умиротворение. Ибо ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи.