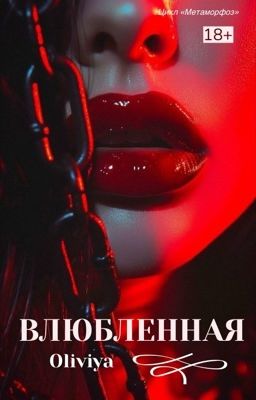Глава 17
Романо стоял посреди кухни, чувствуя, как щека пульсирует от удара, но боль его не волновала. Она была ничтожной по сравнению с тем, что он чувствовал внутри. Его мысли были не о себе, а о ней — о Лукреции. Его жене. Женщине, которую он снова ранил. Как же он мог быть таким слепым?
Он тяжело выдохнул и опустился на стул, провёл ладонью по лицу, словно хотел стереть собственную глупость вместе с этим жгучим следом от пощёчины.
На что я надеялся? — пронеслось в голове.
Что красивыми словами можно склеить трещины? Что прикосновением можно затушить боль, которую он сам же и разжёг? Он был идиотом. Надменным, упрямым идиотом, который слишком долго считал, что контроль — это проявление заботы.
Он посмотрел на еду на столе. Раньше, возвращаясь домой, он даже не задумывался — ела ли она, как себя чувствует, кто заботится о ней. Он обеспечил продукты, дал распоряжения, но не удосужился подумать о мелочах. О том, что она могла проводить дни в одиночестве, не прикасаясь к еде. О том, что ему следовало не только обеспечить быт, но и быть рядом.
Теперь всё это казалось ему чудовищной ошибкой. Не потому, что она ушла в свою комнату. А потому, что она была права. Он действительно не знал её. И, самое страшное — она знала его лучше, чем он сам.
Лукреция действительно пыталась понять его — с самого начала. Искала ответы в его молчании, в его взгляде, в каждом редком жесте. А он? Он лишь отстранялся, прятался за холодом, за контролем. Он не открывался. Не впускал.
Еда лежала перед ним, но он не мог проглотить ни кусочка. Аппетит пропал вместе с её уходом. Он ведь надеялся, что сегодня всё будет иначе. Что они смогут, пусть хоть на миг, почувствовать себя настоящей парой — без масок, без обид, просто ужин вдвоём. Но всё снова пошло не по плану. Он снова не справился.
Сегодняшний день и так вымотал его до предела. Целый день он обучал младшего Карделло — Римо. Парень впитывал информацию, как губка, быстро схватывал суть, проявлял инициативу. В чём-то это радовало Романо. В чём-то — настораживало.
Он сам не до конца понимал, почему тот выбрал его. Может, дело было в характере — тот же внутренний лёд, та же сдержанность, почти зеркальное отражение. Иногда даже внешне они казались похожими: взгляд, осанка, сжатые до боли губы.
Но сейчас всё это казалось таким далеким. Работа, структура, обучающие разговоры — ничто не имело значения, если дома царила тишина.
Романо скользнул взглядом по своему перстню — тому самому, что когда-то подарила ему Силена. Он носил его почти машинально, как часть образа, но в такие моменты кольцо казалось тяжелее обычного. Оно напоминало о том дне, о тех словах, и о её странной просьбе, в которой до сих пор не было ясности.
Он вздохнул, сцепив руки в замок, и уставился в одну точку. Может, стоит поговорить с братом? Спросить, как... как быть другим. Как научиться выражать чувства, а не запирать их внутри до тех пор, пока они не превращаются в гнев или равнодушие.
Доменико с юности был другим. Он с лёгкостью располагал к себе людей, особенно женщин. Умел быть обаятельным, тонким, внимательным — и при этом не терял своей твёрдости. У него это получалось естественно, в отличие от Романо, которому любое проявление мягкости давалось с трудом, как будто он ломал сам себя.
Может, и правда стоит попробовать. Поговорить.
Но... сумеет ли он? Сможет ли переступить через гордость, через вечное "я сам", через свой выученный ледяной фасад? Сможет ли Романо Карделло признать, что нуждается в помощи? Даже если это просто разговор с братом. Конечно же нет!
Романо поднялся с места и медленно направился к её комнате, словно ведомый чем-то большим, чем просто желание поговорить. Но, дойдя до двери, остановился. Рука зависла над дверью, но так и не коснулась дерева. Он не смог постучать, не смог войти. Вместо этого он медленно опустился на пол, прислонившись спиной к стене, словно нуждался в опоре.
Сначала была тишина. Такая тишина, в которой звенит всё несказанное. Но спустя несколько мгновений за дверью раздался её голос — тихий, певучий, словно шелест шелка. Она запела.
Романо замер. Голос Лукреции был ровным, но в каждой ноте — печаль, воспоминания, нежность, которую невозможно было притворно сыграть. Это было настоящим. Настолько, что он прикрыл глаза, позволяя себе раствориться в этом звуке.
Она не знала, что он слушает. Не знала, что в этот момент он чувствует, как внутри него что-то сдвигается — лед, окружавший сердце, начал трескаться, ломаться. Не под напором слов или разума, а под силой её голоса, её сути.
Он осознал: вот оно — то, что связывает его с ней сильнее любых обещаний. Музыка, исходящая из самого её сердца, стала мостом к его. И в этот момент он почувствовал — по-настоящему — как сильно он её теряет... и как отчаянно не хочет этого допустить.
А потом он услышал — не ноты, а тишину, прорезанную всхлипами. Лукреция снова плакала.
Каждый её сдержанный рывок дыхания, каждый сломанный звук пронзал его сильнее любого удара, что он когда-либо получал в бою. Это были не раны плоти — это были раны души. Она, такая сильная снаружи и до невозможности хрупкая внутри, разбивалась на его глазах. И всё из-за него.
Романо сжал кулаки. Как он мог допустить это? Как осмелился причинить боль женщине, которую должен был оберегать от мира, а стал сам этим миром — жестоким и равнодушным?
Он больше не мог это слушать. Он резко поднялся на ноги, сердце билось в горле. Он протянул руку к двери, чтобы постучать, сказать хоть что-то — но в этот момент дверь сама приоткрылась.
Их взгляды встретились.
Лицо Лукреции было заплаканным, глаза — влажными, но не сломленными. И в этой боли было что-то, что заставило его замереть. Как будто всё, что он хотел сказать, вылетело из головы, а дыхание сбилось.
Она стояла перед ним, едва освещённая мягким светом из комнаты. Щёки влажные, ресницы слиплись от слёз, а на губах — молчание, тяжёлое и острое. Она не отводила взгляда. Ни гнева, ни прощения — только усталость и глубокое, неприкрытое разочарование.
Романо не двинулся. Он не знал, имеет ли право. Он чувствовал себя чужим в её мире.
Она вытерла слёзы торопливыми, почти детскими движениями — ладонями, покрасневшими от горечи и бессилия. Глаза всё ещё блестели, но уже не от слёз — в них было что-то другое. Ожидание.
— Давно ты тут? — спросила она.
— Достаточно, — тихо ответил он и, не отводя взгляда, протянул ей руку. — Пойдём со мной.
Она не спешила. Долго смотрела на его ладонь, будто сомневалась — не в нём, в себе. В том, стоит ли ещё раз поверить, ещё раз рискнуть. Но всё же — вложила свою руку в его.
Он повёл её по полутёмному коридору, где стены знали больше, чем слова. Они вошли в гостиную, и Романо подошёл к фортепиано — к её миру, тому, где она находила умиротворение. Он сел на скамью и мягко притянул её к себе. Лукреция села рядом, немного напряжённая, всё ещё не до конца верящая в происходящее.
— Расскажи мне о себе, Лукреция, — попросил он, но голос был требовательным, будто ему действительно было важно знать. Он опустил пальцы на клавиши, неумело, как человек, впервые касающийся истины.
Она присоединилась. Их пальцы заскользили по клавишам, и хотя игра была неровной — в ней уже была душа. Романо ошибался, сбивался, так же, как он часто ошибался в жизни. Но Лукреция мягко направляла его взглядом.
А потом она запела. Её голос был тихим, тёплым, проникающим под кожу:
— Она — как туманное утро в середине весны: немного загадочная, тихая, но с яркими акцентами. Фиолетовый — её любимый цвет, потому что он — о тайнах, мечтах и внутренней силе. В её комнате лавандовые шторы колышутся на ветру, на полке стоят фиалки и ирисы — её любимые цветы. Она говорит, что в их лепестках спрятана нежность, которую не каждый способен разглядеть.
Её голос дрожал, но не от страха. Это была искренность.
— Её любимая еда — паста с кремовым соусом и белыми грибами, а когда на душе особенно грустно — она печёт сливовый пирог, посыпанный сахарной пудрой, как снегом. Музыка — это её вторая душа. Когда она грустит — играет за фортепиано. Когда мечтает — поёт. Потому что музыка — это её способ говорить с миром, когда слов не хватает. Иногда она поёт тихо, себе под нос, но каждый звук у неё полон смысла.
Романо не прерывал. Он смотрел на неё, как будто впервые по-настоящему видел. И не только глазами. А внутри него медленно, почти болезненно, рушилось всё старое. Чтобы на обломках родилось новое.
Когда последние ноты растворились в воздухе, оставив после себя только тишину и дрожащие сердца, Романо аккуратно взял её ладонь и прижал к своей груди, туда, где сердце билось неровно, но искренне.
— Я услышал тебя, Лу... — его голос был хриплым, полным сдержанных эмоций. — И я буду стараться. Не на словах — на деле. Хочу заслужить твоё сердце, день за днём, шаг за шагом.
Он посмотрел ей в глаза, и в его взгляде не было ни капли гордости, только раскаяние.
— Прости, что раньше не понимал... Прости, что вел себя как подонок, как будто твои чувства ничего не значат. Прости, что не видел, как ты одна в этом доме, в этом браке... Прости, что заставил тебя плакать.
Он сжал её пальцы немного крепче.
— Прости, что не был рядом тогда, когда ты нуждалась во мне больше всего. Но я хочу быть рядом сейчас... если ты позволишь.
Лукреция молчала. В её взгляде еще бушевали сомнения, но лёд, сковывающий сердце, начинал трескаться.
— Я тоже хочу, Романо, — тихо сказала она. — Но я боюсь. Боюсь, что если снова поверю — будет больнее, чем прежде.
Она мягко высвободила ладонь из его пальцев, будто ставя между ними хрупкую, но важную границу.
Романо не стал удерживать её. Он почувствовал, как её пальцы скользнули из его руки — осторожно, почти виновато, и это прикосновение оставило после себя жгучую пустоту.
— Я понимаю, — прошептал он, едва слышно. — И не буду торопить.
Он отодвинулся, позволяя ей дышать свободно. В нём не было обиды — только осознание. Медленно, болезненно, но ясно пришедшее к нему: любовь — не приказ, не договор. Это выбор. И она должна сделать его сама.
Лукреция поднялась, прошла пару шагов к окну, остановилась. Свет с улицы вырисовывал на её лице нежную, почти призрачную грусть. Она обняла себя руками, будто боясь снова растаять в его прикосновениях.
— Мне нужно время, — сказала она, не оборачиваясь. — Я... я слишком долго жила в ожидании, что ты посмотришь на меня по-настоящему. И когда это случилось — я уже не знаю, верить ли.
Романо медленно поднялся с места и подошёл к Лукреции, остановившись в двух шагах от неё. Он не стал сокращать эту дистанцию — не телесную, а ту, что была выстроена между их сердцами. Он просто стоял рядом.
— Я буду здесь, Лу, — сказал он тихо, но с той твердостью, что не требует доказательств. — Даже если ты не откроешь мне дверь ни завтра, ни через неделю. Даже если тебе потребуется месяц. Или больше. Я не уйду. Не в этот раз.
Её плечи дрогнули, но она не обернулась. Взгляд был устремлён в ночь, за окно, где догорал последний отблеск света.
— Скажи... ты когда-нибудь любил? — её голос прозвучал тихо, но в нём таилась глубинная тоска.
Романо прикрыл глаза. Внутри что-то затаённое болезненно кольнуло.
— Да, — произнёс он после долгой паузы. — Но то, что я чувствовал тогда, — ничто по сравнению с тем, что чувствую сейчас. Это... другое. Настоящее.
— Как её звали? — спросила Лукреция, не давая себе отступить, будто хотела дойти до самой сути.
Он чуть опустил голову, и голос его стал хриплым, будто он пробирался сквозь воспоминание, покрытое пылью лет.
— Лаура... — сказал он. — Она умерла, когда я был ещё подростком.
В этот миг Лукреция наконец повернулась к нему. Её глаза были тихими, будто штиль перед ураганом. Там не было ревности, не было упрёка — только понимание, обострённое до болезненной ясности. И, может быть, в этой трещине между сердцем и гордостью впервые пробилась жалость. К нему. К ним обоим.
Романо сделал шаг вперёд, будто её взгляд стал приглашением. Он надеялся, что она тоже сделает шаг — пусть маленький, но навстречу. Но Лукреция осталась на месте. Нет, хуже — она отступила. Неуверенно, но отчётливо. Один шаг назад, за ним второй. И тогда он снова пошёл к ней, словно в этой медленной, почти церемониальной погоне заключался весь их брак — он пытался догнать женщину, которую с каждым шагом терял всё больше.
— Лу... — его голос почти сорвался с губ, будто молитва.
Но она продолжала пятиться, пока спина не упёрлась в оконную раму. И в этой короткой дистанции между ними, Романо почувствовал — страх в её глазах был не перед ним. А перед тем, что она может снова ему поверить.
Он остановился. Не стал навязываться, не стал тянуть руки, как раньше. Просто стоял перед ней — мужчина, раздетый до самой сути, без щита, без того ледяного фасада, что привык носить с юности.
— Я не прошу простить меня сейчас, — прошептал он, — просто позволь быть рядом.
Она закрыла глаза на миг, будто позволила себе слабость. И когда снова посмотрела на него — в её взгляде не было страха. Только решимость. И чувство, слишком долго сдерживаемое в груди.
И тогда она сама потянулась к нему, медленно, как будто всё ещё сомневаясь, стоит ли. Но их губы встретились. Осторожно. Сначала — как дыхание. Потом — как дрожь. И уже через мгновение, словно все стены рухнули, её поцелуй стал глубоким, голодным, будто она хотела выговорить через него всё, чего не могла сказать словами.
Его руки сомкнулись на её талии, притянули ближе, но не жадно — с благоговением. Словно он боялся, что она исчезнет, если он надавит слишком сильно.
И в этом поцелуе не было ни страсти прошлого, ни вины настоящего. В нём было то, чего у них ещё не было никогда — надежда.