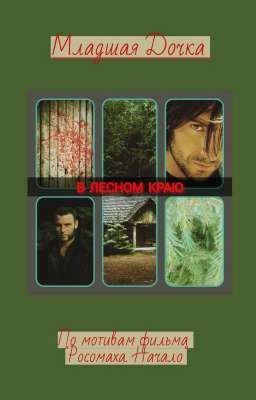3. Ивон
Канада, провинция Манитоба.1850 г.
Ивон знала, знала, что ничем хорошим для неё служба на новом подворье не кончится. Вот как чуяла, но выбора у одинокой сироты не было всё равно. Старый наниматель разорился, распустил всех своих батраков и прочую прислугу, а кого смог — пристроил к соседям. Добрый был старичок, только не всегда лучшие побуждения приносят пользу. Раньше девушка этого не знала, но теперь пришлось широко раскрыть глаза, чтоб пустить внутрь себя довольно горькую — да что там: страшную и откровенно гадкую — правду.
Она неслась по жутковатому вечернему лесу, не разбирая дороги, путалась в собственном длинном подоле, порой успевала отпрянуть от очередного древесного ствола, но чаще натыкалась, ведь те как будто плясали перед ней, нарочно дразня и издеваясь.
В глазах от бега и волнения всё кружилось, в висках стучало, а дышать становилось всё больнее, однако чудовищно мерзкий, будто намертво прилипший и волочащийся за ней хвостом голос подгонял и подгонял, не давая и самой короткой передышки.
— Стой, не убегай, моя красотка! Ишь, какая прыткая! Чего боишься? Не бойся — французы знают толк в любви!
Ивон вскрикнула (вернее, проскрипела пересохшим и перехваченным горлом) и, в очередной раз споткнувшись, свалилась под большое, обхвата в два, дерево.
— Иди к чёрту! — простонала она, не в силах больше встать и продолжить своё бегство. Под руки попалась коряга, довольно тяжёлая, но на подворье девка и не такое ворочала. Сдаваться она не собиралась — слишком омерзительно и слишком страшно. Надо встать! Как-то найти в себе силы и замахнуться.
— О, не ругайся так, детка, это тебя не красит. Да и я могу разозлиться.
Голос человека был пугающе уверен в своей полной власти над Ивон, а чужеродная картавость резала слух, лишь усиливая неприятное чувство.
К управителю той сыроварни, на которой Ивон теперь батрачила, приехал хозяйский отпрыск, а так как не всё на ферме было гладко (приказчик подворовывал), то сын владельца — противный на вид и скользкий внутри — потребовал загладить вину… развлечением. Сыровар, конечно, опешил: ну не было у него тут ни хороших вин, ни псарни для охоты. Так чем же тогда развлекаться-то? На что самоуверенный городской повеса ответил: «Красивой девицей. Вон той, хотя бы, что вёдра с молоком таскает».
И управитель фермы без зазрения совести отдал батрачку Ивон в полное распоряжение заносчивого, всесильного за счёт папинькиной влиятельности хлыща.
И теперь хлыщ этот, тоже сильно запыхавшийся, но с револьвером в руке, неторопливо шёл на неё, всем своим видом показывая, что той не сбежать и не отбиться.
Юная работница сыроварни, понимая, что деться и вправду некуда, кое-как поднялась по шершавому замшелому стволу и с твёрдым намерением бороться за свою честь и жизнь до конца подняла корягу над плечом, не зная даже, на что надеясь: что удастся огреть насильника до того, как он выстрелит, или как-нибудь по волшебству отбить пулю.
В глаза бросился свежий след от огромных когтей на древесной коре, и бедная Ивон похолодела ещё больше.
Медведь! Здесь недавно был самый большой и опасный из лесных зверей. Но, может, лучше пусть косолапый задерёт, чем этот картавый испоганит…
— Брось палку, дура неотёсанная! — голос из елейного стал волевым, командным; большой палец с холёным ногтем взвёл курок, и девушка застыла со своим жалким оружием в руках, уже понимая, что придётся, но так и не решаясь бросить. — Палки — это у мужчин. Так что не гневи Господа Бога, который создал тебя женщиной. И… На колени, соска, живо! Я не о таком развлечении просил, чтоб за тобой по всему лесу гоняться.
Ивон молчала, внутренне сжимаясь, но так и не желая признавать, что ей пришёл конец. Что сделает с ней этот человек без чести, стыда и жалости? Только ли надругается? А если пристрелит после, чтоб не заявила потом на него? Хотя кто ей, одинокой прислуге, поверит-то?.. Нет, уж лучше вот прямо сейчас на него с этим суком, а там будь, что будет!
— Пошёл к чёрту! — завизжала девка и ринулась на обидчика.
Выстрел, ударивший, казалось, в самое ухо, мгновенно отрезвил её. Ивон упала, чуть не проткнув бок собственной коряжкой, и по влажному, липкому от росы лесному мусору с дрожью поползла от того, кто победно навис над ней. Она будет пинаться, будет кусаться — лучше пусть француз рассверепеет и застрелит, чем она дастся ему.
Так думала Ивон, когда насильник рванул на ней красивый, собственноручно вышитый ворот нижней рубахи, когда схватил её за обнажившееся плечо и тут же был со всей силы укушен. Он заорал, отдёрнул руку и наотмашь, будто хотел прибить, ударил девушку по лицу.
Боль скрыла от Ивон и вечерний лес, и мучителя разом. Её схватили и придавили к земле, сильные пальцы, точно оковы, перехватили руки, затрещала ткань одежды на груди, а когда немного прояснилось в глазах, девушка вдруг увидела кошмарную какую-то, неправдоподобную, немыслимую картину.
Над нею навис француз с озлобленной, перекошенной в предвкушении рожей, а над ним самим, невидимый для него, ибо стоял сзади, возвышался большой, пугающе мощный силуэт. Это не человек был и не зверь, это было... что-то иное. Ивон в отчаянии завизжала, потому что никогда до сих пор не испытывала такого невыносимого, безумного страха. Француз был подл и омерзителен, но то был просто гадкий человечишка из самой обыкновенной плоти и крови.
А этот…
Зверь это был, одетый как человек, или демон из преисподней? Ожившая дикая мрачность леса? Сырая мертвенность оврагов под змеистыми оголёнными корнями кривых сухих осин? Сами вечерние сумерки, сгустившиеся и обретшие плоть? Дух леса? Чудовище из кошмаров?
Француз, всё ещё пребывавший в неведении, подумал, наверное, что добился наконец-то от жертвы того, чего и ждал: оцепенения, слёз и покорности, которая с каждым очередным ударом по лицу снизойдёт до молчаливой, с немой отчаянной мольбой в глазах. Он мог гордиться собой и наслаждаться содеянным, но длилась его эйфория недолго. Адская тьма над ним осклабилась, хищно сверкнув острыми клыками во рту, зло сощурилась и схватила за горло рукой, каждый палец которой имел по когтю — огромному и острому, как у медведя.
Не ожидавший такого насильник дёрнулся, захрипел и попытался освободиться от хватки того, кого даже не видел, но вторая когтистая то ли рука, то ли лапа в тот же миг оборвала все его жалкие надежды, вонзившись в живот.
И без того выпученные глаза, мгновение назад торжествовавшие, почти что вылезли из орбит. Француз, как и обиженная им только что девка, не мог ни застонать, ни вскрикнуть, а на него, скалясь даже не бешеным зверем — самим сатаною! — глядело чудовище и с наслаждением накручивало на руку внутренности своей уже обмякшей жертвы. И жутко, злобно, победно хохотало ей в лицо — хрипло, низко, прерывисто.
Ивон оцепенела от ужаса и как будто приросла к месту. Наверно, лучше б было, если б земля поглотила заживо, чем смотреть, не дыша и не в силах зажмуриться, на весь этот кошмар. Девка думала, что сойдёт с ума, или сердце сейчас остановится.
Нет, Ивон не была трусихой, и на все страшилки, которые любили травить люди, отвечала улыбкой: мол, придумают же. И даже на весть о том, что в округе появились оборотни, привычно махала рукой. Но кто же мог знать, что они, эти порождения тьмы, существуют?! И что она сама окажется столь неудачливой, что попадёт в кровавые лапы одного из них…
Страх раскалённым свинцом разлился по всему телу, заставляя бедное сердце разрываться в груди. Чудовище, ещё раз показав, как блестят в полутьме его зубы, отбросило от себя мертвеца вместе с лентой кишок, вынутых у того из брюха, и с каким-то нечеловеческим, болезненным наслаждением принюхалось к запаху своей окровавленной когтистой руки. Держа ладонь у самого лица, монстр часто и прерывисто дышал, дрожал всем своим крупным (Ивон казалось, что просто громадным) телом, а полузвериные глаза его, непроглядно-чёрные от расширившихся зрачков, пылали безумием.
Ивон бы убежать, куда глядят глаза и несут ноги, да она по-прежнему не могла шевельнуться. Даже моргнуть не получалось, даже дышалось как-то слабо и поверхностно, и потому она продолжала во все глаза смотреть на исчадье ада — не иначе! — и невпопад молиться, чтоб оно, это исчадье, продолжало нюхать чужую кровь на своей руке, а напуганную девушку на земле не заметило бы.
Однако надеяться на такое было глупо с её стороны, и оборотень — Матерь Божья, помоги, Заступница! — к ней всё же обернулся. Он улыбался, но так, будто накурился опия. И… и люди так страшно не улыбаются, даже самые жестокие. Так и звери не скалятся. Лишь порождения зла, необъяснимого и потустороннего, даже от имени которых леденеет нутро и останавливается сердце.
— А ты чего не убежала-то? Хочешь пойти со мной?
Девушка взмолилась о смерти, хотела выпросить у него один удар страшенными когтями, но язык и губы по-прежнему молчали, будто их разбил паралич.
Оборотень, поборов в себе судорогу своего зверского наслаждения, склонился к ней, и она вдруг увидела молодое, широкое мужское лицо, заросшее уже почти по-взрослому, но с чем-то неуловимо юношеским, ещё довольно мягким в своих чертах. Тёмные, чуть курчавые волосы, прямой крупный нос, едва различимые в сумерках серые ободки вокруг зрачков, красиво изогнутые густые брови — всё это было вполне человеческим. И на мгновение даже почудилось, что перед ней симпатичный статный парень, только что выручивший её из беды. Склонился к её обнажённой ключице, к шее, трепетавшей жилками, и рассматривает во все глаза, раздувает крылья носа, к чему-то шумно принюхиваясь, касается мягкими губами груди, щекочет её волосками на подбородке.
А её, миг назад всю заледеневшую от страха, начинает обжигать изнутри огнём, будто именно туда, вниз, зачем-то опустилось до того замершее в ужасе сердце.
— И правда, хочешь, — выдохнул ей в лицо красивый юноша из геенны огненной и резко дёрнул вверх, поднимая на ноги. — Ну, пошли.