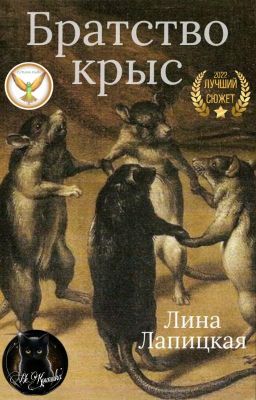Глава 29. Повелитель Йоля
От нового знания кружится голова. Я будто прожил еще одну жизнь, вместившую сотни человеческих, увидел мир так, как не мог видеть его смертный. Не уверен, что я все понял, но пока я и пошевелиться не могу под навалившимся на меня грузом. Слишком уж слаб человеческий разум, чтобы вместить память дракона.
— Я был другим, когда Зигфрид убил меня. Я был старым вонючим змеем, плюющимся ядом. Почти потерял себя... Сотни лет во мраке. Ты можешь себе представить? Нет, не можешь. И через двадцать пять лет, жалкую четверть века с тобой я такой, как в свои молодые годы. Будто нет проклятия, и я снова чист... Что со мной происходит? Как ты это сделал?
— Ты думаешь, что я знаю ответ?
— И правда, что ты можешь знать, дитя человека? Может, в этом и причина, — шумно вздыхает Фафнир.
Причины его великолепия меня мало волнуют. Есть как есть.
— Ты видел ее... мою мать? — я все еще надеюсь, что он скажет «да».
— Нет, прости. Когда я осознал себя, мы были в склепе Нибелунгов. Я и ты. Никого больше. Младенцы — неудобный инструмент. Способны разве что орать и портить пеленки. И голова не держится в довершении всего. Даже если бы ты владел магией — какой знак можно сложить этими мягкими, непослушными пальчиками, какой гальдрастав начертить? Какую песнь спеть, кроме «уа-уа»? Дальше все, как в легенде: на крик пришли кошки, а кто еще мог прийти? Тебе вздумалось родиться, а меня против воли впихнули в твоё тело в самую неподходящую ночь в году: Йоль, снежная буря, да и одноглазому старикану взбрело в голову поохотиться по привычке. Какой бы человек пошел на кладбище в такую ночь? Только тот, кто принес тебя в Усыпальницу.
— Почему ты раньше ничего не рассказывал?
— Почему? Потому! Как ты это себе представляешь? Здравствуйте, я дракон из сказки, прошу любить и жаловать? Да ты бы свихнулся.
— Я чуть не свихнулся от того, что ничего не знал о себе. И о тебе.
— О тебе мы до сих пор мало что знаем, если это тебя утешит — дракон отворачивает морду. — Чего уж таиться, обнаружив твое присутствие, я решил избавиться от тебя при первом удобном случае. Допустим, когда ты станешь уверенно ходить и научишься хоть что-нибудь делать самостоятельно.
— Но ты это так и не сделал, хотя я был маленьким и слабым.
— Ой, а сейчас ты большой и сильный. Не смеши. Захочу — убью.
— А все эти двадцать пять лет жизнь моя была так спокойна и безопасна, что удобный случай не подвернулся?
— Не умничай. Ты же знаешь, что я пытался. Мне надо было вытравить твою сущность, не повредив свою... и сберечь тело. Это нелегко.
— Так давай. Кто тебе мешает?
Фафнир выпускает рыжие завитки пламени. Трясет головой, будто пытается избавиться от неприятных и назойливых мыслей.
— Не могу... Не могу и все. Но ты меня не искушай. А то рассержусь и пыхну. Будет жаль.
— Тогда я тебя тоже не буду убивать, — соглашаюсь я.
— Ну и наглый же ты сукин сын, — рычит он.
— Метаморфис, — бросаю я.
Дракон ревёт и выгибается, как от удара плети. Когти отчаянно скребут по гладкий камень. Это слово всё ещё имеет силу.
— Ты... я доверился тебе!
— Больше никаких клеток. Фафнир, — говорю. — Ты свободен.
— А как же «метаморфис»?
— Только если надо тебя разбудить. Ты же дрыхнешь как убитый. Другой силы у слова больше нет.
— И ты так легко лишишься власти, за которую дорого заплатил?
— Да запросто. А если ты этим воспользуешься, то превратишься в старого вонючего змея, плюющегося ядом. Ты, похоже, желанием не горишь.
— Тогда по рукам? — предлагает он.
— По рукам, — я протягиваю руку, но дракона больше нет. Вместо него мужчина — одно лицо с тем, что я видел однажды, глядя на себя в зеркало в спальне Гретель, но старше. Он носит бороду, и волосы у него ниже лопаток. Глаза темные, древние, всезнающие, но с мальчишеским блеском и азартом в глубине. Он оборотень, а я его потомок — кровь дракона. Все сомнения растаяли, как снег в солнечный день. Стоит нам пожать друг другу руки, как мир переворачивается и я вновь оказываюсь в ледяной воде.
Холод бритвами врезается в мышцы, замораживает кровь в жилах.
Ты — дракон. В твоей крови пламя. Ты все преодолеешь. Но нет бы тебе, дураку, до летнего солнцестояния подождать...
Эй, дедуля, ты живой? Вот бы обернуться драконом.
Не трави душу, смертный.
Сила пульсирует внутри. Становится немного теплее. Судорожно, преодолевая сковывающую боль, пытаюсь вынырнуть... меня тут же подхватывает течение.
Отец Рейн, я чувствую его. Он сердится. Не любит, когда его тревожат в спячке.
Подняв голову, я все же вижу сквозь лед свет звезд. Свет тусклый и расплывчатый, но то, что я его вижу, дает надежду — лед прозрачный, без молочной белизны. Тонкий. Лоренца. Дети. Я должен вернуться домой. Борясь с течением, я бросаюсь вверх. Хватило бы воздуха в легких. Последним яростным толчком, бьюсь об лед плечом, согнутой в локте рукой, головой. Выбирать не приходится — течение норовит схватить и утащить за собой, а ног я уже не чувствую. Лед трещит, но не подается. Воздуха хватает на еще одну попытку. Удар. Скрежет и всплеск. Получилось? Неужели получилось... но течение вгрызается в меня зубами, тянет за собой непослушное тело. Отец Рейн не любит отпускать свое.
Еще один рывок. Пока не стало поздно. Поздно... Холод отнимает силы, крадет остатки воздуха. Сознание мутится и отступает. Небо и звезды... Из сияющих точек они превращаются в дрожащие ручейки света и, наконец, в сплошной свет, застилающий глаза. Веки закрываются сами собой.
Спокойно, мальчик. Не барахтайся. Задержи дыхание.
Что там задерживать? И дальше что? Идти ко дну? Я и так...
Делай, что тебе говорят, и Лоренца нас дождется.
Прикосновение пронзает все естество. Я чувствую рядом с собой чужую плоть... Холодная грудь прижимается к моей груди, руки обнимают меня, длинные волосы змеями сворачиваются вокруг моей шеи. Это женщина. Я чувствую, что она дышит. Спасибо, не утопленница, поднявшаяся в ночь Йоля. Для предсмертного бреда не так уж и плохо. И тут до моего умирающего мозга доходит: она дышит в воде.
Доверься. Не мешай ей...
В руках еще есть немного силы, и я обнимаю стройное, даже хрупкое тело. На мгновенье открываю глаза.
Ундина... Вилда? А рядом с ней конь. Конь?!
А что это, по-твоему? Рыба? Келпи как келпи. Водяная лошадь, не слышал?
Ундина заталкивает меня на спину келпи. Привычка и человеческая природа заставляют меня ухватиться за гриву, но онемевшие пальцы не слушаются. Вилда забирается сзади, обнимая меня, сжимает мускулистую шею келпи. Конь движется с такой скоростью и силой, что я тут же захлебываюсь ледяной водой. Легкие стремительно тяжелеют, глаза затягивает пелена. Ундина вздергивает меня вверх, приводя в чувство и выталкивая часть воды.
Лед ломается с оглушительным треском. На поверхность мы вылетаем с бурным всплеском и фонтаном брызг, который я не вижу, потому что вода заливает глаза, течет с мокрых волос и из всех отверстий, с кашлем вырывается из горла. Мне трудно удержаться на вздыбленном коне, но ундина чудом справляется и с ним, и со мной... Еще труднее не свалиться, когда водяная лошадь, совершив резкий скачок, приземляется на лед. Лед трещит и ломается под копытами, но волшебного коня это не задерживает. Он ловко перепрыгивает со льдины на льдину. Одна кренится настолько, что круп и задние ноги поглощают черные воды Рейна. Я не скатываюсь, благодаря нечеловеческой силе ундины, да и сам уже изо всей силы цепляюсь руками за шею коня и сжимаю бедрами его бока. Не уверен, что ему это по душе, но выбирать не приходится. Келпи прыгает на твердый лед... В глазах темнеет, и я будто проваливаюсь в глубокую яму.
Прихожу в себя, когда из меня выжимают и выколачивают воду. Переворачиваюсь, едва не отрывая ото льда примерзающую кожу. Выплевываю и выблевываю остатки жидкости. Откуда столько? Вроде немного хлебнул. Стараюсь дышать носом. Воздуха не хватает, но каждый хриплый вдох обжигает лёгкие холодным пламенем, а сердце скачет, как птица, застрявшая в силке. Поднимаю глаза. Вилда даже не дрожит от холода и не обращает внимание, что ее мокрые волосы норовят стать сосульками. Конь. Ослепительно белый жеребец, не меньше моего Локи размерами, трясет головой. С гривы катятся брызги. Некоторые из них на лету превращаются в снежинки. Интересно, сколько я протяну на таком морозе? Мы находимся примерно на середине Рейна. Слева башни и колокольни Вормса, справа — Драконья скала с угрюмой громадой Кэмена. Расстояние равное, вроде бы и недалеко, но в нынешней ситуации — целая вечность.
— И как тебе купание в Нибельзее, рыцарь-дракон?
Соседи, черт бы их побрал, знали и не сказали. А если спросить, то они радостно объяснят, что видели что-то неведомое и необъяснимое.
— Не удивляйся. Иногда ты слишком явно отбрасываешь тень, и его можно разглядеть. Он большой и красивый. И он все еще с тобой
— М-м-ы... — стучу зубами, пытаясь растереть и размять пальцы, — ... т-теперь в мире.
— Хорошая новость, но будет баловаться, а то хлипкий человек замерзнет и такого дракона потеряем. Лезь на келпи и... видишь, там приближаются огни.
Да, я замечаю что-то мерцающее за деревьями на берегу...
— Это подмога. Надеюсь. Скачите скорее. Ах да, погоди. Сейчас что-то тебе наколдую...
В руке у нее появляется короткая шуба из бархата и горностая.
— А попроще никак?
— Не перебирай харчами, мальчик. Видишь ли, я могу стащить какую угодно вещь у своего любовника, а у него такого барахла полно.
Она помогает мне встать, запихивает мои руки в шубу и толкает к коню.
— А ты? — кутаюсь в горностай.
— Я по Рейну. Встретимся в «Ивах».
Вилда ныряет в полынью.
— И, рыцарь, — говорит она мне на прощанье, — Гляди, яйца себе не отбей.
Задача и в самом деле не из легких, если ты пытаешься не свалиться с коня и не замерзнуть насмерть. Седла нет, зато шуба при мне. Да и конь не конь, а келпи, который неизвестно, что может учудить. Тут только яйца беречь.
Выкашляв короткий смешок, я бормочу про дракона и горячую кровь и, запахнув шубу, вжимаюсь в шею белого жеребца. Мы несёмся к берегу.
— Хорошая лошадка, умная, — шепчу я ему.
Он заходится в насмешливом ржании. Разное я слышал о келпи, но вот никогда не слышал, чтобы они так себя вели. Заманить и утащить в пучину, разорвать и забить копытами в сердцах. Ни одной сказки о добреньких водяных лошадках на ум не приходит.
Огоньки, приближавшиеся стремительно, замирают на берегу. Пламя рисует фигуры, пытаясь привлечь внимание. Слава Богу или богам, кто знает, что происходит в ночь Йоля... Нас видят и нам хотят помочь.
Кричать не получается, выходят какие-то громкие, мало вразумительные хрипы, но зато прорывается драконий рык.
— Один! Тор! Вальхалла!
Подождет твоя Вальхалла.
— Вот это конь, ётун меня дери! Какой конь!
Келпи ржёт радостно и протяжно. Берег крутоват. Жеребец отступает. Понимаю, что сейчас будет, и крепко обнимаю конскую шею. Келпи берет разбег. В полёте дракон довольно урчит, я ору на разрыв связок, хоть казалось, что все во мне уже вымерзло. Пушистый нетронутый снег разлетается во все стороны, тает на губах. Стучащие зубы и облачко пара от дыхания дают надежду, что я все еще жив.
Сани, запряженные двумя лошадьми. Рядом женщина, лицо которой прикрыто капюшоном, и двое мужчин. Курт и Клаус, слуга госпожи Лизы.
Скатываясь с коня в руки Курта.
— Вла-дычица, — никак не удается унять зубы, а тут еще и все тело начинает трястись...
— Что это вы придумали, мессир? — спрашивает она, забирая у Клауса фонарь, чтобы лучше видеть моё лицо. Хотя ее интересует не только лицо — фонарь медленно опускается вниз, высвечивая порезы и ссадины на груди и животе. Моё скукоженное причинное место ее вряд ли сколько-нибудь занимает, но я все же поплотнее заворачиваюсь в шубу.
— И на что это вы похожи? Может, вы вообразили, будто не из плоти и крови? Или что у вас девять жизней?
Курт безжалостно стягивает с меня шубу, быстро обтирает холстиной, как коня в пене, и чуть не силком затягивает в сани. Пытаюсь зарыться в шкуры и одеяла, но госпожа Лиза не дает.
— Нам только обморожения не хватало! — она вручает фонарь Клаусу, стягивает перчатки.
Ее руки замирают в дюйме от моего тела, из пальцев будто вырывается поток обжигающего тепла. Сначала немного больно, но постепенно я привыкаю и даже немного согреваюсь.
— Вот и все, — удовлетворенно говорит Владычица, — Не стала бы расходовать магию на такую малость. Но в ночь Йоля можно себе позволить.
Она быстро накидывает на меня сорочку, я только руки в рукава просовываю. Брэ и толстые шерстяные шоссы натягиваю сам. Насколько я могу судить при скупом освещении, они белые с голубой полосой. К счастью, их более-менее скрывают мягкие сапоги до колена. В самое сердце меня поражает лазоревый пурпуэн расшитый какими-то цветочками — маргаритками что ли? — огромные ватные плечи и грудь колесом. Красота.
— Не ваш стиль, знаю, — госпожа Лиза проворно застегивает щегольские крошечные пуговицы — их полсотни, не меньше. Одежда холодная и совсем не греет.
— Курта мы подобрали в «Трех ивах», где он отмечал Йоль, — продолжает Владычица, — А я, уж извините, не успела подготовиться. У моего мужа все было такое. Вам ли не знать... В следующий раз, как надумаете топиться, поставьте меня в известность.
— Я не т-т-топился.
— Просто решили искупаться?
— К-к-ак вы уз-нали?
— Вы недавно назвали меня Владычицей.
— Озера? — наверно у меня на физиономии написано, как медленно и бестолково ворочаются мои мозги. Владычица Озера.
— Прекрасно, — Лиза де Шалон трет мои волосы, куском холста, вытряхивает из них снег и льдинки. — Может, вы даже догадываетесь какого?
— Ниб-б-бель-з-зе-е?
— Именно. И я точно знаю, что туда попадает и где должно всплыть. Да сидите же вы смирно!
Она нахлобучивает на меня шаперон и ловко обматывает длинный хвост вокруг головы.
— И что вас туда понесло?
— У меня были кое-какие вопросы, — говорю я, стараясь поменьше заикаться. Она понимающе кивает.
— И вы получили ответы?
— Да.
— Остаётся радоваться, что вас выбросило недалеко от города. Могу только догадываться почему здесь. Она с тревогой вглядывается в горизонт.
Поверх пурпуэна набрасываю шубу, но все равно не могу согреться. Курт вливает в меня марк, и я присасываюсь к баклаге, как младенец к сиське. Приходится отнимать насильно, но зато теперь я могу говорить почти без запинки.
— Я не знал. Честно говоря, вообще не думал, что будет потом...
— Даже не сомневаюсь. Могли бы хоть посоветоваться. Я бы вам помогла. Глупая смерть от переохлаждения не украсила бы историю вашей короткой жизни, уж поверьте.
Наконец госпожа Лиза опоясывает меня мечом.
— Меч из рук Владычицы Озера — это всегда кое-что значит, мой рыцарь.
— Завтра все верну.
— Оставьте себе... — отмахивается госпожа Лиза.
— Благодарю, но куда б мне это надеть? Кроме меча, конечно.
— Морицу подарите. Он оценит.
— О да! Негодяй опять вздумал вырасти. Не напасешься на него. А уж теперь, когда у нас еще и младшенькие завелись...
Замолкаю, потому что порыв ветра чуть не валит с ног.
— Готовьтесь! — кричит Лиза. — Они близко!
Келпи протяжно ржёт.
Дьявольщина, я же почти забыл... а ведь ночь Йоля... Головы сами собой поворачиваются в одном направлении. Ветер рвет плащи и капюшоны. Дикая Охота мчится на нас, неся с собой бурю.
— Вот почему мы здесь, — говорю я. Мой взгляд притягивает движущаяся по льду темная фигурка. И она важнее Охоты. Она, черт возьми, важнее всего на свете.
— Поможешь? — спрашиваю я у келпи. Водяной конь кивает, и меня даже не удивляет, что он понимает человеческую речь. Курт и Клаус споро сооружают что-то вроде сбруи. Взнуздать келпи никто и не пытается — понятно, что не даст. На него надевают некое подобие ошейника из ремней, к которому крепят веревку, пропускают по груди промеж ног и обвязывают по холке. Так и конь свободен, и мне есть за что хвататься. Я вскакиваю на келпи, и мы мчимся, надеясь опередить валькирий.
Катриона. Я стараюсь не думать, как ей удалось выбраться из города в столь поздний час. Она бежит навстречу ветру и Дикой Охоте. Труд и Хильд покинули охотников и летят к ней. Орут и улюлюкают. Крылья их коней шумно разрезают морозный воздух.
— Опять ты! — смеются они, — Вот упертый!
Опережаю их на вздох, успеваю спешиться и схватить Катриону. Келпи отважно подрезает валькирий, прикрывая нас. Крылатые кони вздыбились, но наш крупнее и всячески показывает, что готов сражаться. Ржет, выгибает шею, бьет копытами, кусается.
— И жеребенком обзавелся!
Валькирии беззаботно смеются, хоть их кони пятятся. Им нужно место для разбега, чтобы взлететь. Долго их теснить келпи не сможет, но довольно, что отогнал.
Обнимаю Катриону, кутаю в свой плащ. Она трясется от холода, но отчаянно вырывается. Я для нее лишь препятствие на пути к призрачному счастью.
Валькирии взлетают и кружат у нас над головами. Келпи не сдается и, подпрыгивая, ухитряется кусать крылатых коней за ноги. А прыгает он на изрядную высоту.
— Сдержи свою собачку, — кричит мне рыженькая Хильд.
— Он свободен, — отвечаю. — С ним и договаривайся.
— Келпи, угомонись! — орет Труд, беленькая. — Мы здесь не за тем, чтобы пролить кровь.
— Иначе мы давно бы убили этого.
— Да неужто? — удивляюсь я, — Рискнули бы сразиться?
— Заткнись, смертный, и не нарывайся. Отдай девушку миром. Время пришло.
— Что-то не похоже, чтобы она хотела остаться с тобой.
— С чего бы ей брыкаться и кусаться, если вы связаны кровавой лентой?
— Не только лентой, — возражаю. — Она подарила мне кольцо, разделила со мной хлеб и приняла в дар коня.
— А вот ложе-то с тобой не разделила. Не хочет она тебя.
— А может у нее спросим? —предлагаю я. — Так, для разнообразия? Заодно и узнаем, чего она хочет.
— Зачем спрашивать? Разве ты не видишь? Наша сестра хочет быть с нами и своим отцом. Ты не смеешь нам мешать.
— Еще как смею! Вы наслали на девушку наваждение, чтобы отнять ее у семьи. Разве так дела делаются?
— Именно так они и делаются, — уверяет меня Хильд. — Слышишь зов судьбы и крови — идешь. А ты только мешаешь свершиться судьбе, дурень упрямый.
— Сегодня ночь Йоля. Мы ее заберем, даже если придется убить тебя. Отпусти ее добром, и разойдемся друзьями.
Нет, девочки, дружить мне с вами что-то не хочется.
— Эй, ты! — ору я «драконьим» голосом, я чувствую прилив сил и призрачные крылья за спиной. Слова родятся сами собой, будто мы с Фафниром и впрямь одно целое:
— Дикий Охотник, или как ты себя сейчас называешь, страшась христианского бога? Можно тебя на пару слов?
Голова высокого всадника в серебристом шлеме поворачивается ко мне. Он направляет коня в мою сторону. Вслед за ним Дикая Охота спускается со своей невидимой небесной дороги.
— Фафнир, — говорит Охотник, когда его восьминогий конь, точно сотканный из лунного света, останавливается передо мной. Шлем древнего образца с наносником не слишком скрывает лицо, и я вижу, что у него только один глаз живой, второй — неподвижный, стеклянный. В длинных темных волосах и бороде поблескивает серебро. От него исходит сила, но она не подавляет, не прижимает к земле, как было на крыше дома де Рейнов несколько дней назад. Он выглядит обезоруживающе человечным. Ни надменности, ни отчужденности, ни жестокости. Мелкие лучистые морщинки в уголках глаз, мягкая улыбка.
— Давно не виделись. Самое время, раз ты больше не прячешься за смертной сущностью. Даже жертву принес. И должно быть о чем-то попросишь...
— Кланяться тебе не буду и в ноги не упаду. Не жди.
— Ты удивишься, но это никогда и не требовалось.
— Ты забрал меня у Хель и запихнул сюда?
— Сдался ты мне, сделки с Хель из-за тебя заключать? Проку с тебя в Рагнарёк в таком виде! Слава твоя в прошлом, Фафнир. И сила. Прошлого не вернуть.
— Ты же всеведущ, Высокий. Знаешь, кто и зачем это сделал.
— Узнал бы, но мой в чем интерес? У Локи спроси своего. Не ему ли ты служишь? А, тролли тебя побери, не навязывай мне свою песнь.
— Попытаться-то стоило.
— Ты, Фафнир, лучше скажи, почему не отпускаешь мою дочь? Сразу оговорюсь, об этом «возьми меня вместо нее» забудь. Обмен неравный. Если бы мне был нужен старый мертвый змей в человеческом теле, я бы призвал тебя, а не гонялся за юной девой. Жертву ты принес достойную, и лишь потому я с тобой говорю. Но дочь тут при чем? А может, ты хочешь ее поменять? Отдашь ее, если я скажу, почему ты в смертном теле?
— Да чтоб тебя Фенрир сожрал в Рагнарёк. Меняться надумал!
— Нет — значит нет, — с удивительной легкостью уступает Всеотец. — Свататься будешь? Других разумных причин я не вижу.
Хотел бы я знать почему отцы Катрионы, земной и небесный, задают мне этот вопрос.
— Со сватовством повременим. Она живой человек, а не вещь, и ни одному из нас не принадлежит. Ты же пытаешься заполучить ее обманом, наслав на нее заклятье. Сними его. Дай Катрионе, дочери Рикарда, ясно высказать свою волю.
— Какая приятная неожиданность! — Всеотец резко поворачивается. — И Владычица с нами.
Я даже не заметил, когда подошли госпожа Лиза и Курт с Клаусом.
— Рассудишь нас, мудрая?
Госпожа Лиза кланяется по-мужски, как в старину. С уважением и достоинством, но не низко.
— Это честь для меня, Всеотец.
— Издревле валькирией становилась та, что услышала зов и пришла. Да, ее согласие спрашивали, но, честно говоря, когда уже поздно было отказаться. Участь валькирии была столь почетна... Как думаешь, Владычица, я и в самом деле должен спросить согласие у девушки, которая не единожды откликнулась на мой призыв?
— Я думаю, Всеотец, что времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. А если не меняемся, то гибнем.
— Уж я-то меняюсь. Вон церковники меня в дьяволы записали.
— Но Рождественский дед — это тоже ты, Всеотец.
— Да, так и до святого великомученика недолго докатиться. Так и быть, раз я Рождественский дед, — при этих словах его волосы и борода седеют до белизны. — Проявлю немного доброты.
Охотник легко соскальзывает с коня и приближается к нам. Катриона замирает в моих объятьях, и я отпускаю ее. Она делает шаг навстречу Всеотцу. Ас кладет ладонь ей на лоб, потом на сердце, и взгляд девушки проясняется. Она отступает, в полной растерянности смотрит на Дикую Охоту и ее предводителя.
— Да, дитя, это не сон. Здесь есть люди, которых ты знаешь, они хотят забрать тебя.
Катриона поворачивается ко мне.
— Мессир Робар! — она вздыхает, — Вас всегда встречаешь в самых неожиданных местах.
— Уж кто бы говорил. Всем спасибо, а нам пора домой. Самое время вернуть девочку родителям...
— Нет, — вмешивается Всеотец, — Не тебе это решать. Девушка должна сама выбрать. Мы так договорились? Что он может тебе предложить, дочка, кроме себя? Ты и сама понимаешь, что это сомнительное и ненадежное приобретение. Став моей дочерью, бессмертной валькирией...
— Напоминаю, — вмешивается госпожа Лиза, — Некоторые валькирии всё-таки умерли.
— Одна. Влюбляться и кидаться в погребальные костры ее никто не заставлял, — ас обиженно разводит руками, — Ты же будешь умницей, Катриона? Сохранишь свое сердце нетронутым? Тысячу лет никого не удочерял, но ты достойна стать валькирией. Посмотри на моих девочек, дитя. У тебя будут такие же доспехи, оружие и крылатый конь.
— Правда? — шепчет Катриона, восхищенно глядя на валькирий.
— Даже не сомневайся! Тебя ждёт блестящее будущее. Да, став валькирией, ты не сможешь выйти замуж, не родишь детей. Но никто не мешает тебе свободно выбрать любого мужчину. Хоть этого, — он кивает на меня, — Если он тебе нужен. А он может пригодиться, раз так борется за тебя, что уже в пятый раз встаёт на моем пути.
— В пятый? — Катриона бросает на меня удивленный и встревоженный взгляд.
— Ты будешь сражаться, — продолжает Всеотец. — Дарить мужам победы в битвах и забирать в Вальхаллу павших героев. И у тебя будут сестры, такие же прекрасные, свободные и воинственные, как ты. Тебе не придется тратить время на вышивание со скучными наседками, возиться с грязными пеленками, стягивать сапоги с уставшего мужа. Вы будете делать все, что захотите: носиться по небу на крылатых конях, охотиться, сражаться, кутить и веселиться наравне с мужами. Что может быть лучше? Как тебе такое, девочка?
— Это заманчивое предложение, — признает Катриона, помолчав.
— Так ты согласна? Конь, доспехи и меч для моей тринадцатой дочери.
Валькирии выводят коня и несут доспехи. Глаза Катрионы сияют чистым восторгом, и я понимаю, что все пропало.
— Катриона, подумайте о вашей семье, о друзьях. Вы никогда их не увидите. Может, вы и не хотите замуж, но вы почти ребенок. Вы не знаете себя... Не знаете жизни.
Сомневаюсь, что она слышит мои слова. Она любуется серебристыми доспехами, пробует меч, разумеется, он идеально ложится в руку. Девушка треплет гриву белого крылатого коня.
Это ее мечта, с болью и горечью признаю я. Кто я, чтобы ей мешать? Что я могу дать взамен?
— Так ты готова последовать за мной, дитя? — спрашивает Охотник.
Катриона оборачивается к асу и опускается в глубоком реверансе.
— Благодарю, сир.
Заметно, что она тщательно подбирает каждое слово, но задача не из легких. Вряд ли в «Зерцале юных дев» описано, как подобает обращаться к языческим богам.
— Это честь для меня. Мне приятно, что вы выбрали и призвали меня. Я даже не мечтала стать валькирией... Но я не готова отказаться от своей скромной жизни ради столь высокой участи. Боюсь, я для этого слишком приземленная...
— Ты хорошо подумала, дитя? Надвигается мор. Мир смертных полон опасностей. Ты можешь умереть, потерять все, что тебе дорого.
— Это так. Но приняв ваше предложение, сир, я потеряю все, что мне дорого уже сегодня.
— Я принимаю твой выбор, Катриона, дочь Рикарда из рода Нибелунгов. Пусть ты и не захотела стать моей дочерью, ты дорога мне. А сегодня Долгая ночь и у меня есть подарок для тебя.
Катриона опускается в глубокий книксен. Всеотец легонько приподнимает ее за локти.
— Всю жизнь тебе будет сопутствовать удача, — говорит Один очень тихо. Дальше он переходит на шепот, и я не могу разобрать, как ни прислушиваюсь.
—...и даже самая верная рука дрогнет, направив клинок в твоё сердце, — заканчивает заговор Всеотец. — Будь счастлива, Катриона, дочь Рикарда. А от этого, — божественный палец тыкает в меня самым невежливым образом, — Держись подальше. Невозможно предугадать, победит твоё благословение его проклятие или нет.
— Смею надеяться, сир, что он сам победит любые проклятия.
Катриона отступает ко мне и сжимает мою руку.
— И вот диковинка, — взгляд Одина упирается в келпи. — Впервые вижу крещеного коня.
Изо всех сил сохраняя невозмутимое выражение, я кошусь на келпи. Тот только фыркает. И с одной стороны смотрю, и с другой. В призрачном свете, исходящем от Охоты, я замечаю то, что раньше не мог разглядеть — разноцветные глаза.
— Нам пора, — Охотник вскакивает на своего невероятного коня. — Не прощаюсь!
Мы смотрим, как Дикая Охота возвращается в небо. Мои подружки валькирии машут мне на прощание.
— Буду скучать, девушки! — кричу им.
Они хохочут, шлют мне насмешливые воздушные поцелуи. Кто бы мне раньше сказал, что валькирии такие веселые?
— Меня ноги не держат, — Катриона виснет на мне, и я подхватываю ее на руки.
— Вы же не из обморочных девиц, — напоминаю.
— Вот только ноги это понимать отказываются... Кто это был? Неужели...
— Не называйте имя, — предупреждает госпожа Лиза. — Чего доброго вернется. Пусть будет Охотник. Вот так ночка... не так часто встретишь бога.
— Языческого, — замечает Катриона.
— Какой праздник, такой и бог, — говорю я.
— И он на вас сердится, мессир...
— ...потому что я лишил его новой валькирии. А вы что вытворяете? — ворчу я, — Сбегаете в валькирии... а мне гоняйся за вами!
Катриона обнимает меня, прижимается крепко и доверчиво, по-детски.
— Я вовсе не хотела. Думала, мне снится... Простите меня. И спасибо вам, если бы я только знала... я никогда бы... И вам, госпожа Лиза, спасибо. Без вас бы я пропала.
— Без него — да, — говорит госпожа Лиза. — Меня не стоит благодарить. Нас ждут в «Трёх ивах», поспешим. Погреться не повредит.
— Да поставьте меня на ноги! — требует Катриона. — Я же не обморочная девица, как вы справедливо заметили.
В «Трех ивах» слишком много света для столь поздней поры. Нас ждут. Слуги открывают ворота еще до первого стука. Гретель и Лотен выбегают на крыльцо:
— Как вы? Что так долго? — волнуется Гретель — Мама давно вернулась.
— Прости, что не мог помочь, — говорит Лотен, — Я из морских, да и Рейн мелковат для меня.
Спрыгиваю с келпи, и тот опрометью уносится в конюшню. До чего ж странное поведение для существ его вида.
— Забудь, я и так твой должник. Пришлось задержаться. Поболтать с Охотником.
— И как он? —интересуется Вилда, выходя на крыльцо, — Сто лет не виделись.
Нас усаживают у очага, кутают в пледы и немедленно выдают по кружке горячего вина. Рагу почти готово, но перед нами сразу ставят душистый горячий хлеб, сыры и колбасы.
Катриона помнит фройляйн Нойман... Как, уже фрау де Фриз? Примите поздравления. Но ей приходится заново знакомиться с фройляйн Вилдой, которая оказывается сестрой-двойняшкой фрау де Фриз.
— Мои братья тоже близнецы, но вы даже больше похожи. У вас такое уютное заведение...
— Увы, мы его очень выгодно продали, — сообщает Гретель. — Собираемся переезжать после святок.
— Как? Куда? Вы же недавно приехали!
— Не так уж и далеко, по Рейну, — обворожительно улыбается Лотен, — Ближе к морю. Мне, конечно, нравится одно маленькое пиратское поселение на Адриатике — река Неретва, горы, море. Но дамы не разделяют моих восторгов.
— Там, должно быть, мор нынче, — вздыхает Катриона.
— Далековато от отца Рейна, — вставляет Вилда.
— Да и пираты не самое приятное соседство, — рассудительно замечает Гретель.
— Любимая, что тебе эти пираты? — смеется Лотен, — Даже если они не вымерли от чумы. Ты бы быстро их возглавила, поставила дело на широкую ногу и повела бы грабить Венецию.
— Ну, не знаю. Где ты будешь брать свои книги в этих диких местах?
— Ты же завоюешь для меня Венецию. Там книг много.
— Оставайтесь, — предлагает госпожа Лиза. — Вы вдохнете в Вормс новую жизнь.
— Да Вормс и так город не из скучных — вечно тут что-то происходит. Еще и мы...
Я же не столько прислушиваюсь к болтовне, сколько жду, кто войдёт в дверь. Входит Йенс в своем мешковатом пёстром упелянде до колен. Капюшон шаперона глубоко надвинут, взгляд виноватый, но с обычным для Соседей озорством. Ни одной ладанки или креста. Садится прямо на пол у очага. Устраиваюсь рядом.
— Келпи. Ты — келпи.
— Полукровка, — сбрасывает капюшон, трясет гривой.
— А ладанки и экзорцизмы мешают превращению?
— Притупляют охоту. Я еще и подковы в карманах ношу. Это сводит меня с ума, но лучше быть сумасшедшим, чем оборотнем. Это бы очень расстроило маму. Ты не думай, родители не знали, что делал со мной Курцман. Они бы никогда это не одобрили. Но я заметил, что помогает и сам ходил. Они радовались, надеялись, что я стану нормальным. Надеялись, что кресты, ладанки и железки навеки спрячут меня от Соседей. Я тоже на это надеялся.
Желание быть нормальным и полная невозможность его осуществления — это я понимаю, как никто другой. Мне хоть прикинуться легче.
— И я боялся своей истинной природы, — продолжает Йенс.
— Но ладанки не помогли. Элок нашел тебя.
— Сколько не бегай от себя, а далеко не убежишь. В одно из первых моих превращений, меня нагнал могучий вороной невообразимой красоты. Мускулистое тело лоснилось в свете луны, хвост и грива чуть не до самых копыт. Я понял, что встретил своего. Он учил меня, как быть собой... — Йенс вздыхает, — У меня впервые появился друг, который меня понимал. Элока иногда заносило. Он мог жестоко поступить с тем, кто пытался оседлать его или меня. Я объяснял это себе тем, что мне, воспитанному среди людей, трудно понять дикого, свободолюбивого келпи. Таковы правила игры, говорил он, не трогай келпи, и келпи не тронет тебя. И только от Элока я мог узнать правду о себе. И узнал. Я его сын.
Так вот почему Элок избил экзорциста — защищал своего жеребенка. Да и все его туманные объяснения, оказывается, имели смысл.
— Понимаешь, я знал, что приемный, я не такой дурак, но... Он сказал, что я должен уйти с ним по эльфийской дороге. И я сбежал от него.
— И как тебе книга сказок?
— Припозднился он с ней немного, не находишь? Но книга красивая. Все что надо знать про Элока Шторма — его трудно назвать Добрым соседом. Я понимал, что он не причинит вред родителям. Они меня вырастили, заботились обо мне и с его стороны это было бы черной неблагодарностью. Но он мог натворить других бед.
— Ты думал, он похитил детей, чтобы заставить тебя уйти с ним?
— Боялся этого. Я не мог их увидеть, хоть старался. Чувствовал себя виноватым.
— Поэтому ты и сбежал?
— Меня много лет пугали тобой и Лисом...
— Да с чего бы?
— Родители сказали, что ты убиваешь нечисть. Если я буду вести себя как нечисть, меня ты тоже убьешь.
Привычное дело, что мной пугают детей. Утешает, что Лису тоже досталось. В кои-то веки справедливость восторжествовала, не все ж мне быть исчадьем ада, а ему всеобщим любимцем.
— Мы не убиваем Добрых соседей. Мы сами от их крови.
— Так я и думал, — кивает Йенс. — Но тогда... я был не в себе. Мне было проще сбежать и побыть немного келпи, чтобы мозги на место встали.
— Спасибо, что спас мне жизнь.
— Да прямо там спас, — отмахивается он. — Я пришел сюда, потому что дома в Йоль не сиделось, а здесь свои... Увидел Курта и меня накрыло видением. Пока мы с хозяевами решали, как тебя вытаскивать, приехала госпожа Лиза. Дальше ты знаешь.
— Давно ты Элока видел?
— Да только что. На конюшне храпит.
— Как жеребец? — удивляюсь.
— Как хлыщ в разноцветных пуленах. Наскакался, должно быть.
Молчим, глядя в огонь.
— Ты не хочешь найти своих? — спрашиваю я наконец.
— Если они такие, как Элок, что-то не очень. Я привык... иногда даже чувствую себя человеком. Хоть это очень трудно и больно. И мои родители. Они ведь еще недолго проживут... Я с ними побуду, пока могу.
Вилда с кувшином горячего вина и кружками садится рядом.
— Что вы такие грустные, мальчики?
— У нас день рождения, — печально усмехается Йенс.
— Совсем забыла, что вы у нас Повелители Йоля. Надо срочно выпить. А тебе, рыцарь, — Вилда обнимает меня за шею, — Горностай идет, так и ходи.
— У меня к тебе просьба, — говорю.
— Да все, что хочешь. Ты же друг, дракон, настоящий Темный Наследник и Повелитель Йоля.
— Катриона должна все забыть.
— И не пожалеешь? Ты ее спас, девушки такое любят. Вон как поглядывает.
— Не пожалею, — говорю я, зная, что уже жалею, но жизнь кровожадна и злопамятна, требует делать выбор, приносить жертвы. А жертва, которую легко принести, ничего не стоит.
— Всё не так просто, — Йенс сочувственно смотрит на меня. — Катриона... она...
— Прошу тебя, Йенс, молчи.
Вилда нежно гладит меня по руке.
— Ты прав, сынок. Так ей будет спокойней жить, твоей валькирии. Но будет ли спокойнее тебе?
— Я справлюсь. Мне пора, — я беру плащ, пока никто не смотрит в мою сторону. — Попрощайся со всеми за меня.
— Мессир, — зовет Катриона и я вздрагиваю спиной. Черт, заметила, что я решил дать деру.
— Вы уже уходите?
Меня хватает промямлить что-то вроде «только проветриться».
— Я тоже хочу, — объявляет она тоном, не терпящем возражений. — Мне надо с вами поговорить.
— Довольно уж вам по холоду разгуливать, тем более наедине с мужчиной, — госпожу Лизу так легко не проймёшь. — Матушка не одобрит. За тот стол сядьте. Никто вас слушать не будет, зато все видят.
Стол, на который она указала, и впрямь казался удобным местом для разговора. Дождавшись, когда Катриона сядет, я устраиваюсь на почтительном расстоянии.
— Вы простите меня, мессир? — начинает она без долгих вступлений, но все же на французском — он лучше подходит для куртуазных объяснений.
— Я дурно с вами обращалась... А вы...
— Оставьте это. Я отнял у вас мечту и свободу, ничего не предложил взамен. Вы имеете право злиться.
— Мне это снилось... но не могу сказать, что мечтала о чем-то подобном. Я обычная девушка, а с ними холодно и страшно... Это ведь я вас ранила в Майнце?
— Царапина. Тут не о чем говорить.
— Я ошибалась на ваш счет... Вы жестоки, мессир, потому что люди жестоки с вами, но у вас благородное сердце.
— Опасно приписывать людям собственное благородство, моя госпожа. Тем более мне.
— Зачем вам меня спасать? Что вам за дело?
— Ваша матушка попросила, — ложь или полуправда — их так трудно различить.
— Так мама все знает? Да, несомненно. И тетушка... Но как вы... меня находили?
— Первый раз случайно. Не только вы чувствуете Охоту. Я следил за вами в такие дни, уж простите, — опять полуправда. Почему мне так трудно лгать, когда она смотрит на меня. Когда она смотрит на меня так.
— Охотник... он знает вас, — пытливый, придирчивый взгляд, — Давно знает.
— Он знает всех.
Ответ ее вряд ли удовлетворил, но она сменила тему.
— Мама заплатила вам, как те женщины с жемчужинами?
— Довольно, мадам. Что-то не так с нашими разговорами. Они совсем не ладятся. С вашего позволения.
Стоит мне встать, и она легко преодолевает расстояние между нами, стремительная, как рысь. Сжимает мою руку. Теперь не сбежать, пока не пустит. Хорошо бы за это время не наделать глупостей и не сломать себе жизнь. Я должен бы мысленно повторять имена тех, кто меня ждет, кого люблю и к кому хочу вернуться, но не могу.
— Простите, я опять вас обидела...
— Переживу. Думаю, мне пора, мадам.
— Я часто все порчу, сама не знаю почему, — трогательно и по-детски вздыхает Катриона, отпуская мою руку. — Не забывайте о нас, пожалуйста, заходите почаще, святки для того и есть... Я всегда буду помнить, что вы для меня сделали.
Забудешь, и часа не пройдет. В горле застревает даже не ком — камень.
— Зайду, — обещаю я. — У меня и подарок припасен.
— Правда? — расцветает Катриона, — А какой?
— Имейте терпение, моя госпожа!
Я киваю Вилде и она подходит к нам с золотым гребнем
— Вижу, милая барышня, у вас спутались волосы, — говорит она напевно. — Позвольте расчесать.
Ундина начинает свою песнь тихонько, как колыбельную, нежно поглаживает Катриону по волосам. Девушка жмурится от удовольствия. Золотые зубцы вонзаются в непослушные каштановые кудри. Вилда медленно ведет гребень, пропускает пряди сквозь пальцы. Ее голос набирает силу, он мощнее и глубже, чем голос ее дочери. В этом голосе, холодноватом и отстраненном, весь Рейн, его крутые берега, безжалостное течение, круговороты, пороги и скалы, погубившие множество людей, весеннее половодье, смывающее города и села.
Гретель сжимает руку Катрионы, и ее волшебный голос, звонкий, юный, теплый и густой, переплетается с голосом матери, как волна омывает камень, как шелк скользит по лезвию клинка. Все живое в «Трех ивах» замерло, внимая пению ундин, — слышно лишь вьюгу за окном, да потрескивание дров в камине
— Можно твой кинжал? — шепотом спрашиваю у Лотена.
Он молча протягивает оружие рукоятью вперёд. Запихиваю его за пояс. Оглядываюсь на пороге. В мою сторону смотрит только госпожа Лиза, киваю ей на прощанье. Гнедого жеребца с белым пятном на лбу я уже брал, он точно принадлежит хозяйкам. Пьяный в честь Йоля конюх храпит на лавке, укрывшись попонами поверх одеяла. Конюшата замерли, как истуканы, во власти пения прекрасных сирен Рейна. Седлаю коня сам.
— Доброй ночи и счастливого Йоля, мессир, — длинная, худая тень выбирается из сеновала.
— И вам, герр Шторм. И вам. Что это вы на конюшне обосновались?
Он фыркает.
— Ночую, где хочу. Теперь этот замок мой. Раньше это и в самом деле был замок, вы знали? Хотя откуда? Времена меняются...
— Вы купили «Три ивы» у фрау Кауфман? Расплатились, надеюсь, не листьями?
Сладко потягиваясь, Элок подходит к деннику. На одежде и в растрепанной черной гриве застряли клочки сена.
— Полагаю безутешная вдова осталась довольна, когда я избавил ее от этой недвижимости.
Говорила мне Вилда про жеребца и, кажется, я правильно понял.
— Решили заделаться в трактирщики, герр Шторм?
— Хочу быть поближе к сыну. Ему нравится это место. Он решил остаться в городе. Значит, и я останусь.
— Понимаю... Вы ведь из-за него избили экзорциста?
— Гнусный человечишко, — кивает Элок. — Неудивительно, что пропал без вести... Не будем унижать друг друга нелепыми догадками и подозрениями. Я не обижу Вайнеров, если вы об этом хотите поговорить.
— Хорошо бы вообще никого не обижать, если вы тут собираетесь жить.
— Я, знаете ли, невозможными обещаниями не раздаюсь. Кто-нибудь да обидится. Помочь? — говорит он с понятным отвращением глядя на седло и сбрую.
— Благодарю. Мне не в новинку.
— Будем теперь видеться чаще, мессир.
— Словами не передать, как я рад, — ворчу.
— А уж я как рад. Жаль, что ундины уезжают. Гретель — оторванный ломоть, раз уж ей морских змеев подавай, а без Вилды будет скучновато.
— Элок, кроме вас и Йенса я келпи не встречал. Вы все такие?
— Какие?
— Церковь, видения, не боитесь колоколов и железа.
— Железа в теле все боятся. Даже люди.
— Это не ответ на вопрос. Когда огласили приговор Майне, вы всего лишь читали книгу сказок, а ведьма вплела это в свои чары.
— Ах, я так увлекся книгой... Когда заметил, что кто-то тянет мою силу. Я не мог отменить заклинание, но я немного его усилил и изменил. Повернул дело так, чтобы жертва узнала и при первой возможности выдала истинное имя чародея...
— Черт. Майне все время его называл, но ведьма жила в чужом теле под чужим именем.
— Все, что мог.
— Не знал, что среди келпи бывают чародеи.
— Когда-то и они не знали. Да и драконов в людях не все видят.
Пожелав Элоку счастливого Йоля, вывожу коня из стойла. Песнь ундин медленно замирает, наступает тишина... Конюшата растерянно крутят головами, приходя в себя.
Не хочу ни о чем думать. На коня и в город.
Погода не способствует ночным гуляньям, да и час уже поздний, или наоборот ранний. Лазанью в окна погода способствует ещё меньше. Разумнее было бы отоспаться, действовать на свежую голову и предупредить о своем визите, но разве я из тех людей, что подчиняются гласу рассудка? Третий этаж, ерунда. Ставни могут представлять некоторую сложность, но не бог весть какую.
На стук копыт высовывается взлохмаченный Шварцбарт. Не спится ему, бдит.
— Вы с визитом, мессир?
— Я в окно.
— Иногда надо, — вздыхает Шварцбарт, подняв глаза на окна Лоренцы. — Она не спит. Тревожилась, что вас нет... Я бы вас в дверь пустил.
Сделал одолжение, скажите пожалуйста, будто у меня нет ключа. Сейчас, правда, нет.
— Благодарю, мессир Ральф, но традиции для меня святое. Мне в окно.
Он понимающе кивает.
— Коня отведу.
— Утром отправьте его в «Три ивы».
Швыряю Шварцбарту шубу, снимаю пояс с мечом и тоже отдаю.
Взбираюсь легко, хоть приходится сделать несколько шагов по осклизлой деревянной балке. Мне удается протиснуть острие кинжала в щель и подцепить крюк, при усилии нога скользит, но я удерживаю равновесие. Открываю ставни, примостившись на карнизе, стучу. На быстрый ответ я не рассчитываю, но в мутноватом, затянутом морозным рисунком стекле я вижу свечу и женский силуэт.
— Пусти, — говорю, — я сейчас свалюсь.
— И поделом тебе, — окно открывается, и Лоренца, вопреки своим словам, едва ли не втягивает меня внутрь. Она такая милая, с двумя девчачьими косичками, в стеганом бархатном халате поверх тонкой сорочки.
Пользуясь положением, притягиваю ее к себе и целую.
— У меня сегодня день рождения.
— Все-таки сегодня, а не на Самайн?
— Сегодня.
— Теперь закрой окно, будь добр. Меня и так морозит, — и правда, она дрожит, нос и глаза немного покраснели.
— Бедняжка! Сейчас мы тебя вылечим — нехотя я отпускаю ее, закрываю ставни и окно.
— Знаю я твое лечение. И что это ты вытворяешь? Я чуть со страху не померла! В черной одежде я бы тебя признала... а кстати, что это ты принарядился?
— Ты моего горностая не видела!
— Чего я не видела? — озадачилась Лоренца. — Это теперь так называется?
— Лоренца, как тебе не стыдно!
— А ну признавайся: был у дамы — и внезапно вернулся муж? Пришлось дать деру в его одежде?
— Обычно мужья, попав в такую неприятность, спасаются бегством. А потом отчитывают благоверных, мол, как могла, почему не предупредила.
— Ах да, это же ты. Так что ж за маскарад? Со шпильманом кутили?
— С чего ты взяла?
— А кто еще может так одеваться... Хотя нет, фасончик его — пышно и плечисто, но он тоже любит потемнее.
— Мне надо с тобой поговорить...
Стаскиваю шаперон и не знаю, куда его деть... всюду дорогие ворсистые ковры из шерсти и шелка, ценная мебель, а я, как снеговик, ещё и сапоги... Прицелившись, я все же швыряю шаперон на проплешину между коврами в углу. Разуваюсь прямо на месте, чтобы не наследить. Подхватываю Лоренцу и усаживаю на кровать, кутаю в одеяла.
— Я люблю тебя.
— И я тебя. Но что случилось? — она с тревогой смотрит на меня, — Ты никогда раньше не говорил, что любишь меня.
— Если я не говорю, это не значит, что не думаю.
Да, я понимаю, звучит идиотски.
— Это радует. Жаль, amore mio, что я не умею читать мысли.
— Выходи за меня. Корону я тебе раздобуду, обещаю, но золотую, графскую. Ржавую железяку уступим Лису. Он хотя бы знает, что с этим куском древнего дерьма делать.
Лоренца задумчиво смотрит на меня. Понятия не имею, как правильно делать предложения, и спросить ни у кого не удосужился. На всякий случай скатываюсь с кровати и преклоняю колено.
— О, Мадонна... — она зажимает рот рукой и то ли у нее глаза слезятся от простуды, то ли...
И как быть? Моё предложение не такое уж неожиданное, чтобы застать ее врасплох или расстроить.
— Я больна, все время мерзну... я беременна, я уже ничего не хочу, — хлюпает носом Лоренца. — К черту эти короны, банк, Медичи, интриги... К черту всё. И ты, аморе мио... Ты безнадежный безумец...
— И меня к черту?
—...но мне нужен только ты. Никогда тебя не брошу и никому не отдам.
Она вкладывает в мою ладонь руку, которую я нежно целую со всех сторон.
— Можно мне теперь под одеяло? Раз я муж?
— Можно и нужно, но не наглей. Мужем ты станешь после венчания.
— После заключения брачного контракта.
— Ты с кем торгуешься?
Куда-то летит халат, безжалостно рвутся пуговицы на пурпуэне. На нелепые шоссы терпения не хватает, но они не так уж сильно мешают, если подумать, отвяжи, и сами сползут.
— Ты не против, если я посплю немного? — спрашиваю после всех страстей, прижавшись лицом к горячему обнаженному животику. — Тяжелый был день.
— Вот теперь я верю, что замужем, — смеется Лоренца, поглаживая мои волосы, — Иди сюда, поцелую тебя на ночь.
Перебираюсь на подушки, укрываю нас получше. Засыпая, чувствую ее поцелуи на веках, на губах.
— Лоренца...
— Неужто не угомонился? — потягивается она с сонным любопытством.
— Это я.
Ее тело напряглось в моих объятьях.
— Нет, не волнуйся. Я ничего не замышляю. Мы примирились.
Лоренца приподнимается на локте и пытается рассмотреть меня в тусклом свете от жаровен.
— Рада слышать. И как вам удалось?
— Долгая история... Теперь он знает, кто я.
— И кто ты?
— Фафнир.
— Как дракон?
— Дракон. Я — альв Фафнир. И дракон
— Ах, amore mio, — она обнимает меня. — Ты даже с ума сходишь такими занятными способами! Люблю тебя, мой дракон.
Рассказав Лоренце о Нибельзее, я умолчал о последующих событиях. Все тайны, которые в них раскрылись, были не мои. Да и встречу с Охотником она сочла бы бредом сумасшедшего. Удивительно, что дракон ее нисколько не смутил.
— Не думала даже о Фафнире, — призналась она, — Предполагала, что в тебе сидит Хаген. Собственной персоной. Или ты так думаешь. Уж не знаю почему, но дракон мне больше нравится.
— На мне проклятье, Лоренца.
— На Фафнире. И на Нибелунгах, если на то пошло. Но они прекрасно себя чувствуют. Кому ещё удалось задержаться у власти на тысячу лет? Сколько династий сменилось во Франции за это время? Кто слышал о Плантагенетах во времена Зигфрида?
— Признайся, ты же не веришь, что он существует.
— Чем дольше я в Вормсе, тем более шатким становится мое неверие. Старухи на моих глазах превращаются в девушек. Мертвая купчиха ходит по кладбищу. Клирики перемещаются при помощи порталов. Похищенных детей прячут в костнице, в которую невозможно попасть. Дикая Охота налетает средь бела дня, и полгорода сходит с ума. В доме бургомистра находят мертвое чудовище... То, что в тебе живет древний дракон, уже кажется обыденной вещью. Многое даже объясняет. Но мне нужно время, чтобы смириться с тем, что у меня в каком-то смысле два мужа. И оба всем на зависть, что тут скажешь.
— Что тебе крупно повезло, — потягиваюсь и получаю локтем в бок.
Лоренца твердо решила вылечиться к Рождеству, а именно к большому приему в герцогском дворце или, если уж совсем плохо будет, к двадцать седьмому декабря — дню венчания Джулии и мессира Ральфа. Она забросила дела в фактории — Мартелли же как-то справлялся раньше — и даже Лиса предоставила самому себе. Тем более что на праздники нежданно-негаданно нагрянула из монастыря его супруга, и сюзерен поневоле избегал общества прекрасных дам, чем, несомненно, тяготился.
Я почти никуда не выхожу — мне надо привыкнуть к новому состоянию. Валяюсь в постели с Лоренцей, играю с детьми и болтаю с домашними. Принимаем мы только близких друзей.
Фафниру не спится. Он часто вылезает из своей норы, но уже не воспринимается как что-то чужеродное и враждебное. Он же не просил, чтобы его в меня запихнули. Понятия не имею, что я буду делать, если дракон пойдет вразнос, но доверие — так доверие.
Двадцать четвертого числа Мартелли присылает мне резной ящик внушительных размеров. Внутри завернутая в бархат книга и еще две маленькие, миниатюрные, не больше дамского молитвенника. Одну я отправлю бургомистру Майнца, другую кладу в скрытый карман теплого упелянда. С ящиком под мышкой отправляюсь к де Рейнам.
— Ух ты! — радуется Катриона, уж не знаю, мне или подарку, — Мне приснилось, что вы обещали прийти к Рождеству.
— Вам снятся вещие сны?
— Глупый был сон, — смущается она.
— Может вам приснилось, что внутри?
— Нет. Что там? — подпрыгивает Катриона. — Можно посмотреть или надо ждать до Рождества?
— Это уж как вам угодно.
— Я умру от нетерпения, потому лучше посмотрю. Только если там что-то в вашем духе, я убью вас прямо на месте, — предупреждает она.
— Тогда мы с подарком пошли, потому что он определенно в моем духе.
После непродолжительной борьбы сдаюсь и помогаю ей открыть ящик. Катриона разворачивает бархат и охает. На кожаной пурпурной обложке с серебряными углами и застёжками сияет название: «Carmina Burana». Девушка осторожно открывает книгу, пальцы скользят по подзаголовку: «Codex Buranus». Ниже изящнейшим почерком выведено, что список был сделан в бенедиктинском монастыре Святого Иакова в Бойерне. То есть название следовало понимать как «Песни Бойерна».
— Что же это? — изумляется Катриона, — Никогда не слышала.
Она листает книгу, замирает на первом стихе: «O, Fortuna!»
— Это же песни вагантов!
— Где? — спрашивает, спустившийся к нам мессир Рикард. — Доброе утро, ван Хорн. Вижу, ты не с пустыми руками.
Он склоняется над книгой.
— И что тут у нас? Ух ты!
— Папа, я же первая!
— Успеешь! Сначала папа прочитает. Спасибо, ван Хорн. У нас для тебя тоже кое-что есть.
В подарок мне достался набор охотничьих арбалетов с искусной резьбой и инкрустациями: большой мужской и три поменьше для женских и детских рук. В хозяйстве пригодится.
Как только мессир Рикард склоняется над песнями вагантов, листает страницы и начинает непроизвольно улыбаться, я вручаю Катрионе миниатюрный томик Жанно Лекюреля, который тут же исчезает в широких рукавах.
Сочельник отмечаем двумя домами, вместе со слугами — все равны перед Господом, а на Рождество и подавно. Семья Марты празднует с нами, как ещё при Каспере ван Хорне повелось. «Вместе веселее и теплее; чего Ветцелям зря дрова жечь?» — объяснял мне приемный отец. Из друзей у нас только Вольф, который все ещё серчает на брата, а потому не отбыл в родовое гнездо на святки.
Дверь открыта для любого, кто пожелает войти и погреться от рождественского огня или сбежит, наконец, от надоедливых родственников, сославшись на необходимость поздравить друзей.
Люди, собравшиеся за моим столом в канун Рождества, кроме Ветцелей и Медичи, не связаны кровными узами, и уж точно никто из них мне не родня, но все они — часть моей жизни, моя семья.
Перед мессой мы ужинаем скромно: рыбой, запеченной в меду, густой похлёбкой, тушеной капустой с перцем, орехами и черносливом, штолленами и медовыми пряниками. После мессы торжественно отправляем в камин святочное полено. Поджигаю его я, хозяин дома, с трудом сохраняя серьезность, потому что установилось торжественное молчание, как во время проповеди в соборе. Под треск полена на столе появляются гуси с яблоками, кролики с клюквой, буженина, окорока, колбасы и сыры, соусы из сливы и молодых еловых шишек, горчица с медом, обязательные штоллены с марципаном и без, щедро смазанные маслом и присыпанные молотым сахаром, пряники в форме сердечек, звездочек и человечков, глинтвейн и вишневая наливка. Итальянская часть семейства обеспечила стол молочными поросятами в цитрусовом маринаде с печеными грушами, мускатным орехом и жгучим перцем, красной чечевицей с розмарином, маслинами всех мыслимых цветов, от розового до черного, апельсинами, нежнейшими сырами в рассоле или оливковом масле, миндальным печеньем и пышным рождественским пирогом с орехами и цукатами.
Изобилие скоромного и выпивки после долгого поста румянит лица и развязывает языки. А как у вас это, а как у вас то? Неужели? А вот у нас... Сделайте одолжение, отведайте это. Нет, вы обязаны попробовать! Вы обидите меня, если скажете, будто есть на свете что-то прекраснее рождественского ужина после мессы! Так вы откармливаете гусей орехами? А какими, если не секрет?
Молчание хранит только Курт, которому Рождество праздновать и вовсе не положено. Слушая болтовню, он безмятежно пьет глинтвейн, закусывая поросенком.
Кошки и Цезарь носятся вокруг стола, выпрашивая угощение, и, наконец, устраиваются отдохнуть у камина, где Ларс рассказывает детям сказки про Госпожу Метелицу, крампусов, злую бабу Грилу, что живёт на дальнем севере и вредит всем добрым делам Рождественского деда. А ещё у Грилы есть кот.
— Кот тот весь черный, без единого белого волоска и размером с быка. Глазищи у него, что твои плошки, так и сверкают в ночи алым пламенем; когтищи размером с серпы. Начиная с ночи Йоля, он неслышно бродит по улицам и заглядывает в окна, чтобы узнать, есть ли в доме ленивые, непослушные и вечно ноющие дети. Если кот таких примечает, юные господа, он врывается в дом и пожирает...
— Детей? — волнуется Август, потирая пухлую щеку.
— Да нет же, — невозмутимо отвечает Ларс. — Все угощение в доме.
На всякий случай Август хватает кусок штоллена побольше и запихивает в рот. Подумав, берет ещё кусок.
— Это точно не про нашего Пряника? — ехидничает Юг, он-то слишком взрослый, чтобы верить в детские сказки, — Целую форель стащил, а потом и в поросенка вцепился. Уже и апельсины не помеха.
Кот в этот самый момент тянется лапой к штоллену с расчетом закогтить и уронить на пол, а потом уж съесть. Не пропадать же хозяйскому добру.
— А если еда невкусная, — продолжает конюх, — То что ж делать коту бабы Грилы? Зубами клацать? Тогда уж он берется за ленивых и зловредных детишек, нытиков и плакс. Хватает негодников и запускает когтищи и зубищи в самую мякотку...
Дети пищат и с опаской поглядывают на окна. Даже Юг косит, хоть он для страшного Йольского кота и староват, и костляв. Луиджи сохраняет присутствие духа, но покрепче обнимает сестрёнку, заснувшую у него на коленях:
— Хорошо, что у нас все вкусное. А что кот делает хорошим детям?
— Да ничего, синьор Луиджи. Мурлычет и ластится, как любой кот.
— Хотела бы я иметь такого кота, — громогласно заявляет одна из внучек Марты.
— Оно и хорошо бы, Лизхен, да как такого прокормить? А сестренку-то вашу, синьор Луиджи, сон сморил на самом страшном месте. Видать, не очень еще по-нашему понимает.
— Твой говорок еще пойми, — подхватываю Лукрецию на руки, чтобы отнести в детскую, которую мы устроили на третьем этаже.
То ли устал я сегодня, то ли перепил, то ли свечи с поленом начадили, да тени странно упали, но краем глаза я вижу, как нечто маленькое, побольше крысы, но поменьше кошки метнулось за камин. На двух ногах. Неужто Ежиная Мордочка?
Лоренца выскальзывает за мной. Укладывать ребенка — что-то новое для меня, но вроде бы справляюсь. Помогаю снять башмачки и платье. Лоренца склоняется над кроваткой, чтобы укрыть и поцеловать Лукрецию. В мягких складках шелкового покрывала, обрамляющего лицо, она похожа на Мадонну с итальянских фресок. Ее взгляд, всепонимающий и полный любви, пробирает до дрожи. Не верится, что все это происходит со мной, что в моей жизни есть место таким мгновеньям.
Лоренца переводит взгляд на меня и улыбается.
— Пойдем, amore mio, нас все ждут.
Невиданное чудо случилось рождественским утром. Братья Бильдерлинги, все семеро, покинули свою кузницу, оставив на хозяйстве женскую прислугу и истукана.
Карлы расчесали и заплели волосы и бороды. Надели тяжёлые шубы поверх узорных лат, опоясались секирами. Головы их украшали островерхие расшитые колпаки. Один из Бильдерлингов шел впереди, на согнутых руках его, как святая реликвия, лежал меч. Два брата отставали на шаг, четверо завершали процессию — серьезные дела, должно обставить как полагается.
Треугольник двигался молча и торжественно. На первых порах. Как только карлы вышли из своей рощи и ступили на улицы ближнего предместья, к ним стали подтягиваться люди. Сначала дети, а потом и взрослые. Держались подальше, но процессия росла с каждым пройденным домом. Узрев такую невидаль, горожане забывали о праздничной суете.
Стражники у городских ворот жалели, что не могут бросить пост.
Капитан сглотнул от восхищения, взглянув на черные лакированные ножны без лишних украшений, на спящего дракона, свернувшегося на яблоке рукояти. Карла выдвинул всего на пядь темный переливчатый клинок, и капитан велел:
— Пропустить.
Он жалел, что не попросил подержать меч, очень уж хотелось ощутить в руке его тяжесть, шершавое прикосновение обмотки из черной, пупырчатой кожи снятой с неведомого зверя. Но, бывалый воин, он понимал, что такие мечи накладывают на человека непростые обязательства. Понимал он и куда идут карлы, а потому не посмел мешать таинству. Капитан взял нескольких людей и присоединился к процессии, ибо долг требовал следить за порядком.
Юг едва не налетел на это рождественское чудо, выйдя на улицу прогуляться и пересчитать ворон. Домой он мчался, что есть духу.
— Мессир, там к нам... шествие гномов.
— Почему к нам? — удивляется Август, бросаясь к окну.
—А куда им ещё-то на Рождество? — разводит руками Юг. — На мессу в собор Святого Петра?
Спешу выйти на улицу, чтобы встретить гостей, за мной выбегают все домашние, да и любопытные соседи тут как тут. Лоренца с беспокойством смотрит по сторонам, кутаясь в шубку. Дети и Цезарь радуются всеобщей суматохе и стараются привнести в нее как можно больше шума и хаоса.
Приблизившись к дому, карлы кланяются дружно и степенно. Кланяюсь в ответ. Преклонив колено, принимаю меч.
Простой на вид бастард, если не считать дракона в навершии. Клинок темный с переливом, отчего кажется, будто по нему течет вода или струится холодное, темное пламя. Острота лезвий такова, что можно побриться. Длина и баланс, все по мне.
— Как меч назовешь? — спрашивает Бильдерлинг.
— Никогда не давал имена мечам. Назовите сами, мудрые, если таков обычай.
— Нарекаем «Подкидышем, Повелителем Йоля» — дружно чеканят карлы.
Подкидыш. Могло быть и хуже.
От награды Бильдерлинги отказываются, мол, давно не ковали меч для героя на благое дело. От вина и угощения не отказывается никто.
Сюзерен пожаловал мне знамя. Обычно его вручают во время войны, но герцог вдруг вспомнил, что обошел меня своей милостью, причем вспомнил в самый выгодный для себя момент. Это не земли подарить — ущерб для казны невелик.
Знамя вышили дамы пфальцграфини, а вручает его сам Лис на рождественском приеме во дворце. Меня сопровождает Лоренца. На ней чёрное платье, но ни у кого язык не повернется назвать его мрачным или неуместным в праздник. Бархат богато расшит золотом, из вензелей выглядывают ангелочки, парящие в лазоревых небесах. На Рождество в гости к герцогу пожаловал маршал де Ла Бард. На пиру его, соблюдая интригу, посадили между пфальцграфиней и Катрионой. Остальные кавалеры приуныли — тягаться с маршалом Бургундии занятие неблагодарное. На Лео де Римона так и вовсе было жалко смотреть, хоть Вольфгер меня и уверял, что в борделе Серпентины влюбленный вовсе не теряется.
— Знать бы, как мы встретим следующее Рождество, — задумчиво говорит герцог под конец пира, и весёлый пьяный гомон сменяется мертвой тишиной, будто по залу торжественно прошествовала курносая старуха с косой или старик — тут уж кому что больше по душе. Замешательство длится лишь мгновенье. Праздничное веселье все перемелет, победит тревожные предчувствия и ожидание беды. Какая разница, доживём ли мы до следующего рождества, зато сейчас мы пируем и пляшем. Льется вино, играет музыка, карола переходит в дукцию, дукция — в турдион. Жизнь продолжается и даже кажется, что она не закончится никогда.
Столь же весело проходит свадьба Джулии и Шварцбарта, после которой мы отходим до тридцать первого декабря, когда отмечают день Святого Сильвестра, величайшего из драконоборцев. Но если Святой Георгий побеждал воинским искусством, а Святая Маргарита прибегла к силе молитвы, находясь в желудке зверя, то папа римский Сильвестр использовал магическую науку и не стеснялся. Понтификам все можно, даже то, за что сжигают на кострах простых смертных. Так или иначе, а змея он благополучно извел, что, по слухам, предотвратило Конец Света, ожидавшийся в 1000 году от рождества Христова.
Уже который год на Сильвестра я нарочно просыпаюсь позже всех. А по традиции тот, кто просыпается позже всех, должен выполнить желания домочадцев. От желания можно откупиться, раздав по флорину — для того все и придумано. Первыми свои флорины получают наши мальчишки, включая Луиджи, как самые нетерпеливые. Потом приходит черед слуг. Наконец в спальне остаются только Лоренца и Лукреция.
— Что мне твой флорин? — заявляет Лоренца, сложив руки на груди. — Флорином тебе от меня не откупиться. Только желание.
— И чего же ты хочешь?
— Ночью расскажу, — Она устраивается рядом со мной на кровати
— Договорились! — охотно соглашаюсь, притягивая Лоренцу к себе.
— И мое желание не выкупить! — прыгает на кровати Лукреция.
— Да что ж такое у нас сегодня? Тебе мало флорина?
— Да!
— А двух?
— Оставь себе!
— Вот так новости, — смеется Лоренца. — С каких это пор ты неподкупна?
— Пять! — повышаю ставки. — И ни флорином больше!
— Торг здесь неуместен, — серьезно заявляет Лукреция, пряча руки за спину. Как видно, пять флоринов все же большой соблазн.
— Вся в мать, — ворчу я. — Пять с половиной!
— Ты сказал, ни флорином больше.
— Так это половина флорина.
— Ты не можешь его распилить.
— Могу, но лучше дам тебе десять серебряных грошей.
— Он тебя нагло обсчитывает, — предупреждает Лоренца. — Десять грошей — это меньше половины флорина. Это половина гульдена, а гульден ценится дешевле флорина.
— Так нечестно! — возмущаюсь я. — Не подсказывай! Пять флоринов и десять грошей... Больше за желание тебе в этом доме никто не даст.
— Нет! — прыгает на месте Лукреция, — Желание! Желание! Хочу желание!
— И что же ты хочешь? — сдаюсь.
— Чтобы ты был нашим папой.
— И я хочу быть вашим папой, — подхватываю ее на руки. — Ты только никому не говори, это большой секрет, но мама согласилась выйти за меня.
Лукреция, по обыкновению, душит меня в объятьях, целует и тут же требовательно заявляет:
— Пусти, мне надо к Луиджи, — и уже на бегу: — Луиджи! Луиджи! Ты мне должен пять флоринов и двенадцать грошей! Нет! Шесть флоринов! Я уговорила его стать нашим папой!
— Господи, — вздыхает Лоренца. — Боюсь представить, что из нее вырастет.
— Что-то да вырастет... Может не будем откладывать до ночи, мне так понравилось исполнять желания...
Целуясь, с головой уходим под одеяло.
В доме весь день царит суета. Сегодня мы принимаем гостей, как это заведено на Сильвестра. Лоренца прекрасна в уютном винном бархате. Когда я объявляю, что мы женимся, все радостно орут, пьют и требуют налить еще. Мы целуемся явно дольше, чем следовало бы на людях, но подвыпившие гости этому только рады.
Ближе к полуночи, несмотря на мороз, открывается вся галерея арочных окон на втором этаже. Зима врывается в дом, швыряясь в гостей свежим ветром и хлопьями снега. Все замирают. Я покрепче обнимаю мерзлячку Лоренцу. Часы на башне ратуши, а вместе с ними и все колокола в городе, бьют полночь. Последний удар тонет в радостном крике и звоне кубков.
Наступил 1348 год.
Продолжение следует