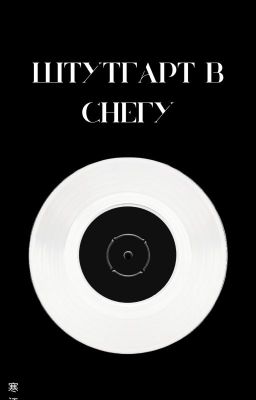Оба
– Я...по объявлению, - неловко пробормотал Франц, пока мысли метались в панике. Ева смотрела с любопытством, молча ожидая, что он будет делать дальше. Франц тщательно и немного нервозно отряхнул обувь, глубоко вдохнул и подошёл к столу.
– Я плачу вдвойне, – твёрдо сказал он, старательно не глядя на Еву.
– Я тоже, – произнесла та, беззастенчиво его рассматривая. Франц подумал, что она издевается. Но он никогда не был борцом, поэтому шумно выдохнул, смиряясь с потерей, и произнёс:
– Хорошо. Вы пришли раньше, это будет честно. В конце концов, есть вторая копия.
– А вот тут вы ошибаетесь, – подал голос продавец, и в его речи явно слышалось не слишком скрываемое ехидство. – Вторая пластинка была у моего дяди и её в порыве гнева сломала его бывшая жена. Эта последняя.
Франц упрямо сжал губы. Нет. Теперь он так просто не сдастся.
– Тогда я ещё удваиваю, – произнёс он.
– Подтверждаю, – откликнулась Ева.
Рихард Кёниг переводил взгляд с одного на другого, словно зритель на теннисном матче. Когда суммы стали уже совсем заоблачными, он прервал их резким "Так, я в этом не участвую" – и осторожно выпутал пластинку из пальцев Евы. Пробормотал проклятие своим предкам, убирая конверт обратно под стол. А, выпрямившись, объявил:
– Продам кому-то из вас, только если вы сами договоритесь, кому. Вот так придёте оба и скажете: он покупает. Или она. Жду до послезавтра, пластинку пока придержу, но, если что – другого покупателя я найду без проблем.
После этого Рихард демонстративно закрылся журналом, и им ничего не оставалось, кроме как уйти.
Из лавки они вышли вместе. Не сговариваясь, бок о бок двинулись вниз по улице, молча переваривая случившееся. Ветер стих, и снег теперь сыпался медленно, крупными хлопьями, и каждая снежинка, повальсировав немного на фоне светлого неба, оседала на красных крышах, на старомодных мостовых и на бортиках фонтанов с грацией барышни в пышной юбке. Вот она приблизилась к креслу, вот изящно прихватила ткань с боков, потянула, расправляя, и аккуратно опустилась. Отпустила юбку, распрямила спину, сложила руки на коленях и замерла. Улица была почти безлюдна – для возвращающихся с работы поздно, для любителей ночных прогулок рано. Только редкие собачники, студенты, спешащие с учёбы, и несколько погружённых в себя парочек. И они, держащиеся чуть ли не в шаге друг от друга.
Девушка заговорила первой.
– Меня Евой зовут.
– А, что? Да, простите, очень приятно, Франц.
Беспорядочно нападавшие снежинки украсили его тёмные волосы чем-то вроде кружевной ермолки. Ева залюбовалась, но Франц, заметив её взгляд, поспешно стряхнул снег ладонью.
– Сколько вы хотите....
– Ни за что, - отрезал Франц.
– Ясно. Меня будете спрашивать?
– Вы не согласитесь.
– Верно.
Помолчали.
– Откуда вы? – спросил Франц только чтобы прервать затянувшуюся паузу.
– Из Санкт-Петербурга. А вы?
– Из Франкфурта.
– О, я там бывала! Очень красивый город.
Так они шли и шли, нарезая круги по кварталу, и постепенно разговорившись, беседовали обо всём на свете, не касаясь только одного предмета, самого важного для обоих – пластинки. Обнаружив, что Франц знает о Генрихе Кёниге всё, Ева жадно расспрашивала:
– А эта Людвика, почему он на ней не женился?
– Видимо, не так сильно любил, как думал.
– И что с ней в итоге стало?
– Ничего хорошего, к сожалению. Она была этнической полькой, так что в тридцать девятом её депортировали, а в сорок втором за что-то отправили в лагерь, откуда она уже не выбралась.
– Печально...
– Очень, – согласился Франц. – Хорошие люди не должны жить в военное время. А гении, вроде Кёнига – тем более. Ты знаешь историю этого концерта?
– Нет.
– Кёниг терпеть не мог, когда его записывали. Считал, что музыка на пластинках ненастоящая, мёртвая. Поэтому записей всего четыре, и все сделаны его другом Арнимом Шварцем на любительской технике. Первая – "Разные произведения для фортепиано", 1927, кажется, записывалась для консерватории, чтобы его взяли без экзаменов. Вторая – "Концерт в Берлине", девять лет спустя, и ещё одна – через два года, домашний концерт у Нежинской – Людвика попросила запись в качестве подарка на день рождения. Байройтская пластинка последняя. В июне сорок третьего Кёнига призвали в армию, хотя до этого вроде как признали негодным. Дали неделю времени. Тогда Генрих собрал небольшой оркестр из старых друзей, приехал к Арниму в Байройт и попросил сделать запись, чтобы, когда он отправится на войну, его близкие могли слушать написанную им музыку и вспоминать о нём.
Он играл все свои самые лучшие произведения, самые главные, самые любимые. В школьном актовом зале, один великий немецкий композитор в городе другого. А через шесть недель Кёниг погиб на фронте.
Он сказал Шварцу сделать восемь копий: три для его жены и двоих детей, одну для самого Арнима и четыре – для остальных музыкантов, игравших с ним. Три из этих восьми пропали ещё во время войны, одну Арним увёз в Америку, но случайно сломал при переезде, одна сгорела в пожаре где-то в шестидесятых, а ещё одна сопровождала своего хозяина, врача из красного креста, во Вьетнам, да так оттуда и не вернулась. Одну, если верить Рихарду, недавно сломали. Осталась последняя.
***
– Ты ведь ничего о нём не знаешь, зачем тебе эта пластинка? – не выдержал наконец Франц. Они сидели у окна в небольшом ночном кафе, друг напротив друга, как бойцы на ринге.
Ева нахмурилась.
– Неужели чтобы любить чью-то музыку нужно досконально знать всю биографию его и всех его ближайших родственников?
Сказала и спохватилась, что прозвучало слишком грубо. Франц действительно воспринял её слова как шпильку в свой адрес и вспыхнул.
– Это неуважение, Ева! – воскликнул он.
– Это ханжество, Франц!
И оба замолчали, хмуро уткнувшись в свои тарелки.
– В конце концов, кто-то один может купить пластинку и снять для второго копию, – предложила Ева, не поднимая глаз.
– Ага. Хорошо. Тогда я отдам копию тебе, – фыркнул Франц.
– Я не хочу копию, я хочу оригинал, - мягко, но настойчиво возразила Ева. Франц не ответил, но так выразительно посмотрел, что вопрос можно было считать исчерпанным. Нет, это не выход. Разошлись они уже за полночь, скомкано попрощавшись и на всякий случай обменявшись номерами телефонов.
И на следующее утро снег всё падал и падал, не прекращаясь ни на секунду; город уже остановился, школы закрывались и общественный транспорт ходил с перебоями.
– Ты ведь засунешь эту пластинку в пыльный угол и даже из конверта её не достанешь! – злилась Ева, эмоционально размахивая руками. – Это нелепость, это...это...это как ловить бабочек и прятать их под стекло! Прекрасное хрупкое создание могло бы прожить жизнь, оставить потомство, а ты ловишь её и суёшь в коробку, чтобы она там гнила и высыхала!
– Справедливости ради, я терпеть не могу бабочек, – проворчал Франц. Он уже жалел, что позвонил ей и предложил вместе пройтись про штутгартским магазинам винила.
– Не важно! Ты меня понял! Искусство существует, чтобы приносить радость, а не чтобы служить музейным экспонатом, – Ева закашлялась – на морозе легко сорвать голос.
– Ты заслушаешь эту песню настолько, что от неё начнёт тошнить, – Франц воспользовался заминкой, чтобы перехватить инициативу. – Перегоришь и перестанешь понимать, что находила в ней хорошего.
– В конце концов всё что угодно перегорает, и я предпочитаю насладиться на полную!
– Ты...ты...да что ты вообще знаешь об этом?!
– Немного, да. Но я знаю главное: музыку нужно слушать. Удивительное дело, да?
– Да. Невероятное. Ты, похоже, упускаешь из виду одну фундаментальную вещь: пластинки истираются. И постоянно слушать существующую в единственном экземпляре запись – это...ну, говоря твоими словами, перемалывать эту засушенную бабочку в порошок!
Спорили они долго, постоянно кружа вокруг одних и тех же аргументов, до тех пор, пока не добрались до магазинчика. Дорожку явно чистили с утра, и вот, едва за полдень, а она уже снова в сугробах, через которые Еву с её каблуками пришлось переводить за руку.
– Франц! Как я рада видеть тебя, дорогой! – хозяйка – полная дама средних лет с цыганскими серьгами в ушах – всплеснула руками и кинулась обниматься.
– День добрый, фрау Берр, - Франц послушно подставил щёку для поцелуя-клевка.
– Ты за Кёнигом, наверное, приехал? Купил?
– Пока нет, - не вдаваясь в подробности, ответил мужчина.
– А кто это с тобой? – фрау Берр выглянула из-за его плеча и окинула Еву быстрым цепким взглядом.
– Я Ева, - представилась девушка.
– Тоже любительница редкостей? У меня много интересного есть.
Магазинчик фрау Берр оказался целым лабиринтом – в три раза больше "Грампластинок Сэла" и примерно в десять - лавки Макса.
– Ой, сколько Вагнера, – Ева потянулась к полке как ребёнок – к конфетам на прилавке.
– Обожаю его! – проникновенно выдохнул Франц, помогая ей достать пластинку.
– Я в прошлом месяце была на "Золоте Рейна" – это что-то невероятное!
– Слышал о петербургской постановке много хорошего. А я каждый год на вагнеровский фестиваль езжу. Даже отпуск специально приходится брать, но оно правда того стоит. Потраться как-нибудь – не пожалеешь.
К удивлению обоих, вкусы у них сходились не только касательно Вагнера. Старые аудиоспектакли, кельтский фолк, оперы Бородина и тяжёлые концерты Сальери – прежде оба были абсолютно уверены, что больше никто такое не слушает. И острое напряжение, висевшее в воздухе, снова как-то незаметно растаяло. С полными охапками покупок, раскрасневшиеся от мороза, они носились от магазина к магазину и говорили, говорили... Не то, чтобы родственные души, просто люди со схожими интересами.
Всё дело было в музыке. Она объединяла. И они снова загулялись до поздней ночи, но на этот раз расстались куда теплее. Только всё равно каждый унёс в сердце камень. Завтра был последний день установленного Кёнигом-младшим срока. Нужно было что-то решать, иначе оба оставались ни с чем.