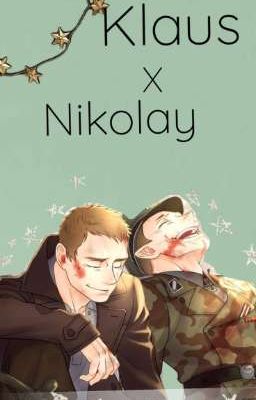Острые лезвия памяти
Уснуть долго не получается, хотя безумно хочется: мысли с неделю как грызут, будто черви, подтачивают черепные кости, давят весом, а от нахлынувших воспоминаний после язвительных утренних слов Ганса Николаю становится лишь хуже: кровавые сцены убийства Вальтера с огромной скоростью проносятся перед закрытыми глазами..
„Ты весь на моей ладони, под любым углом и зумом. Я читаю твою мысль до того, как ты подумал.“ /слова из песни Нойз МС "Паучьими тенетами"/
Вот Ивушкин твердо и прямо стоит перед Вальтером, чьи руки связаны за спиной, в небольшом, угловатом помещении, — подвале заброшенных казарм, — имеющим лишь один выход: массивную дверь в полотке, открывающуюся лишь сверху извне (для вызволения исполнителей приказов, во время расстрелов в казарме оставляли дежурить нескольких солдат из роты: железо винтовки приятно обжигает плечо и основание шеи, стыдно признать: во рту, от предвкушения, скапливается слюна. Сколько Николай этого ждал — не пересчесть. Сослуживцы, насколько могли, посвятили Ивушкина в детали дела: с Вальтером весь позавчерашний день и всю вчерашнюю ночь беседовал ком.части, видимо хотел вызнать у него расположение дивизий Вермахта или СС, однако Грим не поддался, от сотрудничества гордо задрав нос отказался — решил, верно, поиграть в героя, готового погибнуть за свою Родину. Николай лишь усмехнулся — Вальтеру такое понятие явно не знакомо. Потому, в связи с полной бесполезностью Грима как военнопленного, за совершенные им преступления против человечности, Ивушкину был отдан приказ: расстрелять рано поутру. Николай, обычно никогда на подобное не соглашаясь (на фронте настрелялся, надоело), в этот раз с энтузиазмом покачал головой в знак согласия, едва услышал знакомую фамилию. «Гриму уйти не дадут, хоть на стену пусть лезет, потому что приказ есть приказ, и он подписан высшим начальством. Не один солдат не пойдет против, не станет защищать нациста (хотя что приказ, в головах людей, потерявших по вине нацистов своих родных, даже желания спасать одного из этих гадов не появится.), значит, чтобы я не делал, его не пожалеют, ему не спастись. Мои сослуживцы и солдаты, запустившие меня в подвал, не те люди, что стали бы меня останавливать. Наконец я все-таки его убью.»
— Walter, Walter, du hättest nicht umsonst mit der Roten Armee zusammenarbeiten sollen. Diese Soldaten könnten dein Leben retten. /Вальтер, Вальтер, зря ты не пошел на сотрудничество с Красной армией. Эти солдаты могли бы спасти тебе жизнь./ — Николай широко улыбается, словно пытается не спугнуть жертву, которая извивается и дергается, пытаясь распутать связанные за спиной руки.
— Meine Schießerei ist nur morgens. Geh raus, Hund. /Мой расстрел только утром. Убирайся, псина./ — встряхивая плечами, гриммасничает Вальтер от боли, в выкрученных при связывании плечевых суставах. Николай Алексеевич хихикает: «В самом деле, на что я расчитывал? Даже если бы он и начал бы меня умолять о спасении прямо сейчас, никак не дерзил бы, я бы его все равно убил. Ну может быть с чуть меньшей жестокостью, чем планировал изначально.. Ну да ладно, пока поиграем на его нервах.»
— Nun, du solltest dir nicht so viele Sorgen machen. Plötzlich kann das Herz es nicht mehr aushalten. Keine Sorge, wir sind rechtzeitig vor dem Morgen fertig. /Ну-ну, зря ты так переживаешь. Вдруг сердечко не выдержит. Не волнуйся, мы как раз к утру и закончим./ Николай медленно снимает с плеча винтовку и на его лице расплывается сумашедшая улыбка от лицезрения увеличивающихся глаз Грима, которые мужчина, хоть и стоя пока ровно, искренне пытается отвести в сторону от дула оружия, упирающегося ему в лоб. — Sie haben Angst. Vielleicht können wir also doch einen Deal machen? Willst du wirklich so sterben, Grim? /Ты боишься. Ну что, быть может все-таки договоримся? Неужели ты хочешь вот так сдохнуть, Грим?/ — Ивушкин прикусывает внутреннюю сторону своей щеки: как бы не хотелось, как бы не было тошно вообще видеть этого гада, спросить «не передумал ли он на счет отказа от сотрудничества» нужно, прописано в регламенте. «Он не передумал.» — отвечает разум.
— Ich demütige mich nicht, indem ich mit Schwuchteln, russischem Schwein, spreche. /Не унижаю себя общением с пидорами, русская свинья./ — выплевывает колкое Вальтер, отчего лицо Николая Алексеевича стекленеет, верхняя губа приподнимается в изощренном оскале, обнажая клыки. Но дальнейшие слова вовсе заставляют кровь в пальцах Николая вскипеть в момент. — Es ist meine Pflicht, mein Leben für das Vaterland hinzugeben. Obwohl Sie es nicht verstehen werden, war ich einer der ersten, der mit dem Verräter Jager in eine Koje eilte. /Это мой долг — отдать жизнь за Отечество. Хотя ты не поймешь, в числе первых ведь бросился в койку к предателю Ягеру, едва выдался момент./
— Und es ist meine Pflicht, dir das Gehirn auszuschalten. Dann komme ich dazu. Es ist gut, dass du deine Meinung nicht geändert hast. /А мой долг — вышибить твои мозги. Тогда я к этому приступлю. Хорошо, что ты не передумал./ — злобно шипит Николай Алексеевич и вдруг усмехается едва слышно, когда видит, как Вальтер зажмуривается. — Ann-Nein, Hund, hast du gedacht, du würdest so leicht sterben? Das ist nicht das, was ich getroffen habe. Ich musste mitarbeiten, Walter. Es gab keine Notwendigkeit, Gerr Jager zu töten. /Ан-нет, собака, ты думал так просто сдохнешь? Не на того нарвался. Нужно было сотрудничать, Вальтер. Не нужно было убивать Герра Ягера./ — Ивушкин прикрывает один глаз, стремительно, почти незаметно спускает дуло винтовки и стреляет Вальтеру в колено. Грим, взывая от резко пронзившей все тело боли, подскакивает на здоровой ноге, отлипая от стены подвала, теряет равновесие, и едва не падает на сырой пол, пытаясь хоть как-то разорвать веревку на руках, чтобы закрыть ладонями рваную рану под растрескавшейся коленной чашечкой, откуда толчками все быстрее начинает вытекать бурая кровь.
— Ein kranker Nussfall! /Больной псих!/ — Николай улыбается: сегодня, как и всегда, при себе имеется водка, жаль ее конечно тратить на этот будущий труп, но ради веселья мести... Что не сделаешь ради мести!
– Kommen Sie mit etwas Neuem, einem Spitznamen, den ich schon oft gehört habe. /Придумай что-то новое, такое прозвище я слышал много раз./ — Ивушкин грубо сдергивает с плеч Вальтера черный эссесовский китель, отрезая вынутым из напоясного чехла ножом один из рукавов, чтобы связанные руки Грима не мешали выполнить задуманное, а затем, пряча на место нож, вынимает осторожно из внутреннего кармана гимнастерки пузырек со спиртом, одним пальцем поддевает крышечку и выливает на извивающееся, (Грим начинает пытается убегать!) пульсирующее колено около четверти ядренного содержимого, а затем резко обматывает его запачканным кителем, чтобы немного уменьшить объем кровотечения, болезненность же при этом не исчезает вовсе, Грим начинает судорожно кричать, потому что с каждой секундой состояние раны становится хуже: в изодранную, взрыхленную пулей кожу впиваются не только грубая ткань и металлические пуговицы, но и частички спирта, полностью разъедающего прослойки плоти. — Also, werden Sie sich entschuldigen? /Ну что, извиняться будешь?/
— Scheiß drauf, Schwein. /Пошел к черту, свинья./ — сквозь выступающие на глазах помимо воли слезы, огрызается Вальтер. Николай Алексеевич качает головой.
— Werden wir Sie auf eine abweichende sexuelle Störung testen. /Тогда проверим тебя на девиантное расстройство сексуальности./ — рычит Ивушкин, ударяя Грима по скуле кулаком так, что трескается его челюстная кость, а после того, как Вальтер отшатывается влево, сплевывая слюну и кровавый сгусток, Николай хватает его за правое плечо, изо всех сил сжимая его, (чтобы остался синяк) ощущая под пальцами элипсоидную головку плечевой кости, а затем дергает на себя, разворачивая Грима к стене лицом. — Nun, mal sehen, wie lange du in deinem Areola des Heldentums aushalten kannst. Ich sage also einfache Regeln: Kontaktiere mich bei dir, wage es nicht zu wimmern und bitte mich um etwas. Ich werde nicht aufhören. Vielleicht können Sie etwas erreichen, wenn Sie sich bei Herrn Jager entschuldigen. Andernfalls sei glücklich, sei still. /Ну посмотрим, как долго ты выдержишь в своем ареоле геройства. Значит, говорю простые правила: обращаться ко мне на вы, не сметь хныкать и о чем-то меня умолять. Я не остановлюсь. Быть может ты можешь чего-то добиться, если начнешь извиняться перед герром Ягером. В ином случае, лучше молчи./ Николай со всей силы бьет ногой Грима в спину, где-то в середину позвоночника, из-за чего Вальтер, естественно пытаясь опереться на стену, немного наклоняется, кое-как упираясь макушкой, а затем и лбом в холодный, растрескавшийся, покрытый липкой паутиной камень. «Я сейчас все из него выдавлю, он сдохнет, в муках сдохнет. За убийство Клауса я его разорву на кусочки, уничтожу, выпотрошу содержимое тела, раздавлю, как паршивого слизня.» — Ивушкин давится этими словами, пока разрезает вытащенным из напоясного чехла ножом хлопковые, модные, черные, эссесовские брюки Грима, царапая до крови острием его копчик и задние части бедер, едва сдерживаясь, чтобы не наброситься и не разорвать зубами, пальцами на куски дергающееся в разные стороны и подвывающее тело.
— Was machst du da, Abschaum? Nun, er ließ mich lebend gehen, ich werde schreien, du wirst eingesperrt, du wirst erschossen! Wie kannst du es wagen, einen Kriegsgefangenen so zu behandeln? /Че ты там делаешь, мразь? А ну отпустил живо, я буду кричать, тебя посадят, тебя самого застрелят! Как ты смеешь так обращаться с военнопленным?/ — Грим пытается лягаться здоровой ногой, но раненая подгибается, не имея сил удержать на себе одной все тело, а здоровую Николай Алексеевич довольно быстро полосует ножом, вынуждая Вальтера оставаться в предельном, необходимом квадранте. Ивушкин все еще не выпускает из груди зверя, потому что мечется, внутри с каждой минутой растет иррациональный страх, что молодые солдаты сверху, которые, конечно, в целом, разделяют его ненависть, увидев это звериное поведение (и изуродованный труп Грима) подумают, что Николай совсем свихнулся из-за войны и сдадут его командованию части, с просьбой организовать место в психиатрической больнице за чрезмерную жестокость в расправе над, увы, все еще немецким военнопленным. С другой стороны в сердце давным давно заседает черная ненависть, о ней забывать нельзя, она подстегивает болезненными уколами в подреберье, она туманит разум. В ней нет счастья, но она так долго копилась, желчью покрывала внутренние органы, давила, душила, что выплеснуть ее сейчас более чем необходимо, иначе она сожжет Николая изнутри.
— Ich werde dich reparieren, damit du Männer liebst. /Буду тебя исправлять, чтобы ты любил мужчин./ Ивушкин криво ухмыляется, ощущая, как кровь приливает к вискам, к щекам, к немеющим пальцам, как темнеет перед глазами от волнения, как к горлу подкатывает ком тошноты, и, не снимая с плеча винтовки Мосина, (вдруг Грим, что конечно маловероятно, попытается снова сбежать и сможет ее забрать), поднимает с каменного пола заранее приготовленную, но лежащую немного в тени, от того словно спрятанную лопату. — Und du bist kein Kriegsgefangener, du bist ein Nazi. Ich kann dich sogar senken und ich werde nichts haben. Sie werden dich sogar loben. Bastarde wie Sie haben unser Land seit '40 oder '1 vergewaltigt, und jetzt laufen sie feige wie Shawki mit ihren Schwänzen zwischen ihren Beinen. Niemand wird für dich einstehen, du bist ein Mörder. Für mich und für andere Soldaten. /И ты не военнопленный, ты — нацист. Я могу тебя хоть опустить и мне не будет ничего. Похвалят даже. Такие гады как ты насиловали нашу страну с сорок-первого года, а теперь трусливо бегут, как шавки, поджав хвосты. За тебя не вступится никто, ты — убийца. Для меня и для других солдат./ Николай грубо вводит ее черенок в задницу мужчине, отчего Грим болезненно вскрикивает:
— Hässlich, lass mich gehen! /Уебище, отпусти меня!/
— Walter, hast du die Regeln vergessen?/Вальтер, ты забыл правила?/ — Николай чуть вздергивает бровь, даже зная, что Грим не видит — это получается машинально. — Erstens, sprich nicht mit mir in diesem Ton, du musst die Regeln des Anstands befolgen, schließlich sind wir keine Freunde. Zweitens warte ich immer noch darauf, dass Sie sich für Ihre schmutzige Tat entschuldigen, für Ihre Behandlung von Guerr Jager. In der Zwischenzeit, wenn du mich immer wieder um etwas bittest, wird es nur noch schlimmer. Schau, als ob du dich mit deinem Heulen langweilen würdest, würdest du deine Zunge nicht verlieren. /Во-первых, не говори со мной таким тоном, надо бы соблюдать правила приличия, все-таки мы не друзья. Во-вторых, я еще жду, когда ты извинишься за свой поганый поступок, за отношение к Герру Ягеру. А пока, если продолжишь меня просить о чем-то, будет только хуже. Смотри, как бы надоев мне своим воем, ты не лишился бы языка./ Ивушкин выводит черенок полностью из заднего прохода нациста, наблюдая, как по дрожащим бедрам Грима бегут струйки крови, прислушиваясь с восхищением, как лопается нежная кожа, отмечая как появляются разрывы на складочках. — За изнасилование и убийство..моего родного и самого любимого человека, ты сполна ответишь, ты будешь умолять меня прострелить твою поганую башку, чтобы наконец этот кошмар кончился, но он кончится лишь тогда, когда я этого захочу. — Николай злобно выплевывает это на родном языке, чтобы Вальтер не осознал в полной мере, что его ждет и до последнего пытался выжить, интуитивно боролся за жизнь, чтобы, быть может, убил его болевой шок или масштабная кровопотеря. — Oh, warum bin ich trocken? Du musst weh tun. /Ох, что же это я на сухую? Тебе же наверное больно./ – к концу предложения тембр резко меняется, грубеет, зеленые, колкие глаза щурятся, словно желая прожечь в теле напротив массивную дыру. «Сейчас ты у меня ощутишь все прелести жизни. Твоя кровь будет кипеть.» Николай Алексеевич, оскаливаясь, выливает прежде на свою руку немного водки, а потом уже ею обмазывает окровавленный черенок и вводит его в прямую кишку мужчине снова, гораздо глубже и резче, расплываясь в мягкой улыбке от очередного резкого вскрика снизу. Ивушкин расслабленным взглядом обводит некоторую округлость пола, на которой полустоит Грим — на нее уже натекла небольшая, явно видная лужица крови. — Moan, Shawka, heulen, vielleicht wird der Mitleid mit dir haben. /Стони, шавка, вой, быть может Господь сжалится над тобой./;
Вот Николай с громким звоном отбрасывает от себя окровавленную лопату, а потом так же резко поворачивает Грима обратно к себе, жадно цепляя глазами каждую изменившуюся деталь: почти вылезшие из орбит глаза нациста, разодранный от криков и мольбы, иссохший от жажды рот, измазанные грязью, потом, слизью и слезами щеки.
— Wie wäre es damit? Hat es dir gefallen?Ich habe gesehen, dass du an dieser Störung leidest, also hätte es mir gefallen sollen./Ну как? Понравилось? Я увидел, что ты этим расстройством страдаешь, значит должно было понравиться./ – Вальтер в ответ выстанывает что-то нечленораздельное, вроде как просит прекратить, давясь собственными слезами и всхлипами, наверняка полностью выкрутив плечевые суставы из нужных костей. — Nein? Du lügst, also schicke ich dich nicht in eine psychiatrische Anstalt. Du kannst es mir ehrlich sagen, Walter. Gib es zu, du mochtest es trocken, du bist unhöflich. Und Hölle, Walter, du hast die Regeln wieder vergessen. /Нет? Ты же лжешь, чтобы я не отправил тебя в психушку. Мне ты можешь честно сказать, Вальтер. Признайся, тебе же понравилось, ты же грубо любишь. И черт, Вальтер, ты снова забыл правила./ — с досадой, расстроенно качает головой Ивушкин, видя, как машинально передергивается тело Вальтера. — Möchten Sie sich bei Gerr Jager entschuldigen, bevor wir weitermachen? /Не хочешь ли прежде чем мы продолжим извиниться перед герром Ягером?/
— Du bist verrückt, Jager ist schon lange faul. Warum zum Teufel sollte ich mich bei ihm entschuldigen? /Ты сошел с ума, Ягер давно сгнил. На кой черт мне перед ним извиняться?/ — сквозь сопли и слезы рычит Грим, уже не задирая как прежде нос и даже не оскорбляя Николая, однако еще не соглашаясь бездумно на каждое слово. «Недоработка.» — хладнокровно анализирует собственные мысли Ивушкин.
—
Du willst es nicht so, wie du es willst. Es tut mir leid, dass es dir nicht gefallen hat, ich glaube, ich habe mich geirrt - Moris, der mit wahrer Lust gezwungen war, nach deinen starken Empfehlungen Guerr Jager einige widerliche Kontrollen durchzumachen, war weicher mit dir im Bett, wo du seine Schirmherrschaft praktiziert hast. Ich habe nicht erwartet, dass er so sehr von einem Hund wie dir verlangt. Aber es ist fixierbar,.. /Не хочешь, как хочешь. Мне жаль, что тебе не понравилось, видимо я ошибся — Морис, с истинным вожделением вынудивший, по твоим настоятельным рекомендациям, Герра Ягера пройти несколько тошнотворных проверок, видимо был с тобой мягче в постели, когда ты отрабатывал его покровительство. Я не ожидал от него такого высочайшего соизволения в сторону такого пса как ты. Но это поправимо,/ — Николай Алексеевич скалит зубы, собираясь злобно пошутить, и вдруг замолкает, видя, как Грим притирается к неровностям в стене, чтобы, видимо, передавить силой веревки на руках и избавиться от них. Медленно Ивушкин переводит взгляд ниже, цепляя глазами резкие движения влево-вправо его толстых, непропорциональных фаланг пальцев. Они двигаются равномерно, цепляя каждый выступ в камнях, сжимая между собой песчаную пыль, осевшую на стене за долгое время.. Неожиданно яркой вспышкой в голову приходит воспоминание, — Николай Алексеевич кривит лицом, словно солнце расплавило его нежную голову своими жгучими лучами, — липкое, ледяное, колкое, но чертовски приятное где-то внутри. Его хочется запрятать в самое сердце и не вынимать, чтобы никогда не забыть..
○○○
—Nikolai /Николай,/ — предупреждающе неровно рычит Клаус, перехватывая и немного отводя в сторону руку, слабо коснувшуюся области чуть ниже ременных шлевок, а затем отнимает от глаз бинокль и поворачивается к камню спиной, оказывась напротив Николая, отмечая довольный блеск в его зеленых глазах. — Ich habe dich gebeten, deine Hände zu reinigen. Wirst du mir zuhören? /я же тебя попросил, прибрать свои руки. Ты собираешься меня слушать?/ — Ивушкин хитро ухмыляется: «Нужно тебя немного отвлечь», — пульсирует пошлая мысль, заняв собой всю голову, из-за чего Николай возвращает пальцы на ременную бляшку, словно проверяя Ягера на прочность, но офицер, совсем не оправдав ожидания (по сравнению со своими первыми двумя твердыми просьбами), от прикосновения не отшатывается, даже не пытается оттолкнуть от себя руку Николая, словно выжидает. — Kolya, wenn du jetzt nicht aufhörst, mich zu berühren, /Коля, если ты сейчас же не перестанешь меня трогать,/ — Николай, слыша, что Клаус, в ответ на его едва ощутимые стимуляции, вздыхает громче обычного, томно облизывается: в глазах молодого человека загораются малюсенькие искорки. — Ich schwöre dir, ich bürge nicht für mich selbst. Ich habe dir versprochen, dass ich dich nicht ohne deine Zustimmung anfassen würde, aber wenn du weitermachst.. /я тебе клянусь, я за себя не ручаюсь. Я тебе обещал, что трогать тебя без твоего согласия я не буду, но если ты продолжишь../
— Ich wusste nicht, dass du das kannst.. werde wütend. /Не знал, что ты умеешь так..злиться./ — растягивая на выдохе окончание, вульгарно шепчет Николай, и, переставая елозить рукой в неположенном месте, приступает к непосредственным действиям: медленно пальцами цепляет сероватую металлическую пуговицу на брюках, затем вынимает ее из петлицы. — Das ist eine verdammte Sache. /Это пиздецки возбуждает./ — Николай прикусывает губу, по возможности максимально соблазнительно и смотрит своими зелеными, подернутыми пленкой похоти, глазами в чернеющие — Ягера. — Komm schon, sag mir, wenn ich ausreiße, wirst du mich ficken. Du willst mich damit einschüchtern, oder? Na ja? /Давай, скажи, что если я расстегну эту молнию, ты меня выебешь. Ты же этим запугать меня хочешь? Ну?/ Николай, не слыша и видя никакого сопротивления от Клауса, который теряется в попытках восстановить сбившееся от наглых поползновений дыхание, перебирается на собачку молнии и с легкостью опускает ее вниз до самого конца. — Ich habe keine Angst vor deinen Panthern, sie können uns nicht die Stirn bieten, so wie du es jetzt für mich bist, Klaus. /Мне не страшны ваши Пантеры, они не смогут противостоять нам, прямо как ты мне сейчас, Клаус./ — Ивушкин чуть наклоняется к камню, на который оперся Ягер, довольно мурча в его полусомкнутые губы, пока Клаус запускает ему руку в чуть спутавшиеся, немного отросшие за время заключения, шатеновые волосы и подтягивает его голову ближе к своему плечу, останавливаясь тогда, когда губы оказываются напротив мочки уха.
— Zunächst einmal, Kolya, denke nicht darüber nach, ich widerstehe nicht, weil es mir nichts ausmacht, aber sie werden es tun, und wie sonst will jeder leben. /Во-первых, Коля, ты не думай, я не сопротивляюсь, потому что не против, а они будут, и еще как, жить хочется всем./ — горячее дыхание Ягера обжигает нежную кожу, отчего Николай, поддаваясь слабости тела и приятным ощущениям, вынужденно отступает, упирается лбом в его обрамленный железными листьями наплечный погон, а руку чуть приподнимает, сминая в ладони суконную серую ткань, где-то на уровне чуть выпирающей тазовой косточки офицера. — Zweitens, werfen Sie keine Worte herum. Ich werde nie etwas anderes mit dir machen, als danach zu fragen. /Во-вторых, не бросайся словами. Я никогда не сделаю с тобой чего-то, кроме того, о чем попросишь./ — и так немного ломающийся от волнения голос Клауса неожиданно срывается на сиплый стон: это Ивушкин, явно про себя на что-то решившись, нарочито медленно проводит языком по верхней губе, а затем плюет себе на ладонь, и, подстроившись под выдох партнера, проникает ею в боксеры, медленно обводя розоватую головку, с которой еще только капельками сочится предэякулят.
— Und ich frage dich fast schon seit wir uns zum ersten Mal getroffen haben, ich will nichts mehr als dich, du in dir, Klaus, mein Gott, bitte, ich bitte dich, bitte. /А я ведь тебя почти с первой встречи нашей прошу, мне ничего не хочется более, чем тебя, тебя в себе, Клаус, боже мой, пожалуйста, я тебя умоляю, пожалуйста./ Николай снова повторяет незамысловатое движение, выбивая из легких Ягера сдавленный, болезненный выдох. — Gefällt es dir, Keys? Sag mir, willst du, dass ich es noch einmal tue, oder? /Тебе нравится, кис? Скажи, ты хочешь, чтобы я еще раз так сделал, м?/ — Николай закусывает губу, и, спуская руку ниже, обхватывает полностью ствол, скользя влажной ладонью по взбухшим венкам, и приподнимает на тяжело дышушего Клауса хитрый взгляд темно-зеленых глаз. — Du willst mich ficken, du willst mich überall berühren, du willst, dass ich unter dir stöhne, oh, um dich zu saugen? Gib es zu, ich kann sehen, wie es für dich immer schwieriger wird, dich selbst zu kontrollieren. Halte es nicht, zerlege es, zerlege es grob. Ich schaue dich an, ich sehe das Licht des Geistes in deinen Augen verblassen, ich sehe ein Tier, das anfängt, dich zu überwältigen, oh Klaus, wenn du deine dunklen Augen sehen könntest. Ich kann alles, Klaus, ich kann es gut, ich habe gelernt, ich brauche es, Klaus, bitte. /Ты же хочешь меня трахнуть, хочешь потрогать меня везде, хочешь, чтобы я под тобой стонал, ох, чтобы отсосал тебе? Признайся, я вижу, как тебе становится все сложнее себя держать в руках. Не держись, сорвись, грубо сорвись. Я смотрю на тебя, я вижу, как в твоих глазах угасает огонек разума, я вижу, как животное начало берет верх над тобой, ох Клаус, видел бы ты свои темные глаза. Я все могу, Клаус, я хорошо умею, научился, мне необходимо это, Клаус, пожалуйста../ Голубые глаза напротив сами собой чуть закатываются, а кадык дергается, в попытках сглотнуть вязкую слюну. Николай просто убежден, что явно видит, как на прежде фальшиво-непоколебимом молчаливом лице читается лишь два лаконичных и предельно ясных слова: Нравится. Еще. Ягер закрывает глаза, прижимая чуть побаливающие в фалангах от чрезмерного сжатия неровностей булыжника за спиной пальцы к влажным от испарины вискам. В уши механическими колебаниями отдает сбивчивое сердцебиение: от взрывающих сознание искренних слов Николая (которые тот так успешно маскировал под грязным кокетством), звучащих, как пленочная навязчивая запись, все громче и громче, кажется, что вот-вот разорвутся барабанные перепонки, выплеснутся жидкости из улитки.
Gib mir. Ich. Dose. /Дай. Мне. Дозу./
Николай, словно подразнивая, поднимает ко рту руку, медленно сплевывая на ладонь, а затем проводит шершавыми подушечками пальцев по напрягающейся головке. — Ich habe dich schon viel berührt. Du hältst immer deine Versprechen, oder? Ist es nicht Herr Standartenführer? /Заметь, я уже много раз тебя потрогал. Ты же всегда держишь свои обещания? Не так ли, Герр штандартенфюрер?/ Ивушкин хитро улыбается, размашистыми движениями распределяет естественную смазку по всей длине привставшего, набухшего от прилившей крови, органа. Клаус ощущает, как безнравственные мысли, перемешанные с первичным отвращением к себе самому, оглушительной, раздражающей силой заполняют голову. Реакция есть, Коля хочет, очень хочет и мало ли, что сам Ягер не имеет особого желания делать ему приятно вот так. Клаус понимает: он знал, что Коля зависимый, он тогда еще должен был его оставить, уйти, спасти от себя, а в итоге остался. Сам виноват. Захотел принять таким, захотел помочь. Неужели не хватило разума понять, что от зависимости люди не лечатся так просто? Психологические, метафоричные нарывы на локтях начинают чесаться, выпускать из набухших меланом струйки алой крови, пальцы дрожат, пытаясь на булыжнике за спиной нащупать толи склянку, толи шприц. Нужен укол, чтобы успокоится. А Коле нужно насилие. И кто такой Клаус, чтобы, привязав к себе ни в чем неповинного человека, отказывать ему, если и сам зависим от морфия в той же степени? Ягеру ли не знать, что такое ломка и что она делает с людьми. «Ох, Коля, знал бы ты, как я не хочу, но и делать тебе больно.. нет, не смогу.» Клаус сглатывает вязкую слюну, чувствуя, как от напряжения по шее стекает несколько капель холодного, липкого пота, а затем пытается позволить себе раскрепоститься, как того хочет Николай, пытается просто перестать думать, отдаться этому самому странному теперь в своем болезненном раскрытии чувству, узлом свернувшемуся внизу живота. «Ему это нужно, разве я могу сейчас сделать еще больнее? Разве мог я себе отказать тогда в инъекции? Разве хотел бы я чувствовать всегда то, что было со мной во второй день? Я готов на коленях был ползать, только бы дали дозу, только бы не рвало кровью и не было бы так больно от простого вдоха.»
— Oh, Kolya..fu würdest wissen, wie lange ich schon über deinen Körper, deine Hände, deine Stimme, deinen Geruch nachgedacht habe, wie sehr ich wollte, dass du unter mir bist. Dass Sie... /Ох, Коля..знал бы ты, как долго я думал о твоем теле, твоих руках, голосе, о запахе, как я сильно хотел, чтобы тебе подо мной было..хорошо. Чтобы ты хотел../ — Ягер напряженно запинается от какого-то внутреннего, слишком сильного, педантичного запрета, а Коля наконец довольно мычит и как-то судорожно хватая Клауса за кисть руки, переносит ее на свою ягодицу. Ягер же, поняв и приняв наконец мотивацию Ивушкина и довольно раскрепостившись от болезненного возбуждения, накатившего на грудь, низко рычит, жадно сжимает предоставленную область, — в ответ на что Николай рвано полупростанывает, — и переворачивается с молодым человеком вместе, нависая над опустившимся животом и верхней частью тела на камень, Ивушкиным, в предвкушении облизывающим губы.
— Ich liebe es zu sehen, wie du von mir angemacht wirst, wie aufgeregt du bist, wie du dich auf mich wirfst... Mach weiter, mein Gott, mach weiter. /Мне нравится видеть, как ты заводишься от меня, как возбуждаешься, как бросаешься на ме-еня.. Продолжай, боже, продолжай./ — Николай выдает очередную неблагопристойность, пока Клаус дрожащими руками, сбиваясь с привычного ритма дыхания, расстегивает и чуть стягивает с худых бедер Ивушкина брюки. — Schmiermittel in der Tasche. /Смазка в кармане./ — предвкушая вопрос, повисший у Ягера на языке, Николай качает головой влево. Клаус медленно достает пузырек.
— A.. also ist es dasselbe.. /А..так это же../
— Schlüssel, tut mir leid. /Киса, прости./ — Ивушкин чуть поудобнее упирается локтями в булыжник, сползая немного к Ягеру ближе, пока тот поддевает крышечку и обильно смачивает два своих пальца вязкой, бесцветной жидкостью. — Ich habe deine vom Nachttisch genommen. Woher bekomme ich meine von hier? Ich dachte, es würde dir nichts ausmachen. /Я твою взял из тумбочки. Откуда мне тут добыть свою? Подумал, ты не будешь против./
— Natürlich werde ich es nicht tun, ich hätte sie selbst gefangen genommen, hätte einfach nicht gedacht, dass es so ausgehen würde. Und du? Wussten Sie, dass das passieren würde? /Конечно не буду, я бы и сам ее захватил, просто не думал, что все так закрутится. А ты? Ты знал что так будет?/ — с примесью изумления в голосе спрашивает Клаус. «Знал, что я не откажу? Что поддамся своему телу?» — эти слова Ягер намеренно проглатывает, пытается даже не задерживать в голове, чтобы не думать, не корить себя. Николай роняет голову на кисти и глухо отвечает:
— Ich war mir nicht sicher, aber ich hoffte, dass du nicht nein sagen würdest. Ich habe lange Zeit gewollt. /Уверен не был, но надеялся, что ты не откажешь. Все-таки мне очень давно хочется../ Ягер удивленно приподнимает брови, в голову лезут какие-то прерывистые, плохие мысли, — «объект..использует... я — не человек..» — но Клаус не может сосредоточиться, потому решает пока гиблое дело оставить, и, выполняя желание своего партнера, осторожно начинает движение. На удивление, пальцы входят внутрь с наименьшим от ожидаемого сопротивлением. Ивушкин слабо всхлипывает, смахивая тыльной стороной ладони с пушистых ресниц выступившие слезинки, и подается тазом назад, мыча что-то нечленораздельное на родном языке, вроде: — О боже, наконец-то~
— Irgendwie einfach.. Du hattest so lange niemanden. Du bist seit über sechs Monaten im Lager. Warum? /Как-то просто.. У тебя же никого не было так долго. Ты в лагере больше полугода.. Почему?/ — Клаус хмурится, как вдруг мысль осознания пронизывает его голову. — Sag mir nicht, dass du... bist?! /Да ну, не говори что ты..?!/ «Неужели, одного меня ему мало? Или он уже нашел кого-то? Почему? Потому что я так долго не соглашался на секс? Неужели моя забота обернулась этим? Неужели, я делаю что-то не так? Было бы лучше, если бы я как зверь накинулся и выебал бы его без вопросов? Неужели он так хотел с самого начала? Не деньги, не власть, мое тело.. Субъект. Он не видит во мне человека?» — неудовлетворительные размышления (самоедство) Клауса прерывают.
— Schlüssel, du hast es einfacher gemacht, dich ein wenig gestreckt. Du wirst keine Zeit verschwenden. /Кис, тебе же задачу облегчил, растянул себя немного. Не будешь времени тратить./ — томно поясняет Ивушкин так, будто говорит о чем-то совершенно будничном, из-за чего Ягеру совсем кружит голову: плохие мысли, от вновь накатывающего возбуждения, чуть отпускают, но не уходят полностью, заседая где-то на задворках сознания, готовясь вот-вот, после освобождения, заполонить собою пространство. — Mit anderen Worten, wegen der Genossen, die versuchten, zur falschen Zeit aufzuwachen, war es ein bisschen schwierig, Wenn ich jedoch an Ihr Mitglied in mir denke, habe ich es gut gemacht. /Впрочем из-за товарищей, которые норовили проснуться не в то время, сделать это оказалось сложновато, однако, думая о твоем члене в себе, я справился./ Возбуждение от Колиных слов мешается со здравым рассудком и расстройством, Клаус болезненно стонет, понимая, чего от него ждет Ивушкин, но совсем не осознавая, о чем он сам думает искренне, а что — лишь плод фантазии развитого эмоционального интеллекта.
— Grh! Kolya, du wirst mich völlig verrückt machen. Geben Sie es mit einem so süßen Lächeln zu, dass das Nachdenken über mich mich mich berührte? Kolya, nun, das ist der Gipfel der Vulgarität~ /Грх! Коля, ты меня совсем с ума сведешь. Признаешься с такой милой улыбочкой, что думая обо мне трогал себя? Коля, ну это верх пошлости~/ — похабно-болезненно рычит Клаус и мягко раздвигает эластичные стеночки прямой кишки пальцами несколько раз на манер ножниц, а затем давит на небольшую область тонкой стенки, за которой спрятан комочек нервов, отчего Николай, поперхнувшись воздухом, едва ли не задыхается, на мгновение перестает дышать совсем, запрокидывая голову с довольным стоном. — Du hättest dein Gesicht sehen sollen, Kolya. /Видел бы ты свое лицо, Коля./ — Ягер, совершенно поддавшись возбуждению, ухмыляется, двигая пальцами немного быстрее, второй рукой заползая Николаю под рубашку, оглаживая его напряженные лопатки и спину. Тоже ведь давно не было подобного контакта и симпатия к Коле и жалость к нему сделали свое грязное дело. — Es ist einfach göttlich. Halte dich nicht zurück, da ist niemand hier, und ich möchte wirklich hören, wie gut ich dich machen kann, wo er ist, deine Grenze. /Это просто божественно. Не сдерживайся, здесь никого нет, а я очень хочу слышать насколько хорошо я могу тебе сделать, где он, твой предел./ — как бы для подтверждения своих слов Клаус чуть посильнее давит кончиками пальцев, стимулируя простату. — Ich werde dich noch ein wenig länger strecken, damit du spüren kannst, wie selbst eine so einfache Aktion angenehm sein kann, und im Allgemeinen bist du klug, Kolya, dass du dich um deinen Komfort gekümmert hast. Ich bin so froh, dass du den Prozess wirklich selbst spüren wolltest, dich nicht für irgendetwas bestrafen wolltest. Ich hätte wirklich nicht in Ihre Gewalt verwickelt sein können. Mir ist es wichtig, dass du dich gut fühlst. /Я тебя все равно еще немного растяну, чтобы ты почувствовал, насколько даже такое простое действие может быть приятным, а вообще ты умничка, Коля, что позаботился о своем комфорте. Я так рад, что ты правда захотел прочувствовать сам процесс, а не наказать себя за что-либо. Я, правда, не смог бы участвовать в твоем насилии. Для меня важно, чтобы тебе было хорошо./ — Ягер медленно вытаскивает пальцы и подливает на них немного смазки, после чего осторожно входит обратно, сразу легонько ускоряя темп, и, наклонившись, целует шумно втянувшего в легкие воздух Ивушкина в обнажившееся плечо. — Ich verspreche dir, dass ich sanft und vorsichtig sein werde, du, wenn überhaupt, sag mir, dass ich es nicht tolerieren soll. /Я обещаю тебе, что буду мягок и осторожен, ты, если что, обязательно мне говори, терпеть не нужно./ — Николай кратко качает головой, покусывая тыльные стороны обоих своих кистей, а Клаус наклоняется еще, ближе к его уху и отчаянно шепчет: — Ich liebe dich, Kolya. /Я люблю тебя, Коль./
○○○
Ich liebe dich.
Николай встряхивает голову, сгоняя наконец дымок воспоминаний, и делает глоток водки из собственного бутылечка, морщась, заодно скрывая в горячих ладонях щеки, чтобы ни Вальтер, ни невидимые души погибших, навеки застрявшие в этой комнате собственной погибели, как в замызганном чистилище, не увидели, не поняли нечаянно, о чем именно думал "Великий советский солдат, командир дивизии, защитник Социалистической родины и главный каратель фашистов" и какие собственно связи с этими самыми фашистами (вернее с одним из них, фашистом-то неполноценным) его связывали. Он ведь тогда так ничего и не ответил, на это надрывное признание. Подло промолчал. Ивушкин прячет бутылек обратно во внутренний карман кителя. После такого сюрприза от памяти, молодой человек принимает решение сохранить остаток для себя, мало где еще подведет разум. А на Грима тратить совсем уж становится жалко. Много чести – раны ему вдобавок дезинфицировать. А кровь из его тела будет хлестать и без лекарственного воздействия, хватит простого дедовского ножа.
— Ah, ich verstehe es. Du willst mehr Freiheit, du willst, dass ich deine Hände auflöse, damit du nicht wie ein krankes Tier stirbst und nicht in der Lage bist, deinen Peiniger zu zerschlagen. Komm schon, ich werde mich damit beschäftigen. Nur Sie werden sich später entschuldigen: ein Quid pro quo. /А-а, я понял. Ты хочешь большей свободы, ты хочешь, чтобы я тебе развязал руки, чтобы ты не умирал, как больная скотина, не имея возможности врезать своему мучителю. Давай, я с этим разберусь. Только ты потом все-таки извинись: услуга за услугу./ Ивушкин достает из чехла нож: Грим, наивный, даже поворачивается спиной, протягивая вперед связанные руки, столь глупо надеясь, что Николай Алексеевич в самом деле разрежет на них веревки! «Видно и извиниться уже готов, в ногах скоро начнет ползать, умоляя о пощаде.» Ивушкин хватает грубо Вальтера за одну из рук, выцепляет из скрепленных ладоней пальцы, после чего делает надрез у основания первой фаланги большого пальца на левой руке, отчего со стороны Грима снова звучит нечто вроде мольбы о прекращении, смешанной с воплями: «— Ich entschuldige mich! /Я ведь извинюсь!/» — Bald kannst du deine Hände selbst herausziehen, aber du musst ein wenig geduldig sein. Sie waren sehr von meinen Kollegen gefesselt. /Скоро ты сам сможешь вытащить свои руки, но придется немного потерпеть. Тебя сильно связали мои сослуживцы./ — смеется Николай Алексеевич, дробя сильными, но не всегда точными (отчего мажет лезвием по тыльной стороне кистей, по сухожилиям, по другим пальцам, по внутренней стороне ладоней) ударами ножа, кость, а затем вдруг серьезнеет, когда наконец хватает обоими руками изрезанный, едва ли не вспоротый поперек палец Грима и, стиснув со скрежетом зубы, приложив определенные усилия, ломает его, добиваясь того, что из слоев мышц вылезает головка той самой треснувшей косточки. — Jetzt breche ich jeden Finger für dich, schneide jede Sehne, schneide jede Vene, meine Haut. Nun, jetzt wirst du diesen ganzen Hof mit deinem schmutzigen Blut überfluten, und dann wird ein Haufen Fliegen zu diesem Gestankgeruch strömen, nur dass es ihnen nichts ausmacht, einen Ort auf der Erde mit dir zu teilen. /Сейчас я тебе каждый палец переломаю, каждое сухожилие перережу, всякую вену вспорю, псина. Сейчас, сейчас, ты зальешь своей поганой кровью весь этот двор, а после — на этот смрадный запах слетится куча мух, лишь они и будут непрочь делить с тобой одно место в земле/;
Вот Николай убирает в напоясный чехол окровавленный, немного местами погнутый от чрезмерно сильного воздействия извне, нож, и шумно выдыхает: его внимание совсем перестают привлекать нудящие слезы и мольбы Вальтера, пытающегося остановить вытекающую из обрубков рук кровь: Грим даже пробует прижать их к своему, пропитанному кровью из колена кителю — положительного эффекта, правда, это не производит, зато китель сильнее окрашивается в грязно-бурый цвет, а Вальтеру в открытые раны забивается поверхностная грязь, вызывая у мужчины сильную ссаднящую боль и замедленный процесс воспаления и некроза тканей. Николай косит глазами на нечто другое: на, заметно выделяющиеся из под замызганной, едва ли не свалившейся с головы, крайне скосившейся, смявшейся эссесовской фуражки уши Грима. Молодой человек трясет головой, чувствуя, как от сильного напряжения дрожат мозолистые подушечки пальцев и дергается мышца в самом низу голени. «Schöne Ohren.. Клаус так любил целовать меня в уши, когда узнал, что мне такое нравится. Он был столь мягок со мной, всегда, а я.. я даже не знаю, как ему хотелось бы. Никогда не спрашивал. После секса так уставал, сразу в бараке валился спать, было не до разговоров, но тогда, оставшись у Клауса на ночь.. я так и не спросил. Я вообще никогда не спрашивал. Я..понял только недавно, что всегда его использовал. Только использовал. А он, он пытался дать мне свою любовь. Я бы сейчас на колени перед ним упал, лишь бы простил, но эта мразь, Грим, лишил меня этой возможности. Клаус ушел, так и не узнав, как сильно я мог бы любить его.» Николай утробно рычит от накатывающих волнами на несчастное, потерянное сердечко боли и злости, как на Вальтера, так и на себя, на свои травмы, ставшие причиной подобного отношения к Ягеру. «Такого прекрасного человечка и так отвратно использовать, убить. Сволочь.» Ивушкин делает шаг к пытающемуся куда-то из замкнутого пространства сбежать Вальтеру, хватает его за правое плечо, изо всех сил сжимая руку, в моменте оглаживая с довольной ухмылкой вспухшую на кости, налившуюся кровью гематому, а затем второй рукой берется за его левое ухо, всю раковину умещая в ладонь, пальцы располагая у самого корня.
— Deine Ohren sind großartig, Schwein. /Ушки у тебя замечательные, свинья./ — сплевывает Николай сжимая руку, с силой вонзаясь ногтями в чужую кожу, что она, чуть опосля, рвется, и, после небольшого прокручивания кисти и сильного рывка, практически вся ушная раковина с мясом оказывается оторвана и зажата в дрожащем от напряжения кулаке Ивушкина. На боковой части лица Грима, на уровне глаз, обнажается ушной хрящ, из появившихся отверстий начинает все быстрее струиться алая кровь. — Wage es einfach, dass ich früh sterbe, ich werde dich rätseln, ich werde dir keinen Frieden in der Hölle geben, ich werde ihn überall finden, ich werde ihn überall beenden. /Только посмей мне раньше времени сдохнуть, я тебя изрешечу, в аду покоя не дам, везде найду, везде добью./ — Николай цепляется пальцами за второе ухо — вскоре и оно оказывается на сыром полу. Из-за режущего слух истеричного воя Вальтера, должно быть, солдаты наверху, морщась, затыкают ушные проходы, только Николай, словно абстрагировавшись, ощущает лишь собственное дыхание, прерывающее давящую гробовую тишину, нарастающий звон в ушах и сердцебиение на кончиках стершихся пальцев.
— Ein überbackenes Nuss aus der Mitte! Ein kranker Idiot! Ich bin verrückt nach meinem Jager! Geh, grabe seine Leiche aus, entschuldige dich und sauge sie aus. /Гребанный псих! Больной идиот! Помешался на своем Ягере! Иди, выкопай его труп, извинись и отсоси ему./;
Вот Ивушкин, утирая со лба пот от усталости, стоит перед в конце концов вставшим, хоть и посредством насилия, на колени, почти постоянно болезненно сипящим, (от постоянных криков уже сорвал себе голос), Гримом, лишенным чести, пальцев рук, обоих ушей и даже одного глаза — Николай, припомнив прекрасные голубенькие глаза Клауса, которыми тот на него (на Ивушкина) любил засматриваться, проткнул ножом карий — Грима, а затем вырезал его из глазницы, посмеявшись от того, что вместе с влажным, от чуть вытекающей за границы сетчатки и роговицы (из-за не совсем удачного, слишком размазанного прокола) прозрачной жидкости, глазным яблоком, из под века вылезло несколько синевато-красных нервов, ведущих в мозг и к спинным артериям, которые пришлось перерезать и оставить торчать из зияющей, наполненной какой-то слизью и кровью дыры. Само же яблоко Ивушкин, заставив Грима ползать на коленях, чтобы тот смог разглядеть уцелевшим глазом все вблизи и в деталях, раздавил, а потом повозил по расплывшимся остаткам подошвой.
— Entschuldige dich, entschuldige dich, Hund, vielleicht wirst du mich holen und ich werde das Gewehr schneller in deinen Kopf entladen, bevor ich Zeit habe, alles zu versuchen, was ich vorhabe. /Извиняйся, извиняйся, псина, быть может ты меня достанешь и я быстрее разряжу винтовку в твою голову, не успев опробовать все, что задумал./;
Вот Ивушкин цепляясь дрожащими от напряжения пальцами за рукоять окровавленного ножа, пока винтовка, о которой молодой человек почти позабыл, прикладом то и дело бьется об выпирающую лопатку, едва не съезжая по руке вниз, в локтевой сгиб, делает последний надрез на покрытом грязью и испариной лбу едва ли находящегося в сознании от большой кровопотери Вальтера, после чего чуть отходит, крепче перехватывая рукоять. На разодранной, свисающей клочьями, тонкой коже красуется уродливая свастика: кровь из ее концов затекает Вальтеру в отверстие, где ранее был глаз и задевает краснотой оставшийся, обвивает взбухшие от ударов щеки, смешивается с синеющей кровью, истекающей из остатков ушей, пачкает собою бордовые синяки под глазами и на щеках, мешается с грязевыми разводами на кителе, капает с подбородка на пыльную брущатку.
— Das hat Herr Jager mit Ihnen zu tun. /Вот, что с тобой должен быть сделать Герр Ягер./ Николай Алексеевич шмыгает носом, после чего вскидывает винтовку, с наслаждением взводя затвор, приклад упирая в плечо, направляя прицел на лоб ненавистного убийцы:
— Ersparen Sie es! Ich werde alles vergessen, ich werde nichts sagen! Ich bin bereit, Ihnen von all meinen Komplizen zu erzählen, ich bin bereit, in Minen zu arbeiten, ich bin bereit, dem Leben zu dienen, ich bin bereit, den Toten eine Entschädigung zu zahlen, ich bin zu allem bereit, rette einfach mein Leben! Du bist ein Befreier! Der große sowjetische Soldat, Friedensliebhaber, Befreier! /Пощади! Я все забуду, я ничего не скажу! Я готов обо всех своих подельниках рассказать, я готов работать на рудниках, готов отсидеть пожизненно, готов выплатить компенсации погибшим, я на все готов, только сохрани мне жизнь! Ты же освободитель! Великий советский солдат, миролюбец, освободитель!/ — едва слышно, но заметно лживо, льстиво всхлипывает Грим, протягивая вперед, к Николаю, обвисшие обрубки своих окровавленных рук. «И все-таки сломался, переступил через свою гордость, даже несмотря на такое огромное количество пережитых страданий, умирать уже боится, не хочет, кажется ему так обидно в этот ужасный момент уходить из жизни, столько вытерпев.» Ивушкин в ответ несколько раз презрительно плюет на сырой пол перед посиневшими от длительного нахождения на одном месте, причем не на ровном, коленями Вальтера. «Сдохнет не только его физическая оболочка, но и внутренний напор, как я и хотел. Клаус будет полностью отомщен.»
— Schließe deinen schmutzigen Mund, Nazi-Schwein. Ich bin ein Bumerang für dich. Ich bin eine blutige Rache. Ich leide. Darauf bin ich stolz. Du musstest an deinen Arsch denken, als du Klaus Jager unverschämt tötetest, nur weil du dort etwas gesehen hast. Glaubst du, ich würde es vergessen? Glaubst du, ich würde damit durchkommen, selbst nachdem du hier heultest? Wie ein Schal. /Закрой свой поганый рот, нацисткая свинья. Для тебя я — бумеранг. Я — кровавая месть. Я — страдания. И я этим горжусь. Думать о своей заднице нужно было тогда, когда ты без зазрения совести медленно убивал Клауса Ягера, только потому, что ты что-то там увидел. Думаешь, я бы забыл? Думаешь, я бы тебе это все спустил с рук, даже после того, как ты выл здесь? Как шавка./ — Ивушкин снова с презрением сплевывает, до сих пор не спуская со лба Вальтера дуло винтовки.
— Du verdammt, du wirst Jager folgen. Ich bin stolz, ihn getötet zu haben, das Reich braucht keine Untergebenen. /Пидор ебанный, ты последуешь за Ягером. Я горжусь, что убил его, Рейху неполноценные не нужны./ — хрипит Вальтер, видно поняв, что мольбой ничего кроме унижений он не добьется, все равно умрет, а может быть в последний момент вспомнив на чьей он стороне и что ему дороже жизни. (Родина или истина, сомнительного характера, сразу и не понять.)
— Und ich bin stolz auf das, was ich dir angetan habe, Schwein. Ich habe gut gelacht, aber das reicht nicht. Glaubst du, dass ich, der ich sein Blut aus meinen Händen und meinem Körper wäschte und zwei Jahre lang kein normales Leben führen konnte, dachte, dass ich ein sowjetischer Befreiersoldat bin und daher dein Leben retten sollte? Stirb, lass deine schmutzige Seele der Schlüssel zu seiner Ruhe in der nächsten Welt sein. Und schließlich werde ich dir deine gesprächige Zunge nehmen. Trotzdem hast du es mir verkauft, kaum über deine eigene Schuld gejammert und wolltest dich entschuldigen. /А я горжусь тем, что сделал с тобой, свинья. Я хорошо посмеялся, но этого не достаточно. Думаешь, я, отмывая с рук и тела его кровь, не имея возможности нормально жить два года, должен был думать о том, что я советский солдат-освободитель и потому должен тебе сохранить жизнь? Сдохни, мразь, пусть твоя поганая душа будет залогом за его спокойствие на том свете. А напоследок я лишу тебя твоего болтливого языка. Все равно ты мне продал его, едва заскулил о собственной вине и пожелал извиниться./ Ивушкин, уже не слушая сопливые завывания под ухом, содержащие в себе толи слезливые мольбы, толи злостные угрозы, резко вешает винтовку на плечо, засовывает несколько пальцев Вальтеру в рот, правую тянет вверх, левую вниз, заставляя Грима открыть рот, после чего цепляет, чуть повозившись из-за сопротивления Вальтера, ногтями для пущей наглядности его суховатый язык, и грубо дергает его на себя, чтобы вытащить за пределы челюсти, после чего освободившейся правой рукой лезет за ножом, которым, спустя мгновение, язык и отрезает. Затем Николай встает, одним движением прижимает приклад винтовки к плечу и нажимает на курок.. Из затылка Грима вылетает пуля, оставляя за собою красное пятно на стене. — Наверху все видели: и грехи твои, и сопли, и нытье. Ебаный трус. Перед смертью легко пиздеть, ну ничего, надеюсь ты за всех настрадался. Надеюсь теперь я отомстил за Клауса сполна. Надеюсь теперь его душа будет спокойна. — удовлетворенно сплевывает на пол Николай, поднимая винтовку на вытянутой руке, стуча несколько раз прикладом в потолок, давая знак солдатам что казнь окончена.
●●●
«Отчего сейчас, все это в голове прокручивая, оценивая, я чувствую себя сумашедшим, больным? Словно бы жестокость, проявленная мною, оправдана быть не может даже потерей. Грим заслужил, я сделал все верно, но как мне хватило на такое моральных и физических сил? Наверное хорошо, что я теперь, выпустив эту желчную ненависть из души, немного пришел в себя — хотя бы больше никого не убил, кроме выделенных приказами.» Николай лежать более не может, — от выпивки еще и мутит, — встает, включает прилушенный свет, садится на койке, вытаскивает из под подушки, тщательно спрятанную и каждодневно охраняемую неприглядную зеленую тетрадь — так выходит, что именно она является самой главной причиной душевных терзаний Ивушкина, с ней связаны все ужасные воспоминания, она собою занимает как минимум половину всей жизни. Николай Алексеевич решает привести здесь, в одной из ночных комнат казарм советской части, пока большинство солдат и офицеров отмечает победу на кухнях, свое разбитое от резко нахлынувших воспоминаний, смешанных с алкоголем, моральное состояние в какой-никакой порядок. Николай Алексеевич крутит тетрадь в руках, но не выдерживает, откладывает ее на изъеденную молью простынь, а после запускает ладони в жёсткие волосы и в отчаянии тянет их на себя. К глазам снова подкатывают соленые слезы. «Как же я мог тогда отпустить его? Почему не пошел за ним? Почему с таким равнодушием относился к нему, к его заботе? Как к должному. И ведь я видел, как ему плохо, я не должен был ложиться тогда спать. А мне было все равно, мне нужно было только сбежать. Я знал, что Клаус позволит. Больше я и не пытался показать даже, что он важен мне. Хотя в глубине души, где-то в незачерствевшей области, в самом деле, я любил его. Я виноват. Клаус говорил мне о Гриме, о своих переживаниях, а я не слушал. Только во время секса меня немного отпускало и я становился разговорчивее. Я виноват, я показал свое напускное равнодушие, которое в какой-то момент чуть не убило меня (чуть раньше, со стороны Клауса), я допустил, что тогда пришел Грим и убил его.»
В первый раз, когда Николай Алексеевич читал этот своеобразный дневник Клауса, еще в лагере, в день его гибели, он находился в странном состоянии толи равнодушия, толи чуть приподнятого настроя, скорее от шока, нежели от осознанной продуманности. Ивушкин переживал лишь за то, что по причине гибели штандартенфюрера, — не последнего человека в структуре СС, — им с экипажем будет сложнее сбежать, мало ли великие военачальники Вермахта, приехавшие почтить память будущего коллеги и отдать дань уважения его памяти своим присутствием во время тренировки, — последнего важнейшего проекта Клауса Ягера, быстро заподозрят неладное, перекроют автобаны, в общем вынудят Николая экстренно вносить в и так шаткий план более неприятные, рискованные корректировки. О самой смерти Ягера Николай думал мало. То и дело проскальзывала склизкая мысль, но довольно скоро растворялась в гуле других. В самом деле, было ли Ивушкину по настоящему дело до немца? Да и мог ли он себе подобные чувства позволить? Николай с самого начала Ягера возненавидел, как ненавидел всех оккупантов, вошедших на его землю, убивших его соотечественников, друзей, принесших боль и страдания всем, нависшим над свободой угрозой. Ивушкин просто понял в лагере, что нужно подмазаться, этой мыслью и руководствовался, ложась под врага. Клаус — всегда был врагом, а теперь, когда его не стало, не приходилось переживать, что нужно его благодарить за оказанную помощь, что опасные чувства штандартенфюрера к русскому вне лагеря заметят русские, белорусские, украинские сослуживцы и за это Николай, по возвращении, получит каторжный срок за настоящую измену. Родина — превыше всего. А чувства к врагу, хлипкие, слабые, всегда можно забить, уничтожить, главное оказаться на свободе, чего Ивушкин, был уверен, вот-вот добьется.
Несколько дней, пока вся Германия блюла траур по штандартенфюреру, Николай готовил экипаж, полировал танк, а через четыре дня с боевым настроем вышел на восстановленном Т-34 на полевую тренировку, которая должна была стать для многих курсантов Гитлерюгенда последней. Про снаряды не знал никто, только экипаж был посвящен Ивушкиным, в тот предпоследний день плена, когда он точечными, финальными штрихами дорисовывал план побега на танке из лагеря. После того, как Т-34 пересек ворота лагеря с железной проволокой, Николай, находясь на месте наводчика, не отвечая за вождение (мехводом, как и под Москвой, стал Степан Савельич), и не неся ответственности за снаряды — (на это место посадили Серафима Ионова,) — наконец полной грудью выдохнул, улыбнулся, убедившись, что под ним механически, не подбито, а скорее воодушевленно, столь привычно ревет, на полном ходу двигающийся к границе с Чехословакией, советский танк. Степан Васильевич, во время всеобщего ликования, выразил беспокойство, что пересечь заградительные линии немцев на автобанах будет непросто и, немного поднявшись со своего места внизу танка, похлопал Ивушкина по колену:
— Як добра, камандзір, зараз мы сапраўды перамаглі фашысцкую гадзіну! І будзем ламаць ім хрыбты на фронце, хутка-хутка. Спадзяюся чортаў Ягер, якога мы, а дакладней вы, так добра абвялі вакол пальца, знервавававаўшыся пройгрышу, не сядзе нам на хвост. Ну, хоць, вы ж картограф. З вамі мы справімся. /Как хорошо, командир, теперь мы точно победили фашисткую гадину! И будем ломать им хребты на фронте, скоро-скоро. Надеюсь чертов Ягер, которого мы, а точнее вы, так хорошо обвели вокруг пальца, расстроившись проигрышу, не сядет нам на хвост. Ну, хотя, вы же картограф. С вами мы справимся./
Николай Алексеевич резко встает с койки, смачивает иссохшее лицо холодной озерной водой из набранного по приходе каким-то солдатом ведра (выходит какой-никакой умывальник в этом полуразбитом здании организовали), пытаясь остатки разума привести в чувства. Он прекрасно помнит, как рассмеялся тогда, гордо похлопал Савельича в ответ по плечу, цепляясь пальцами за металл танковой ручки. Он был счастлив. Он думал, что избавился от обузы. Бледность и тошнота отступают, лишь пальцы сводит, но виной этому чрезмерный холодный пот. Не хватало только снова упасть в моральную яму, как всего пару месяцев назад, — ведь Николай тогда полностью осознал, кого же он потерял, — а затем так долго выбираться, по крупицам собирая остатки своей мертвой личности, ежедневно без желания и почти насильно возвращая себя в сознание. Николай Алексеевич возвращается на железную койку.
Ивушкин вспоминает, как в сорок-третьем, после нескольких недель службы в штрафбате, он хотел этот дневник сжечь, чтобы никто из новых сослуживцев ненароком не нашел: не поймут ничего конечно, на немецком же написано, однако заподозрят что-то уж точно, потом не избежать суда. Уже над разведенным ротой костром, рука Николая задержалась у груди, Ивушкин сам не заметил, как отошел к военной машине, а тетрадь осталась под сердцем, уже заботливо прижимаемая к груди локтем. Нет. Не сможет. Уже начал понимать.
Николай Алексеевич снова открывает глаза совсем нехотя. Если бы только мог он вернуться назад, остановить Клауса, изменить все, в своей каморке схватить крепко за руку и не отпускать; уцепиться зубами за одежду; оттащить прочь от двери, сломать и выбросить в окно его пистолет, находящийся у Грима, но не дать уйти, не позволить прийти пьяному Вальтеру, не отпустить, никогда. «Почему Грим забрал именно тебя? Почему ты тогда пошел к себе? Почему не остался со мной? Почему я тогда был столь равнодушен? Почему не понимал? Лучше бы погиб я, нежели ты..» Молодой человек снова ощущает на лице неприятную теплую влагу: это не озерная вода, это позорные слезы. В груди нарастает с новой силой то самое чувство, мысли навязчивые преследуют, снова встают перед глазами картины:
Нечеловеческий крик, срывающийся на болезненное сипение по естественным причинам, предваряющий и сопровождающий оторванную от реальности, заторможенную попытку Николая по просьбе Тиллике закрыть ладонями рваное отверстие на боку, под грудью офицера, в разможенной коже;
„Прощай, увидимся во снах“.
Местами вздувшийся пузырями, местами продавленный подошвами, телом — линолеум, в разной степени запачканный, залитый грязной, бурой, частично зеленоватой, синеватой кровью, смешанной с рвотой, слюной и чем бы там не было еще (вникнуть особо не получилось, да и не хотелось);
Испачканные в чужой (его) крови собственные руки, колени, ее капли на лице, веках, одежде; лезущие пучками сухие пепельные волосы, только от того, что Николай пытается их погладить — немного отвлечься, чтобы не стошнило на месте;
„Дай мне посмотреть в последний раз в твои глаза“.
Учащающийся судорожный кашель Клауса, из-за которого он задыхается и отхаркивает слизь и кровь на свои щеки, на пальцы Николаю, которые тот пытается осторожно положить на его лоб, чтобы хоть немного смягчить страдания, все же он не зверь, не животное, чтобы и сейчас равнодушничать;
Чрезмерные, едва ли удачные попытки Клауса взять и сжать сохранившей координацию рукой с переломанными, плохо сшитыми между собой костяшками, руку Николая;
„Лучше умереть, если с тобою быть нельзя“,
Ветвеобразный шрам на щеке, взбухший, местами разъехавшийся, заполненный новой, свежей плотью и кровью, которая стекает по скуле и шее, давно собой запачкала серый китель;
Безвольно висящая, распластавшаяся по полу вторая рука — пуля, похоже, задела нерв в груди;
„Дай мне посмотреть в последний раз в твои глаза“.
Всхлипы Клауса, в перемешку с которыми он пытается шептать изувеченным голосом, прерываясь на булькающее, рваное, свистящее дыхание, как он его (Колю) любит, как извиняется за все и хочет только мира и добра, за это и умирает.
Глаза Николая Алексеевича очень болят, все красные — некоторые капилляры в них, наверное, от длительного напряжения лопнули или скоро лопнут; голова налилась свинцом, от груди оторвать её сил нет: а мысли, издевательски, роем осиным атакуют, оседают на истонченном черепе слоем толстым, не пропуская живительный кислород. Из разбитого местами зеркала, криво висящего на стене напротив, на Николая смотрят глаза, голубые, ледяные, трупно-мертвецки-блеклые. Его глаза. А за спиной, где-то в постепенно все сильнее расходящейся кругами стене, виднеется силует в широких штанах, со съехавшей на лопохухое ухо фуражкой, на кокарде которой блестит серебрянный орел, вскинувший к небу крылья, когтями удерживающий цикличный символ света, счастья и процветания..
Lies es noch einmal und du wirst es verstehen. /Прочитай еще раз и ты все поймешь./
— Прости.. прости, прости, прости!!— Николай Алексеевич искусывая в кровь губу, поднимает с простыни тетрадь, не имея сил сдержать судорожные подрагивания тела от слез и страха, и открывает первую страничку: за обложкой, обнаруживается небольшой тканевый сверток, немного вдавивший первую страничку, — Ивушкин, честно сказать, про него позабыл даже. Николай разворачивает грубую ткань, оставшуюся от изорванной в лесах тюремной робы лагеря, и осторожно, стараясь не касаться лишний раз, пальцами вытаскивает подобие браслета, неаккуратно сплетенного из лоскутков самых разных тканей: где-то на уровне его середины на неаккуратном обрывке ткани иного покроя нашит номер: «R–291-534». Сам обрывок чрезмерно слабо прикреплен, как будто делалось это кустарным способом. Так и было. Изначально браслет был из веревок, царапающих и стягивающих кожу, и был выдан Николаю комитетом лагеря «Заксенхаузен», вместо тюремной робы, которую постановили заменить на более формальную, гражданскую одежду. Сделано это было, чтобы не волновать якобы чрезмерно нежное и ранимое эго офицера СС Клауса Ягера, который, после данного Ивушкиным согласия на обучение курсантов, стал проявлять к молодому человеку некоторое благоволение. Этот браслет должен был стать для Николая напоминанием: в каком положении он находится, чтобы не зазнавался и не надеялся на хорошее отношение других, несмотря на милость Ягера. Однако, после первых двух-трех встреч Клаус предложил молодому человеку заменить веревки на более мягкую ткань, и сам сплел для него этот браслет, на который и нашил, не очень плотно, номер, объясняя это тем, что так Ивушкину будет проще содрать данный обрывок, не испортив сам браслет, когда появится возможность. (Уже тогда он знал, что возможность будет.) Долгое время в самом лагере эта вещь была для Николая сродне психологического давления, однако, странная вещь, когда он наконец сбежал, он не оставил браслет в лесу, как тюремную робу, в которую его заставляли переодеваться после отбоя и на самих тренировках на полигоне, а сохранил, зачем-то спрятал в тетради. Николай Алексеевич качает головой, тяжело вздыхая: снова, как в сорок-третьем году, он постепенно понимает, зачем сохранил эту вещь, после того, как делает вдох. Так как тетрадь он почти не открывал и не трогал, то на браслете, лежавшем в плотно завернутом свертке, хоть и не очень отчетливо, но все-таки крепко, сохранился довольно-таки приятный аромат вишневой мяты — парфюма, которым всегда пах Клаус. Николай никогда до побега из лагеря этот браслет не снимал, да ему бы и не дали, поэтому множественные встречи с Ягером, его волосы и одежда, в которые норовили заползти руки, близость (однажды, на одной из последних встреч, Клаус, по просьбе Николая, даже несколько раз пшикнул духами на саму ткань) — привели к тому, что браслет пропах. Николай понимает, насколько сильно он соскучился по этому родному аромату, потому просто не может отказать себе и одевает браслет на руку, немного отодвинув плотный рукав гимнастерки с кисти. «Теперь можно читать сам дневник, раз захотел вспомнить, потревожил тайну, питающуюся кровью, то необходимо погрузится в этот ад заново, пройти босыми ногами по лезвиям, изорвать, растоптать в конец душу, чтобы понять: Ягер всегда был рядом.»