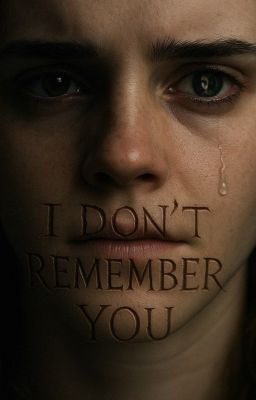Глава 9
Воздух между ними снова натянулся, но на этот раз по-другому. Не от гнева, а от важности момента. Гермиона сделала глубокий вдох, собирая в кучу все свое мужество.
— Мне нужна твоя помощь, — выдохнула она, глядя прямо в темные глаза Беллатрикс.
Такая прямая просьба, казалось, удивила Беллатрикс. Она медленно поставила бокал на стол.
— Моя помощь? — ее губы тронула едва заметная улыбка. — Помнится, вчера вечером ты сказала, что я тебе не нужна.
Она произнесла это не со злобой или с упреком, а скорее с отголоском усталой горечи, как констатация печального факта. Но в ее тоне не было отказа.
Гермиона сглотнула. Она знала, что это прозвучит абсурдно.
— Белла, пожалуйста, — ее голос дрогнул, но она не отвела взгляд. — Звонила моя мать. Мы... мы должны завтра быть у моих родителей.
Она выпалила это, и слова повисли в воздухе, такие же нелепые и сюрреалистичные, как и все в ее жизни сейчас. Представление о том, что они — она, с ее амнезией, и Беллатрикс, с ее свежими ранами, — поедут изображать счастливую пару перед ее родителями, было верхом абсурда.
Но другого выхода не было. И в ее глазах читалась не просто просьба, а настоящая отчаянная мольба.
Воздух в уютном ресторане внезапно показался Гермионе спертым. Вопрос, который она задала, был очень важным.
— Они знают? — выдохнула она, ее пальцы бессознательно сжали край скатерти.
Беллатрикс внимательно посмотрела на нее, ее взгляд был аналитическим.
— Смотря, о чем ты говоришь, — ответила она, отставляя в сторону бокал. — Знают ли они меня? Да, знают. Мы бывали у них. Знают ли они, что мы женаты? Тоже знают.
Она сделала небольшую паузу, давая этой информации улечься. Гермиона почувствовала, как по ее спине пробежал холодок. Ее родители. Знают Беллатрикс. Знают об их браке. Это было одновременно облегчением и новым источником паники.
— Но о твоей травме я не говорила, — продолжила Беллатрикс, и ее голос стал чуть тише, мягче. — Ты не хотела бы, чтобы я волновала твоих родителей. Ты всегда говорила, что они и так через многое прошли.
Эти слова «ты не хотела бы» снова ударили Гермиону своей конкретностью. Это была не догадка Беллатрикс. Это была ее воля, которую та уважала, даже когда сама Гермиона об этом не помнила.
Наступило молчание. Гермиона смотрела на свои руки, пытаясь переварить это. А потом подняла на Беллатрикс взгляд, полный мольбы.
— Ты... ты поможешь мне? — ее голос был почти шепотом. — Я не хочу, чтобы они знали. Давай просто... просто притворимся, что все хорошо? Хотя бы на эти пару дней?
Она произнесла это, и сама поняла, насколько это эгоистично. Просить женщину, которую она так жестоко отвергла, помочь ей в этом обмане. Но другого выхода не было. Она не могла сделать это одна.
Она ждала ответа, затаив дыхание, боясь увидеть в глазах Беллатрикс насмешку или отказ.
Слово повисло в воздухе, холодное и окончательное, как приговор.
— Хорошо.
Гермиона почувствовала слабый, эфемерный росток надежды. Но он был мгновенно раздавлен следующими словами, которые Беллатрикс произнесла ровным, бесстрастным тоном, словно докладывая о деловой сделке.
— Но после, как ты и просила, ты получишь свободу. Я купила тебе дом. Чтобы ты больше не чувствовала себя как в клетке.
В Гермионе что-то с треском разбилось. Что-то очень хрупкое и важное. Она почувствовала это физически, как внезапную, ледяную пустоту в груди.
— Д... дом? — ее голос сорвался на шепот. Она смотрела на Беллатрикс, не веря своим ушам. — Но зачем? Я ведь...
— Ты сказала, что ты несчастна рядом со мной и хочешь свободы, — перебила ее Беллатрикс, и на ее лице не было ни злобы, ни боли. Лишь усталая, каменная решимость. — И я приняла решение дать тебе свободу. Я не тиран, Гермиона, и не буду держать тебя насильно.
Она сделала паузу, и ее взгляд стал пронзительным и жгучим.
— Я лю... Кхм, я уважаю твои желания. Даже если они разбивают мне сердце. Если ты будешь счастлива без меня... так тому и быть.
В этих словах не было манипуляции. Была страшная, оголенная правда. Это была не угроза, не шантаж. Она её отпускала. Самое страшное, что мог сделать любящий человек — признать право другого на уход, даже если этот уход уничтожает тебя самого.
Гермиона сидела, не в силах вымолвить ни слова. Ее требование «свободы» обрело форму. Осязаемую, бетонную форму дома, купленного для нее. И эта свобода внезапно показалась ей самой ужасной клеткой из всех возможных. Клеткой по ее же собственному заказу.
По телу Гермионы пробежала мелкая, предательская дрожь. Слова Беллатрикс звенели в ушах, как колокол. Дом. Свобода. Неужели ей и правда придется уйти? Покинуть этот дом, который уже начал казаться своим? Покинуть ее?
Мысли путались, голова шла кругом. К лицу подступил жар, смесь стыда, паники и какого-то нового, щемящего ужаса перед будущим, которое она сама же и выбрала. Она схватила бокал и сделала большой глоток вина, не чувствуя его вкуса. О еде не могло быть и речи.
И в этот момент, словно по злой иронии судьбы, к их столику подошел мужчина. Солидного вида, в безупречном костюме, с уверенными манерами. Он с легкой, извиняющейся улыбкой кивнул Гермионе, а затем обратился к Беллатрикс.
— Беллатрикс, прошу прощения за вторжение, — его голос был бархатным и привыкшим к власти. Он взял ее руку и с изящной почтительностью поцеловал ее пальцы. Жест был старомодным, но исполненным неподдельного уважения. — Невероятно рад вас видеть. Надеюсь, вы удостоите своим присутствием мой званый ужин на следующей неделе? Без вас мероприятие потеряет половину своего блеска.
Гермиона сидела, застыв с бокалом в руке, и наблюдала за этой сценой. Она видела, как маска холодной отстраненности на лице Беллатрикс на мгновение сменилась на легкую, светскую улыбку. Как ее осанка стала еще прямее, а взгляд — уверенным и пронзительным. Это была не та женщина, что держала ее волосы, пока ее рвало. Это была Беллатрикс Блэк — влиятельная, уважаемая, та, чьего присутствия добивались на званых ужинах.
И этот контраст между той, кого она теряла из-за собственной глупости, и той, кем та была в мире, ударил Гермиону с новой силой. Она понимала, что ее «свобода» — это не побег из тюрьмы. Это добровольное изгнание из жизни, полной силы, страсти и значения. И наблюдая, как этот важный мужчина почтительно склоняется перед ее женой, Гермиона осознала всю чудовищную цену своего необдуманного требования.
Волна ревности была настолько внезапной и яростной, что Гермиона чуть не выронила бокал. Она смотрела, как губы незнакомца, которые пару минут назад касались пальцев Беллатрикс, и внутри у нее все закипало. Какого черта? Как он вообще смеет?
Мужчина, закончив светскую беседу, еще раз извинился и удалился, оставив после себя шлейф дорогого парфюма и гнетущее чувство неловкости.
Гермиона, все еще не в силах совладать с дрожью в руках, выдохнула первый пришедший на ум вопрос, пытаясь замаскировать бурю бушующую внутри :
— Кто это?
Беллатрикс, чье внимание уже вернулось к ней, ответила с той же ледяной простотой, что и раньше:
— Наш коллега из Министерства.
— Ч... что? — Гермиона почувствовала, как почва уходит из-под ног. Наш. Это слово прозвучало так естественно, так привычно.
Беллатрикс подняла бровь. Ее взгляд стал пристальным, аналитическим. Она отпила глоток вина, не сводя с Гермионы глаз.
— Что именно вызвало твой вопрос? — спросила она мягко, но с непоколебимой прямотой. — Его появление? Или то, как он ко мне обратился?
Она не уклонялась. Она загоняла ее в угол, заставляя смотреть правде в глаза. Заставляя признать ту дикую, иррациональную ревность, что пылала у нее внутри. И в этом прямом вопросе читался безмолвный вызов: «Признайся. Хотя бы себе».
— Наш коллега? — переспросила она, и в ее голосе прозвучало недоумение, смешанное с зарождающейся тревогой.
— Да, наш, — подтвердила Беллатрикс, и в ее тоне не было ни капли насмешки. — Ты тоже, на минуточку, работаешь в Министерстве. И ко всему прочему, — она сделала паузу, давая словам достигнуть цели, — твой больничный скоро кончится. И тебе нужно будет вернуться на работу.
Эффект был мгновенным и сокрушительным. Как будто под стулом Гермионы исчез пол. Работа? В Министерстве? В том самом Министерстве, где она когда-то мечтала работать, но которое в ее памяти осталось оплотом бюрократии и коррупции? И как она, с ее пробелами в памяти, с ее абсолютной потерей профессиональных навыков за пять лет, должна туда вернуться?
Волна паники накатила с новой, удвоенной силой, смывая все остальные мысли и о доме, и о свободе, и даже о ревности. Ее дыхание перехватило, в висках застучало. Она представила себя в кабинете, окруженную незнакомыми коллегами, которые ожидают от нее знаний и действий, которых у нее нет. Это был кошмар наяву.
— Я... — она попыталась что-то сказать, но слова застряли в горле. Она смотрела на Беллатрикс широко раскрытыми глазами, полными чистого, животного ужаса. Все остальные проблемы вдруг показались мелкими и незначительными по сравнению с этой новой, абсолютно конкретной угрозой.
— Но я ничего не помню, — выдохнула Гермиона, и ее голос дрогнул. Она сжала край стола, чтобы руки не тряслись. — Кем я работаю? Что я делаю? Я... я не смогу!
Паника снова накатила, но на этот раз она была окрашена страхом перед чем-то более осязаемым, чем абстрактные «рабочие обязанности».
Беллатрикс отпила глоток вина, ее взгляд был серьезным.
— Ты работаешь в Департаменте Тайн, — сказала она, и каждое слово падало с весом свинцовой гири. — В отделе регулирования магических артефактов. Ты занимаешься их учетом, контролем за оборотом и... — она сделала небольшую паузу, — борьбой с контрабандой особо опасных экземпляров.
Гермиона замерла, переваривая информацию. Департамент Тайн. Артефакты. Контрабанда. Это звучало опасно. Сложно. И до боли знакомо в контексте ее нынешней ситуации.
— Именно неучтенный артефакт и стал причиной твоего... состояния, — добавила Беллатрикс тише, и в ее голосе прозвучала тень той самой боли, что она обычно скрывала. — Взорвался во время инспекции.
Теперь картина складывалась в жутковатую, но логичную мозаику. Ее работа была связана с риском. С темными, непредсказуемыми силами. И именно эта работа привела ее к амнезии.
— Как я... — Гермиона сглотнула ком в горле. — Как я могу туда вернуться? Я же ничего не знаю! Не помню процедур, артефактов... Я могу все испортить! Подвести команду!
Страх перед профессиональной несостоятельностью смешался с более глубоким, личным страхом — страхом снова столкнуться с тем, что ее сломало. Вернуться на место происшествия, не помня самого происшествия.
— И прежде, чем ты впадешь в полную истерику, знай — я не брошу тебя там одну. Мы разберемся. Но отрицать реальность бессмысленно. Это твоя работа. Твоя жизнь. И тебе придется с этим столкнуться.
Слова Беллатрикс прозвучали не как пустое утешение, а как твердое, неоспоримое обещание. «Я не брошу тебя там одну. Мы разберемся». В этом «мы» была сталь, опора, которой так не хватало Гермионе.
Она не нашлась, что ответить. Просто кивнула, слишком быстро, чувствуя, как комок в горле немного рассасывается. Не потому, что страх ушел, он никуда не делся, а потому что теперь она была не одна. Она снова была за каменной стеной. Стеной по имени Беллатрикс.
Оставшееся время за ужином они провели, болтая о чем-то отвлеченном. О погоде. О новой книге, которую Полумна рекомендовала Гермионе. О чем-то нейтральном, безопасном. Это был странный, хрупкий мостик, перекинутый через пропасть между ними. Не примирение, но и не война. Перемирие.
Доев, они молча расплатились и вышли на улицу. Ночной воздух был прохладен и свеж. Беллатрикс снова протянула руку, и на этот раз Гермиона взяла ее без тени сомнения. Трансгрессия была быстрой.
Они материализовались в прихожей своего дома. Тишина поглотила их, густая и звенящая после шума ресторана.
— Спокойной ночи, — тихо сказала Беллатрикс, ее голос прозвучал устало. Она не смотрела на Гермиону, уже поворачиваясь к лестнице.
— Спокойной ночи, — прошептала Гермиона в ответ, оставаясь стоять на месте.
Она слышала, как шаги Беллатрикс затихают наверху. И впервые за весь вечер, несмотря на все ужасы, что ждали ее в будущем — разговор с родителями, возвращение на работу, она почувствовала не панику, а странное, щемящее облегчение. Потому что в этом доме, в этой тишине, она была не одна. И это «не одна» значило гораздо больше, чем она готова была признать.
Шаги Беллатрикс уже доносились с верхней площадки, когда Гермиону будто толкнуло что-то изнутри. Она резко рванула с места, почти бегом поднявшись по лестнице, и догнала ее в полумраке коридора.
— Раньше... — ее голос прозвучал сдавленно, дрожа от нахлынувших эмоций, — раньше ты всегда говорила мне перед сном, что любишь меня. А сейчас не говоришь.
Она выпалила это на одном дыхании, не думая о последствиях, поддавшись внезапному, острому порыву. Ей нужно было знать. Прямо сейчас.
Беллатрикс замерла, ее рука уже лежала на ручке двери в ее спальню. Она медленно обернулась. В тусклом свете ночника Гермиона увидела, как ее брови поползли вверх от чистого, неподдельного удивления. Казалось, она ожидала чего угодно, но только не этого детского, прямого вопроса.
Минуту длилось молчание, тяжелое и напряженное. Потом Беллатрикс тихо выдохнула.
— Люблю, — произнесла она, и в этом одном слове не было ни капли сомнения. Оно прозвучало как факт, фундаментальный и незыблемый, как закон гравитации.
Но затем ее голос стал тверже, в нем появилась знакомая стальная нотка.
— Но ты и словами, и действиями показываешь, что моя любовь тебе докучает. Раздражает. Ты отталкиваешь ее. Так что... — она слегка пожала плечами, и в этом жесте была не холодность, а усталая покорность, — необходимости постоянно напоминать тебе об этом нет. Я не хочу быть тем, кто причиняет тебе боль своими чувствами.
Она сказала это без упрека, констатируя позицию, которую заняла для ее же блага. И в этой жертвенной сдержанности было больше боли, чем в любом крике или обвинении. Она не перестала любить. Она просто перестала это говорить, потому что ее слова о любви причиняли страдания тому, кого она любила.
Дверь закрылась с тихим, но окончательным щелчком. Не громко, не хлопнув, а именно закрылась. Как будто за ней опустили невидимый занавес.
Гермиона осталась стоять в пустом, темном коридоре, уставившись на деревянную дверь, которая теперь отделяла ее от Беллатрикс. И в тишине, наступившей после ее ухода, прозвучал самый страшный вопрос — вопрос, заданный самой себе.
И в чем же была не права Беллатрикс?
Мысль ударила с обжигающей ясностью. Ни в чем. Абсолютно ни в чем. Гермиона, вела себя ужасно. Она кричала о свободе, отталкивала ее, напивалась, устраивала истерики. Каждым своим действием и словом она ясно давала понять: «Твое присутствие, твоя любовь — это бремя».
А что изменилось сейчас?
Ничего. Ровным счетом ничего. Да, она испугалась потерять ее. Да, ей стало больно от ее холодности. Но это был эгоизм. Страх одиночества, а не внезапное прозрение. Она хотела, чтобы все вернулось назад, не предложив ничего взамен. Не изменившись.
Боже, ну и дерьмо.
Горькое, беспощадное осознание своего же ничтожества накрыло ее с головой. Она требовала любви, сама не способная дать даже капли уверенности. Она хотела, чтобы Беллатрикс разбивала о нее свою гордость снова и снова, просто потому что ей стало некомфортно без этих ежедневных подтверждений.
С громким, сдавленным выдохом, в котором смешались стыд, злость на себя и полная беспомощность, Гермиона оттолкнулась от стены и поплелась в свою комнату. Дверь в спальню Беллатрикс осталась за ее спиной — немой укор и молчаливое доказательство ее собственной неправоты.
Гермиона легла в свою кровать, но привычная мягкость матраса вдруг показалась ей колючей и неудобной. Постельное пахло будто не тем стиральным порошком, а комната была слишком большой и пустой. Все было каким-то дурацким, бесячим, и не таким. Она ворочалась с боку на бок, но сон не шел. Мысли кружились вихрем: работа, родители, холодность Беллатрикс, ее собственная глупость.
И сквозь этот хаос пробилась простая, навязчивая мысль. Эх, вот бы выпить ее чая.
Не просто любого чая. Именно того, что она готовила — с мятой, медом и лимоном. Того, что пахло заботой и покоем.
Порыв был сильным и внезапным. Гермиона села на кровати и, не раздумывая, вышла в коридор. Темнота была густой, лишь лунный свет слабо освещал путь к спальне Беллатрикс. Она сделала несколько шагов, ее босые ноги бесшумно ступали по прохладному паркету.
Но на полпути ее ноги сами собой остановились. Рука, уже потянувшаяся к ручке двери, замерла в воздухе.
Нет.
Она не могла. Не сейчас. После всего, что она наговорила, после своего требования «свободы», прийти к ней ночью и попросить чаю? Это было бы верхом наглости и эгоизма. Беллатрикс заслуживала покоя.
Гермиона уже собралась развернуться и побрести обратно в свою одинокую комнату, но что-то внутри воспротивилось. Возвращаться туда, в эту тоскливую пустоту, было невыносимо.
Вместо этого ее ноги сами понесли ее в другую сторону. К их спальне.
Она тихо приоткрыла дверь и зашла внутрь. Воздух все еще пах Беллатрикс — ее духами, ее присутствием. Было темно и тихо. Гермиона не стала включать свет. Она просто подошла к кровати и легла на свой край, на ту сторону, где спала на днях. Она не накрывалась, просто лежала на спине, глядя в потолок, вдыхая этот знакомый запах и слушая тишину. Это было не решение проблем. Это было бегство. Но сейчас это было все, на что она была способна.
Гермиона лежала на краю широкой кровати, чувствуя себя одновременно и чужой и на своем месте. Потребность в близости, в утешении была так сильна, что она инстинктивно потянулась к подушке рядом. Та, что лежала на стороне Беллатрикс.
Она прижала ее к лицу. Да, это была определенно ее подушка. Ткань пахла ею — не просто парфюмом, а тем уникальным, сложным ароматом ее кожи, шампуня, чего-то неуловимого и сугубо личного. Гермиона закрыла глаза и погрузилась в это ощущение, снова и снова вдыхая его, как утопающий глотки воздуха. Она так вкусно пахла. Этот запах был воплощением спокойствия и силы, которых ей так не хватало.
И тогда, как бы сама собой, дверь в ее сознании приоткрылась, выпуская наружу рой странных, неконтролируемых мыслей. Они прокрадывались тихо, настойчиво, смывая логику и стыд.
А губы у нее мягкие?
Вопрос возник из ниоткуда, яркий и невероятно конкретный. Гермиона почувствовала, как по ее щекам разливается жар. Она представила их — пухлы, обычно поджатые в уверенную или презрительную ухмылку.
А какие они на вкус?
Мысль была такой интимной, такой запретной, что у Гермионы перехватило дыхание. Она попыталась отогнать ее, но образ уже засел в голове, щекоча нервы и вызывая странное, теплое волнение где-то в глубине живота.
Она была в шоке. От самой себя. От этой внезапной, физической тяги, которая не имела ничего общего с логикой или памятью. Это было что-то глубинное, животное.
Но бороться с этим уже не было сил. Истощенная эмоциями и усталостью, она так и уснула — обнимая подушку Беллатрикс, уткнувшись лицом в ткань, что пахла ею, и с последней смутной мыслью о том, какими же на вкус могут быть ее губы. Это был не сознательный выбор. Это была капитуляция перед тем, что жило в ней гораздо глубже, чем пять лет потерянной памяти.