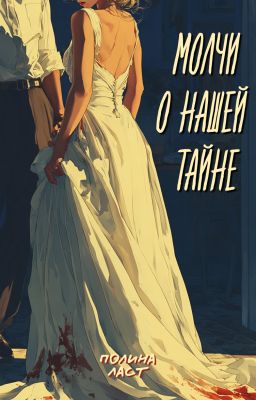Глава седьмая
СОНЯ
Милицейский бобик с визгливой сиреной и яркими красно-синими маячками увёз Илью и Сашу подальше от Московского вокзала, от поезда Адлер – Санкт-Петербург, от меня, оставшейся рассеяно стоять на перроне, сжимая содранной ладонью лямку отцовского рюкзака. Как бы я ни просила оставить Сашку со мной, стражи порядка были равнодушны к моим мольбам, к Сашиному плачу, напоминающему крик беспомощного птенца, брошенного родителями в опустевшем гнезде. Теперь его отправят в приёмник, пока не приедут бабушка с дедушкой, а Илью в участок, и я прикусила губу до металлического привкуса на кончике языка — нужно было спросить номер участка, адрес приёмника, чтобы поехать следом, а теперь уже поздно.
Среди вывалившихся на перрон зевак замаячила чёрная фигура. Только увидев отца, я связала всё произошедшее в единую нить: он знал, что мы возвращаемся, караулил у вокзала прибывающий поезд и спустил с цепи ручных милиционеров. Мир покачнулся, словно меня тяжело ударили по голове, перед глазами встала тёмная мыльная пелена, колени ослабели и подогнулись, но крепкие руки отца не дали мне осесть на асфальт. Сильные пальцы давили на ребра до боли, до круглый пятнышек синяков, что проступят на молочной коже завтра. Он ничего не говорил, но я чувствовала, что он хотел мне сказать: неблагодарная, вытрепавшая ему все нервы, глупая и не ценившая заботы. Закрыв глаза, я приготовилась слушать, но он только крепче обнял меня и взял из рук рюкзак.
— Машина на стоянке, — его голос был непривычно хриплым и глухим, будто он долго срывался в крик. — Почему ты сбежала?
— Выпусти его, — я не просила — требовала. — Сейчас! Немедленно! Он ни в чем не виноват! Почему они не оставили мне Сашу?
Его лицо тут же омрачилось, будто на него упала зловещая тень, обострившая и без того жёсткие черты. Сердце заколотилось на уровне горло, и я сжалась, готовясь к хлёсткой пощёчине, но он мягко подтолкнул меня к выходу с вокзала, и я пошла — послушным теленком, еле переставляя онемевшие ноги.
— Это не твой ребенок, — напомнил отец таким тоном, который не терпел никаких возражений. — Чужой. И место ему – в детском доме, раз отец преступник.
— Он не преступник, — пусть наш разговор не сулил ничего хорошего, я все равно стояла на своем. — Мы... ездили отдыхать.
— Он тебя украл!
— Не крал! Я сама уехала!
— Дома поговорим! — отец рявкнул так резко, что люди, шедшие мимо, дернулись и обернулись. Игнорируя их липкие взгляды, он схватил меня под локоть и потащил вперед, а мне оставалось лишь спешно перебирать ногами – его шаг равнялся моим двум, я еле успевала, а тяжелая сумка с Сашиными вещами оттягивала плечо. Она была куда тяжелее рюкзака, забранного отцом.
Вокзал остался за тяжёлыми массивными дверьми, когда мы вышли на площадь Восстания. Холодный ветер резко. Машин на стоянке было мало, и среди них блестящий отцовский мерседес особенно выделялся — будто из другого, нам неведомого мира, жесткого и выстроенного на крови. Я плюхнулась на переднее сиденье, швырнув сумку на заднее, и привалилась лбом к тонированному стеклу. Накрывала усталость. Я не смогла помочь Илье в поезде, но надеялась вытащить его в ближайший момент. Подташнивало, и я вспомнила о том, что две недели не пила таблетки, а отец наверняка нашёл дома целые упаковки. Под ребрами что-то неприятно сжалось, и невралгия прострелила до самой спины.
За окном маячили улицы Петербурга, но я не хотела смотреть на родной город. Я по нему не скучала. Тело вновь прибывало в Северной столице, но всё моё сознание и душа остались на берегах солнечной Абхазии, где от улыбки каждый день светилось Сашино лицо, я носила легкие сарафаны и каждую ночь засыпала с любимым человеком под одним тонким махровым пледом.
Металлические ворота, охранявшие коттедж, с лязгом раскрылись сродни тюремной камере, и отец припарковался по дворе, под навесом, чтобы питерские дожди не коснулись его ласточки. Октябрьская слякоть промочила мне кеды, а солнце совсем не грело из-за тяжёлых туч. Я зябко поежилась, вздрогнула и посеменила к двери, надеясь, что та уже открыта. Мама и правда ждала – дома пахло свежей выпечкой, ее духами и деревом – отец не так давно распорядился положить в прихожей новый дорогой паркет, чтобы добавить уюта. Но заключённые в тюремной камере об уюте не думают — им бы выжить да сбежать.
— Мы так волновались! Ни весточки же! — мама стиснула меня в объятиях, взволнованно погладила по волосам теплыми, нежными руками. Возраст ее совсем не брал: в свои сорок она выглядела на двадцать пять. Отец покупал ей качественную косметику и дорогие вещи, которые тоже играли на руку ее моложавости. — Где ты была?
— В Абхазии, — пробормотала я, уткнувшись ей в плечо, и от нахлынувших воспоминаний глаза внезапно наполнились слезами. Спешно моргнув, я почувствовала, как по щекам к подбородку скатились две горячих слезинки. — Он посадил Илью. Сашу в детский дом отправили. Помоги мне, пожалуйста.
Она сжала мою ладонь.
— Я постараюсь, милая. Но не знаю чем.
За спиной захлопнулась дверь, а рюкзак глухо упал на пол. Папа погладил меня по плечу и, отстранив от матери, мягко поцеловал в макушку. Он был нежным — до первого слова поперек, до первого приступа непокорности. Потом мягкость заканчивалась, превращаясь в непробиваемую броню.
— Ты устала с дороги. Отдохни.
— Нет, мы поговорим про Илью!
Маска нежности спала, он напряг челюсть так, что на скулах проступили желваки, и совсем слегка склонил голову к плечу, впиваясь хищным, коршуньим взглядом мне в лицо. И я чуть нахмурилась, но взгляда не отвела. Отвернуться значило дать слабину и проиграть.
— Сказал уже — преступник должен и будет сидеть в тюрьме.
Мама сбежала на кухню, и я не могла ее осуждать. Я пересекла прихожую и сквозь квадратную арку, окаймленную светлым деревом, прошла в гостиную. Отец шел за мной по пятам — знал, что разговор не окончен и боялся, что я что-нибудь выкину.
— Я сама с ним уехала. Он не преступник. Ты не даешь нам быть вместе, а мы... Мы пожениться хотим. Жить, как нормальная семья, — с каждым моим словом голос креп, и громкость его набирала обороты, а отец уже морщился. — Втроем, с Сашей. И я могу выйти за него замуж хоть сейчас, я взрослый человек! Только ты запираешь меня дома!
— Для твоего же блага, дура!
Я больше не верила в благо. Благо было там, в Абхазии, а здесь только тирания — ради себя отец это делал, а не ради меня. Ради своего спокойствия, ради тщедушной попытки унять свои нездоровые параноидальные страхи. Может, где-то внутри и боялся за меня и маму, но сам себе точно врал, что хочет мне лучшего. Причины его поступков я объяснить не могла ничем, кроме единственного «помешался».
— Мне не нужно такое благо. Я отказываюсь от него. Мне вообще ничего от тебя не нужно, — я почти по-змеиному шипела. — Выпусти Илью, а потом я перееду к нему и больше ты меня не увидишь. Ни на минуту здесь больше не останусь.
— И куда пойдешь? На панель встанешь? Рядом с Лизой? Она тебя точно всему научит, — он растянул губы в гадкой ядовитой усмешке. — Сонечка, не глупи. Такой оборванец тебе не нужен. Твоя поездка в Америку все еще в силе, я скоро решу этот вопрос...
Что-то во мне переломилось. Угасла любовь, потухло понимание. Не помня себя, я изо всех сил толкнула его в грудь. Папа от неожиданности упал на диван, но сразу вскочил на руки, схватил меня за оба запястья одной рукой, а второй больно впился пальцами в щёки. Я забилась, попыталась вырваться, но чем сильнее я сопротивлялась, тем крепче была хватка. Однажды матери он случайно вывихнул челюсть, и на секунду я пожалела, что ввязалась в потасовку с ним.
— Ты какая-то буйная, Сонечка! — Он почти плевался мне в лицо, а я лишь пыталась отвернуться от его горячего табачного дыхания. — Таблетки поди не пила, дрянь? Врач же тебе прописал, три раза в день без пропусков. Как тебя куда-то отпускать, дурочка? Ты же невменяемая!
Я дергалась, пытаясь сбросить его руки с себя, пиналась, но моё сопротивление ничуть его не трогало.
— Таня! Тащи ее таблетки!
— Не буду их пить! — я выворачивалась с удвоенной силой. — Отпусти меня, слышишь, пусти! Мне и без них нормально! Я не сумасшедшая!
Из горла вырвался вой. Я отчаянно попыталась лягнуть его в колено, но про махнулась. Он повалил меня на диван, заломил руки, больно надавил на голову, вжимая лицо в жёсткую диванную обивку. Я не могла отстраниться, отец зажимал меня со всех стороны, и даже голову не давал повернуть в сторону. Мама — чертова покорная предательница, — принесла ему сразу две белых пилюльки и не забыла про стакан воды. Отец рывком меня поднял, и я до боли стиснула зубы, сжала губы, чтобы отец не смог пропихнуть в меня лекарство. Но он смог. Нажал на суставы, насильно разжимая мне рот, словно собаке, и запихнул две таблетки сразу, а потом зажал губы и нос ладонью, вынуждая таблетки проглотить.
Едкая горечь распространилась по всему рту, я нервно сглатывала, чтобы поскорее от нее избавиться. Отец все еще меня держал, но я уже не брыкалась, смирившись с неизбежным, и тогда мама трясущейся рукой протянула ему стакан воды. Он напоил меня сам, аккуратно приставив холодное стекло к губам, и я сделала несколько глотков. Вода помогала смыть горечь и сухость, по-человечески сглотнуть вязкую слюну. Всхлипнув, я вытерла освободившейся рукой влажность с подбородка, потом – мокрые глаза с размазавшейся тушью, на пальцах осталась чернота. Отец опирался о диван коленом и, наконец, выпрямился, окончательно меня отпустив.
Пока я давилась бессильными рыданиями, он склонился ближе и погладил по голове.
— Пожалуйста, Сонечка, не пропускай больше таблетки. Видишь, как тебе без них плохо, — он поцеловал меня в лоб и двинулся в сторону кухни, оставляя меня, обессиленную и раздавленную, на диване.
***
— Рома, она ничего не ест пятый день, — дверь в мою комнату была закрыта, но я прекрасно слышала, как в коридоре возмущённо сетовала мама. — Пятый, дорогой. Еще немножко, и её слабенький организм не выдержит.
Материнские возмущения превратились в мольбы: я не видела ее лица, но она наверняка просила отца со мной поговорить с влажными глазами, из которых вот-вот должны выкатиться крупные слёзы. Отец снова запер меня в доме — у дверей на улицу теперь стояла охрана, но я и не стремилась высовываться даже из комнаты, разглядывая двух амбалов из окна. Пару раз, пока отец был на работе, я звонила в милицию, чтобы узнать об Илье, о том, как там Саша, но по телефону никакой информации не сообщали, просили приехать с документами. Я не была им родственницей и выбраться из дома тоже не могла, поэтому приходилось с горечью опускать трубку и дальше проваливаться в зыбкое неведение.
«Пап, пожалуйста, отпусти Илью», — попросила я снова через несколько дней, но в ответ услышала такое категоричное отрицание, что выбора у меня не оставалось: придется брать его измором, манипулировать любовью и чрезмерной заботой. Я перестала есть в тот же вечер.
Отказалась от ужина, на следующий день — от завтрака и обеда. В животе урчало сильно, но я жадно глотала воду из-под крана, чтобы утолить голод хотя бы на пару часов. Поначалу этого никто не замечал, но потом мама обратила внимание на полную тарелку, оставшуюся стоять нетронутой, на то, что я перестала накладывать себе ужин и сидела с ними со стаканом воды.
«Почему ты не ужинаешь? — поинтересовалась она на второй день. — Я приготовила вкусное мясное рагу, как ты любишь»
«Голодовка, — буднично объявила я. — Сыта по горло»
Папа думал, что я отступлюсь, потому что всегда отступала под его натиском, но пусть он и не передал мне ямочку на подбородке, темные волосы и черные глаза — упрямство я переняла целиком от него. Любое блюдо я решительно отодвигала, даже любимый вишневый штрудель беспощадно скинула в мусорное ведро. Пока папа не пытался кормить меня силой, но я была уверена, что он близок — его челюсть от злости сжималась каждый раз, когда я вновь бралась за стакан воды вместо ножа и вилки.
Антидепрессанты с голодом сочетались плохо — меня постоянно мутило, особенно, когда по вечерам я выпивала таблетки. Никто не знал, действительно ли я болела, или семья просто хотела для удобства и контроля выключить мой эмоциональный фон, как рубильник: щелк, и нет никаких чувств, щелк, и вспышек непослушания нет тоже, щелк, и можно использовать болезнь, как предлог и запереть меня за семью замками.
— Открой дверь! — потребовал отец с той стороны, и я без лишних возражений дернула щеколду.
В комнате был бардак: постельное белье неопрятно сбилось, вещи с поезда неразобранным комом валялись в углу, на туалетном столике беспорядочно валялась косметика вперемешку с нижним бельем, а блистеры таблеток из пачки рассыпались у кровати. Отец прошел внутрь и со свистом втянул в себя воздух, сдерживая ругань. Я беспечно развалилась на кровати, держа в руках раскрытую на середине книжку Гюго. Не читала, просто для вида, чтобы скрыть неловкий и в то же время раздраженный взгляд за страницами.
Он прошелся в мягких тапках по запылившемуся ковру и присел на край кровати. Медленно погладил меня по руке, и я покрылась мурашками от его касаний — хотелось попросить не трогать меня больше никогда, ведь тело до сих помнило боль, причинённую его руками, но я молчала.
— И чего ты хочешь? — мягко начал он, но в мягкости его голоса проскочила сталь. Так говорят с надоедливыми капризными детьми, которые сводят родителей с ума.
— Ты знаешь, чего я хочу, — я откинула несчастного Гюго и резко села. Голова от голода и таблеток закружилась. — Чтобы Илью отпустили, а потом я вышла за него замуж.
Отец был настроен на разговор, и я решила сразу просить по максимуму. Всё он не даст, а так будет шанс получить хоть крошку от лакомого куска. Папа молчал, явно осмысливая требования. Черта с два он не думал, что я попрошу всё и сразу.
— Ты все равно рано или поздно сорвешься.
— Умру от голода, — я оставалась спокойной несмотря на то, что на меня надвигалось масштабное цунами. — Мне все равно без Ильи жизнь не мила.
— Ты дура? — отец сцепил руки в замок, заломив пальцы. — Точно, дура. Вся в мать свою малахольную. Ты пропадешь с ним, понимаешь? Подохнешь от бедности и назад приползёшь. Ты же к цацкам дорогим привыкла, к шмоткам заграничным, а что он тебе дать-то может? Ни черта он не может! Нищий врачонка!
Он ударил раскрытой ладонью по тумбочке, и стакан, наполовину пустой, повалился на бок. Вода залила красное дерево, потекла на ковер и постельное белье. Само стекло чудом осталось целым. Вздрогнув, я подтянулась на кровати повыше. Живот снова свело от голода, резь казалась невыносимой, но я выдавила слабую улыбку для отца.
— Я его люблю, — вздохнув, я прикрыла глаза. — Он сможет сделать меня счастливой. Пусть это будет мое решение, моя ошибка. Я все равно не поеду в Америку, не выйду замуж по расчету за твоего партнера. Илья — надежный. Дай нам шанс.
Папа молча поднял стакан, вернув его уже пустым на тумбочку. Между нами повисло давящее молчание — я не смела его нарушать, боясь, что испорчу момент, а отец явно боролся с собой внутри, пытаясь принять непростое решение. Внезапно, его лицо посветлело, будто ему в голову пришла хорошая мысль.
— Только с определенными условиями, которые я озвучу позже, — отрезал он. — И ты поешь.
— Серьезно? Ты разрешаешь?
— С определенными условиями, — с нажимом повторил он, но я не дослушала, подорвавшись с кровати так быстро, будто не голодала почти неделю, и крепко вцепилась ему в шею душащими объятиями.
— Все, что угодно, — спешно пообещала я, чувствуя, что на глаза выступили слезы. — Вытащи его из тюрьмы прямо сегодня, пожалуйста. Я знаю, ты можешь.
Отец мог все — принять одно решение сегодня, а потом отказаться от завтра, будто и не было никаких договорённостей, поэтому я ловила момент. Надо было как можно быстрее отнести заявление в ЗАГС, чтобы не упустить свой шанс.
— Все, что угодно, — повторил он с усмешкой, и вышел из комнаты, велев матери приготовить овощной салат.