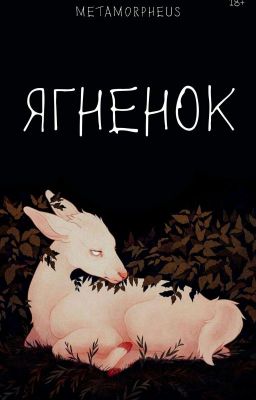Начало
Первое, что он услышал в зале школьного хора, было не пение.
Это было дыхание. Тихий вдох и плавный тягучий выдох, и снова вдох, но другой, животворящий. Такой медленный, что от кислорода горят лёгкие, и хочется глотнуть воздуха, зачерпнуть ладонями свет, облить себя холодной родниковой водой с ног до головы и почувствовать, как весь мир сузился до пределов твоего тела.
Вдох.
Выдох.
Чувствуй. Ощущай. Осязай любовь, благо и жизнь. Всё самое прекрасное - в нас самих.
Жизнь в тебе, и сам ты - первое творение Божье.
Пение появлялось уже после. Оно зарождалось в диафрагме, текло лавой по дыхательным путям и искрилось от вибраций голосовых связок, вырывалось, порхало бабочкой под кожей и превращалось в песнь, что льётся золотом, медью и серебром. Казалось, его можно было коснуться. Это действительно представлялось возможным: обмакнуть в платину и огонь пальцы, потрогать рукой звук, ощутить звон голоса в горле, увидеть, как музыка накаляется, словно железо.
Саша Трескунов смотрел, как весь школьный хор затаил дыхание, глубоко вдохнул воздух и, вспыхивая божественным светом, запел.
Ничего прекраснее музыки человечество еще не придумало. Венец эволюции, знамение небес и апогей совершенства.
Жизнь в тебе, и сам ты - первое творение Божье.
Звук отражался от жёлтых стен актового зала, танцевал в витражах окон, и таинство песни предстало перед юношей во всём своём великолепии.
Сон наяву и явление чуда народу.
Саша стоял, прислонившись спиной к темной дубовой двери, щурясь от солнечных лучей, вслушиваясь в слова, что текли патокой и ласкали израненную, покалеченную злом, насилием и страхом душу, убаюкивая.
В начале было слово, и слово было Богом, и слово было Бог.*
Это изречение высечено золотом в священном писании от Иоанна, на нём держится мир, твердь земная и твердь небесная. Стены Иерусалима, Израиль, Вифлеем, гора Голгофа - следствие начала, положенного словом, но Трескунов видел истину в ином свете, и Евангелие трактовалось в его удивительной сумасбродной голове совсем по-иному. Он видел правду тайны сотворения, но правда была человеческой, и была до ужаса искажена ложью.
В начале было дыхание. То самое - спокойное, размеренное, тёплое, как шёпот южного ветра. Дыхание - признак жизни. Пение - его следствие.
Итак, в начале был вдох.
Или нет?
В начале (или в самом конце) был урок, утро субботы, шёлковая бархатная весна, расцвётшая бутонами нежных роз и атласных хризантем. Саша отвлёкся от созерцания хора и глянул в окошко актового зала: из него открывался чудесный вид на пришкольный садик с клумбами "золотых цветов". Он покачал головой, умиляясь собственной сентиментальности, и плавные линии рта начертили легкую, грустную улыбку на розовых обветренных губах. Как там, в том романсе?.. В той жизни, в той песне...
В том саду, где мы встретились,
Ваш любимый куст хризантем расцвёл,
И в моей груди расцвело тогда
Чувство яркое нежной любви...**
Трескунов был сонный, но счастливый. Живой. Чудесный. Саша хотел звонко смеяться, разбито плакать и тихо подпевать, ведь сегодня, именно в этот час и миг, он потерялся в чувствах, забылся, заблудился и бесследно исчез. Любовь, благо и жизнь - вечны. Они в человеке, в его крови, у него под кожей. Ими творится мир и войны, ими правят цари, им принесен в жертву весь род людской. Саша знал эту истину наизусть. Она неизменно хранилась в его мыслях, словах и действиях, эта правда владела и управляла им, это была аксиома, не требующая доказательств.
Саша любил, Саша боготворил, Саша, наконец-то, жил. То шептали ему его собственные голоса, которым парень внимал, внимал жадно и охотно, и голоса, чувствуя превосходство, твердили вновь, из раза в раз:
Жизнь в тебе, и сам ты - первое творение Божье.
Любовь, благо и жизнь - вечны.
Сие есть счастье, и оно отныне царит в тебе.
Несомненно, это чувство, что оглушало его звоном пения, было счастьем, голоса не врали. Но также, это счастье было чем-то больше. Новым, незнакомым. Неизвестным, и потому - страшным. Счастье Сашу слегка пугало. Он сделал вдох перед партией альтов и продолжил наслаждаться пением переливчатых голосов.
Спроси Трескунова в тот момент - он бы не смог вспомнить, как оказался в зале. Последний год в стенах любимой школы, множество новых впечатлений, встреч, открытий, экзамены и предстоящий выпускной вечер - все это окружило его, сбило с толку и отняло возможность по-настоящему ощущать дивный прекрасный мир. Музыка исцелила слепоту, немоту и наготу чувств. Воскресила дух и укрепила его бренное тело.
И теперь, когда песнь текла горным ручейком, веяла прохладой, весна казалась спасением, а не неумолимым приближением конца. Он видел будущее, светлое и безоблачное, чарующее нежным теплом и зелёным душистым маем. Всё вокруг Сашеньки завертелось, закружилось и, - о, боги, запело! - и вот уже Трескунов стоит на пороге нового дня, смотрит, как мир меняется до неузнаваемости, дразнит, а не пугает неизвестностью и таинственностью. Конечно, если Саша не был в ту секунду самоопределения столь оглушительно и безумно счастливым, он вспомнил бы, что оказался в зале не случайно.
Саша Трескунов не умел петь. Теперь жалел. Хотелось подхватить мужскую партию и защебетать, как соловей, ощутить кровь в венах, а жизнь - на кончиках пальцев, потрогать счастье, касаясь сердцем. Но не мог. Сашенька пару раз за время урока беззвучно открывал рот, вытягивая губы в идеальную букву "о", дышал полной грудью, (почти задыхаясь от новых чувств) но все равно молчал. Голоса не молчали. Хор не молчал. Всё пело:
Чувствуй. Ощущай. Осязай любовь, благо и жизнь. Всё самое прекрасное - в нас самих.
Жизнь в тебе, и сам ты - первое творение Божье.
Пока музыка плавилась золотистым светом, Саша долго, завороженно рассматривал хористов: сопрано и альты стояли на шатких деревянных скамьях, и, Боже, нельзя было придумать более хрупкую и неустойчивую опору! Но хор продолжал петь, несмотря ни на что. Мальчики-хулиганы, а теперь прилежные ученики в праздничной форме с ангельскими голосами, и, да, это были маленькие талантливые сорванцы. Пробежавшись по ребятам быстрым поверхностным взглядом, Трескунов смог установить, что хор исключительно мужской, а ученикам не больше десяти лет. Сашенька слегка пошатнулся от осознания того, какими прекрасными и гениальными могут быть обычные несмышлёные дети. Как они близки к небесам, и как, порой, далёки от земли. Саша давно пришёл к выводу, что возраст, пол и внешность людей не имеет никакого значения. Есть ли разница - поёт мужчина или женщина? Ребёнок или взрослый? Красив ли, худ ли, страшен ли - не важно, ибо все равны, все прекрасны, любимы и живы.
Осязай любовь, благо и жизнь. Всё самое прекрасное - в нас самих.
Жизнь в тебе, и сам ты - первое творение Божье.
Хор не мыслим без учителя и наставника, как агнцы Божие не могут существовать без своего любимого пастыря. Иисус говорил: "Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец"***. Саша читал Библию, знал Иисуса, но жил, согласно собственным представлениям, более хорошим, более правильным, прекрасным и совершенным. И пока хор заливался трелью, голоса Саши вещали:
Жизнь в тебе, и сам ты - первое творение Божье.
Вдох.
Здравствуй, мой милый пастырь, здравствуй, мой юный друг.
Выдох.
Пастырь был, и был прекрасным, светлым, чудесным и молодым. Учитель стоял перед хором, спиной к Саше, подпевая маленьким хористам, но лик его, нежное бледное лицо наставника маячило перед глазами Трескунова, было в его мыслях, словах и действиях.
Увиденная картина была... ошеломительной. Оглушительной во всех отношениях, во всех смыслах. Это чувство было сильнее Саши, сильнее всего, что можно себе представить. Его нельзя было передать ничем, ни на одном языке и наречии мира не было и никогда не будет эквивалента особым, исключительным ощущениям. Саша почти умер от счастья и эйфории, и воскрес, оживая, когда пастырь, добрый учитель, внезапно повернулся к нему лицом.
Хор пел, а глаза - чистые, лучистые, цвета крапчатой яшмы - устремились к Саше ясным прямым взором. Взгляд нежный, тёплый, но серьёзный, без тени веселья, и если в очах напротив можно было отыскать искры, то это были искры полыхающего огня, согревающего сердце юноши. Саша глядел, хлопая ресницами: пастырь был красив, бесспорно и абсолютно. Учитель продолжал смотреть на Трескунова еще мгновение, а потом что-то в нем бесповоротно сломалось. Жизнь расцвела в человеке, как прорастают хризантемы в школьном саду, и любовь, и благо - воскресли в нём.
Добрый пастырь, как ты милосерден к своим агнцам! Ты строг, но справедлив, и взгляд твой смягчается от любви к нам, овцам твоим. Скажи, защитишь ли нас? Спасёшь ли, направишь на верный путь? Ведь без тебя мы не справимся: на свете слишком много ложных дорог и троп, а опора под ногами - хрупкая, шаткая, кажется, стоит один раз оступиться - и ты упадёшь. Добрый пастырь, любовь, благо и жизнь - есть ты. Воплощение в теле и духе. И мы последуем за тобой, если скажешь: иди. И воскликнем, если прикажешь: пой.
Иди. Пой.
Чувствуй. Ощущай. Осязай любовь, благо и жизнь. Всё прекрасное - в нас самих.
Жизнь в тебе, и сам ты - первое творение Божье.
Саша тихо и жалобно заплакал, ибо чувствовал и осязал любовь и жизнь слишком сильно, чтобы выдержать, не сломавшись. Учитель взаправду переменился, быстро и внезапно: свет в глазах робкий, огонь тёплый, тлеющий, а не сжигающий. Лицо озарилось улыбкой - мягкой и грустной. Каштановые длинные волосы, вьющиеся морской волной, легли на плечи. Образ доброго пастыря уничтожил Сашу, растоптал, разбил и стёр с лица земли, и искренность, радость и кротость учителя сломила в мальчишке всё прекрасное и живое. Где-то внутри грудной клетки пряталось сердце, и в нем - большом, огромном, трепыхающемся сердечке - тлела надежда: может, так и должно быть?
Любовь, благо и жизнь - вечны. Они в человеке, в его крови, у него под кожей. Ими творится мир и войны, ими правят цари, им принесен в жертву весь род людской. Саша знал эту истину наизусть.
Саша не знал, что этой истиной можно убить.
Солнце ласково касалось веснушек Трескунова, вытирая с румяных щек солёные прозрачные слёзы. Он дёрнулся вытирать рукавом куртки воспалённые глаза, с ужасом понимая, что плачет. Он, взрослый человек, - и плачет! Да и отчего - от любви и доброты? От чудесного счастья и кроткого светлого пастыря?
Боже! Учитель и наставник, куда он направил его, агнца своего? Где он теперь - страдающий, разбитый, плачущий по собственной силе и независимости? Теперь Саша слаб, безмерно, ужасно слаб, и он ягнёнок - бедный и беспомощный - во власти пастыря своего.
Маленький мальчик почувствовал жизнь на кончиках своих пальцев, коснулся сердцем любви, доброты и искренности и разбился вдребезги, заблудился в свете и не нашел дорогу обратно. Можно ли затеряться в Боге? Веря искренне, исказить истины до неузнаваемости? Удивительность человеческой правды - в её ложности. Бог един, Бог строг, но справедлив, он добрый пастырь, но люди извратили ту же истину, что сами когда-то и создали.
Жизнь в тебе, и сам ты - первое творение Божье.
Нет, стойте. Первым было дыхание. Дыхание - признак жизни. Пение - его следствие.
Итак, в начале был вдох.
Или нет?
Что было первым? Что было в начале?
Первое, что он услышал в зале школьного хора, было дыхание. Саша отлично помнил, с чего все началось, всё началось с вдоха.
Вдох.
И вот, он живой, слышит, чувствует, видит, как щебечут, заливаясь трелью, сорванцы. А что было до вдоха? До звука? До первого взгляда пастыря, который он в полной мере смог ощутить на себе? Сашенька ожил, когда запел хор. Что было до его рождения (настоящего, истинного, божественного), он не помнил.
— Я не помню. Не помню. — Саша задрожал, затрепетал от страха и непонимания. Он судорожно вдыхал и выдыхал воздух, и призрачное счастье и эйфория растворились в панике и испуге. — Почему хор не поёт?
Саша испугался - было страшно до ужаса, до дрожи в коленях, до холодного пота, выступившего на лбу. Так происходит всегда, когда всё, во что ты веришь - идёт прахом. Он уже собрался уйти, исчезнуть, податься в бега, растворившись в тумане субботнего утра, как вдруг рука, сильная, властная и одновременно с тем ласковая - легла на его спину, останавливая. Ладонь переместилась на худое мальчишеское плечо, нежно погладила и сжала его, прося обернуться.
Почему хор не поёт?
Весь мир замер в этот момент. Саша плечом ощущал чужую руку. Твёрдую, но не причиняющую боль. Это было событие, такое страшное и важное для одного человека, как для всего рода людского мог значить миг, начинающий войны, решающий судьбу, рождающий революции, но в этом касании не было ничего опасного.
Сон наяву и явление чуда народу.
Сие есть счастье, и оно отныне царит в тебе.
Трескунов словно очнулся. Его будто выдернули из сна, разбудили, как будят лунатиков тёмной ночью. Когда Сашенька усомнился в собственной правде, его словно облили кипятком и толкнули в бездну или пропасть. Всё закончилось, когда Сашенька обернулся и услышал:
— Закрой глаза. Ничего не бойся. Я с тобой.
И всё встало на свои места. Теперь он видел свет, чувствовал жизнь на кончике своих пальцев и знал, что любовь, благо и жизнь - вечны. Он был всеведущ, зряч и мудр, как царь Соломон, добр, как царь Давид, и кроток, как первый агнец Божий. Голос и длань пастыря исцелили его. Правда была светом. Саша свой свет нашёл.
Рука на его плече напряглась, будто напоминая, что времени на раздумья уже не осталось. Сашенька глянул на учителя - тот улыбался, кротко и дружелюбно, и голос вещал Трескунову, приказывая:
— Иди и сделай это. Пой. Живи. Жизнь в тебе, и сам ты - первое творение Божье. Сделай это. Ну же. Давай.
Саша успокоился, плавные линии мягко соединились на его обветренных губах в тонкую солнечную улыбку. Он закрыл глаза и затаил дыхание, набираясь храбрости. Он знал, он помнил - учитель рядом. Чтобы ни случилось, чтобы ни произошло, наставник не оставит агнца Божьего, а направит, защитит и спасет.
Было страшно, но совсем чуть-чуть. Трескунов знал - первый шаг самый сложный. Нужно лишь пережить это. Вытерпеть, выдержать. Так говорит добрый пастырь. Так нужно сделать.
Саша замер, и глубоко, медленно глотнул воздуха.
Вдох.
А после - было большое необъятное ничего, и тьма в памяти захлестнула его с ног до головы.
Почему хор не поёт?
Он прислушался — хор молчал.
Хризантемы отцвели.
Солнце село.
Добрый пастырь покинул его.
* - первая строка Евангелия от Иоанна.
** - слова из романса Н. И. Харито "Отцвели уж давно хризантемы в саду..."
*** - Евангелие от Иоанна 10 глава, 11 стих.